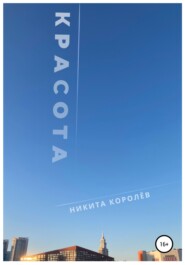По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На кромке сна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако, если развеять лишнюю скромность, он считал себя именно что особенным. Той самой душой, которая тоньше всех ощущает каждый свой изгиб, яснее всех осознает себя. Ее не берет алкоголь – об этом говорили ударные дозы, употребленные Паней в минуты любовных переживаний, глупейших и пошлейших, как уже потом, оправившись, он о них думал. Другие умопомрачительные состояния тоже не давали Пане без остатка в них растворяться. В гневе, в похоти, в слюнявом веселье Паня будто бы различал шаблон, попав под который, он рискует стать ходячим клише из очень плохих фильмов. Но вместе с тем, он различал поведенческий шаблон и из очень хороших, соответствие которому сводилось к его разрыву. Прыщавый утенок в очках оказался прекрасным лебедем на школьном балу, тупоголовый задира оказался ранимой глубокой натурой, а пятьдесят миллионов бюджета обратились в пятьсот с мирового проката, и это еще без учета китайской кассы. От новых безрассудств Паню это «шестое чувство» не уберегало, но повергало в настоящее похмелье, лишенное разве что физиологической симптоматики, но неминуемо наступавшее за кульминацией всякого рода наваждений, в которых, как с монашеской отрешенностью обнаружил Паня, и проходит большая часть жизни человека разумного.
Спасение, как казалось наивному Пане, он нашел в том, чтобы по возможности чаще комментировать свои действия, особенно мелкие и якобы выдававшие в нем то, что он сам мог пропустить, если бы был, что называется, бессознательным существом. Чаще всего эти комментарии сводились к самоиронии или театрализованной рефлексии – одним словом, к попытке сломать четвертую стену, отлепиться от своей роли, в которую его впрягают страхи, личные интересы, самомнения и прочий грим.
В этом всем, на первый взгляд, открывался широкий простор для духовного роста, самосовершенствования, но на практике Паня просто пытался договориться со своей совестью, при этом не имея веских доводов, почему она должна грызть не его, а кого-то еще, – и порой он как бы размельчался до какого-то совсем уж смешного метания между кинематографической позой и жизненной прозой. И всегда из этого надрыва, как из гейзера, исторгались смех, сарказм и другие попытки обесценивания действительности. Очень для Пани тяжелые, изнурительные, но так ему нужные.
Когда в переходе на него шел зловонный бомж и просил мелочи, а Паня был в компании друзей, он старался быть оригинальным в ответах, называя бродягу братом, хоть того следующей же ночью мог убить мороз, а Паня бы ничего об этом не узнал. Когда школьный охранник громко орал своим хриплым от жира и сигарет голосом на него или на его друзей, он выжимал из себя насмешливую улыбку. Когда надо было просто опустить голову и стерпеть, Паня всегда искал лазейку для потешки, пока его самого или кого-то из близких, извините, не замешивало. Тогда он уже начинал корчить серьезность, озабоченность и участие, которые тоже, конечно, ничего общего с правдой не имели и давались Пане с немалым актерским усилием.
Да, Паня действительно считал себя особенным, но эти мысли о собственной исключительности были чем-то вроде поплавка, растворяющегося в утреннем тумане над водой. Неопределенные, незаконченные. Паня просто знал, что эта исключительность есть, раз леска куда-то тянется. Но иногда туман рассеивался, и тогда Паня просто не понимал, что он видит перед собой, или понимал, но не признавался в этом даже самому себе. И сейчас был как раз тот самый случай.
– Извините, а что я сделал не так?
– Ты зачем-то думал о пальцах, о том, как ты на них смотришь, тогда как на них надо было просто смотреть. И все. Как ни странно, чтобы просто смотреть, нужны годы практики, люди в монастыри уходят, чтобы овладеть должным самоконтролем, – говорил фокусник. – Но начать можно с самого простого – с вопроса, который я тебе сейчас задам.
Теперь уже Паня был белым кроликом, а мужчины в стороне – ухмыляющейся публикой.
– Готов?
– Да, – не совсем честно ответил Паня.
– Кто ты?
– Я?.. я Пантелеймон… То есть Паня.
– Нет, это твое имя. Кто ты? – вопрос звучал, как диктофонная запись, воспроизведенная по-новой.
– Ладно, я ученик, музыкант, начинающий писатель, – ответил Паня, немного смущаясь громкости этих статусов, и оттого говоря с некоторым нажимом.
– Мило, конечно, но все это – род твоей деятельности.
– Человек! – терял терпение Паня.
– Биологический вид. Так кто же ты?
Паня знал, что сейчас его звездный час. Казалось, разбить противника было так просто, словно он каждый день только этим и занимался и имел в этом даже излишнее мастерство. Но вот это «легко в бою» оказалось настолько легким, что взять верх в этой схватке мешала исключительно какая-то вселенская подлость, сующая свой измазанный дегтем нос в особенно большие бочки с медом. Все это до боли напоминало видео с качком в раздевалке, где тому припечатывают к спине дилдо на присоске, а он, качок, настолько мускулистый, что не может до него дотянуться.
Паня взял передышку, чтобы зайти с нового фланга.
– Я носитель уникальных качеств…
– Извини, а ты что, в пробирке вырос, в эксклюзивном бульоне? – перебил его фокусник с присущей только пьяному беспардонностью, – да и в чем их уникальность? В их последовательности? Скоро все будут смотреть и слушать одно и то же. Это значит, что тебя и меня больше не будет?
– Нет, хорошо, так… Я душа внутри мясной оболочки, осознающая себя сущность.
– Понятно… – выдохнул фокусник, – а кого осознает эта твоя осознающность?
– Себя… – надломленным голосом протянул Паня.
– А себя – это кого?
Пане вспомнился один эпизод из его первоклассного (не в смысле качества) детства. Прямо под домом, уже после переезда в мамину квартиру, была школа. Про нее ходило множество пикантных слухов, поэтому мама ценой нескольких минут сна каждым будничным утром отдала Паню в школу через дорогу. Во дворе этой, под домом, он просто гулял: зимой катался на коньках, а летом играл с ребятами в прятки и футбол. Друзей у Пани там почти не было, и во все нужные круги его вводил один парень помладше, сын соседки, маминой знакомой.
И тогда, в тот летний день, Паня чеканил мячик перед входом в школу. Ребята то ли играли на заднем дворе, то ли уже все разошлись. Сквозным путем через двор шли двое взрослых – старшаки или даже студенты. Они подошли к Пане. Один остался в стороне, а второй предложил Пане немного поводиться. Он не видел, как до этого ребята подбивали друг друга в бока, словно волчата, и гыгыкали – увлеченный чеканкой, он заметил их только перед собой.
Паня принял вызов и повел свой темно-синий мяч по широкой дуге, надеясь взять скоростью. Но в следующее мгновение с ним произошло что-то странное. Он словно попал в силки, сплетенные из его собственных ног и мяча, однако сплетенные не им самим, а какой-то третьей силой, с подлым, преступным мастерством. А еще через миг мячик медленно катился в сторону, словно вовсе был ни при чем, ребята шли дальше со схожим выражением, хрюкая от прорывавшегося смеха, а Паня сидел на асфальте, с позорно раскинутыми ногами.
Сейчас он испытывал тот же букет чувств, что и тогда, десять лет назад. Даже не стыд, нет – обескураженность, конфуз и ощущение собственной ничтожности. Хуже всего то, что они будто бы обнажали ту Панину суть, то его естество, которое было при нем всегда, а сейчас лишь произошло разочарование, избавление от чар самонадеянности, которые, как банка мелатонина на прикроватной тумбочке каждого адепта американской мечты, помогали засыпать по ночам и вести дальше это подлую игру. Паня не просто оплошал – он вдобавок еще и понял, что оплошности и есть настоящее правило его жизни, его кредо, с которыми он медленно идет ко дну, теша себя скудными проблесками исключений.
Фокусник тем временем уже снова стоял возле своих друзей и показывал какой-то новый фокус. «Вот взять, допустим, это здание…» – сказал он с ощутимым натугом в голосе, после чего глубоко вдохнул, расставил руки, как Христос в Рио, – и застыл. В его позе было не расслабление, а, скорее, высоковольтное напряжение.
Поняв, что ничего с «этим зданием» не происходит, он вскоре расслабился, перевел дух и со словами «Нет, вот сейчас…» предпринял еще одну попытку. Снова ничего не произошло. «Нет, я сейчас слишком пьян» – заключил фокусник, наконец сдавшись.
– С чего мне начать? – спросил Паня, стоя чуть не впритык к его спине.
Будь фокусник трезв, повернувшись, он сделал был шаг назад, но сейчас он говорил в какой-то небрежной близи от Паниного лица, так что Паня различал каждую нотку забродившего чесночно-шампанского духа.
– Книги, начни с них. Тимоти Лири…
– Как-как еще раз? – Паня открывал «Заметки» в телефоне.
– Ти-мо-ти Ли-ри, – повторил фокусник по слогам.
– Угу…
– Дальше – Альберт Антон Вилсон, книга называется «Психология эволюции», у Мартина Хайдеггера – «Дазайн», «Да-зайн».
Паня печатал, забыв обо всем на свете – в этих книгах он уже видел новое дело, нового себя, новый период его жизни.
– «Растение Богов», но только если ты начнешь, обратно уже не будет дороги, там про запретных Богов, за это знание могли убить…
– Хорош уже, пошли давай, харе парня грузить, – сказал один из друзей, а другой, вероятно, корча из себя пьяного, подхватил фокусника и потащил его к лестнице, словно бы обещая ему этим панибратским движением продолжение банкета.
– О, и Кафку, Кафку почитай – «Чистое сознание»! – выкрикивал фокусник, уводимый под руки. Паня, как придворный писарь, вслепую поплелся за ним.
– Найди меня на фейсбуке, Денис…
Но Паня не услышал фамилию, потому что теперь уже ему на плечо легла чья-то рука.
– Ты куда подевался? А мы тебя везде ищем… – в шутливом замешательстве говорила девушка-экскурсовод. Панины одноклассники стояли за ней, глазеющие с какими-то неопределившимися улыбками, по-видимому, только примеряя на Пане возможные шутки. Он повернулся к лестнице, откуда открывался вид на второй этаж с мягкими кольцами скамеек и креслами-мешками, но из-за сдвинутых портьер был виден только узкий проход между ними и стеклянной стеной конференц-зала, в котором никого из труппы артистов не было.
Весь недолгий путь до школы, проделанный на троллейбусе, Паня ни с кем из ребят не разговаривал. Он смотрел в пыльное окно, за которым в осенней мокрой темноте ползла бесконечная полоса тротуара, и тревога на его лице сменялась обреченным спокойствием и обратно; а иногда он, словно опомнившись, рывком доставал телефон и что-то записывал. Когда они подъехали к остановке у школы, Паня с трудом разогнул затекшую спину, а как только встал, маслянистые пятна застелили глаза, в ушах зазвенело, и возникло ощущение, будто кто-то льет прохладную воду на мозг. Паня все это время сидел в застегнутой куртке, на месте, под которым гудел обогреватель. Раскрасневшееся лицо обдало уличной прохладой, а пот, незаметно пропитавший одежду, сделал ее вдруг мокрой и холодной, но рябь и звон не проходили. Напротив, после нескольких шагов они сгустились настолько, что незаметно исчезли, сменившись ничем.
«Оглядитесь вокруг, – говорила сырая липкая темнота, от баса которой трепетал, норовя вывернуться, желудок. – Если вы видите людей, ходящих будто бы по заранее заданным траекториям, подло вовлеченных в дикое гоготание, брачные игры или разговор о деньгах, даже не замечая, какую грязь они месят своими ботинками; если вокруг одна серость и пыль, а краски будто утекли на рекламные баннеры, продающие их вам по подписке; если все, кого вы знаете, медленно и мучительно умирают, но упорно делают вид, что ничего не происходит, а по городу уже под угрозой отравления выхлопами и гарью невозможно передвигаться без горизонтальных и вертикальных лифтов, скорее всего, вы смотрите это, находясь в самом нижнем из миров.
Искусство не просвещает, а сдерживает вас, дурманя веселой песенкой, от отчаянной конвульсии, какая вас ждет, когда вы посмотрите вокруг без трепета маленького ребенка перед американскими горками. Еда делает вас ленивыми и неповоротливыми тюленями, чей жирный зад ловко подхватит такси, подлетевшее прямо к Макдональдсу. Разочаровавшись в бетонном черепе, по которому вы ползаете, как трупные черви, вы скорее лезете в телефон, потому что только в сети до вас будто бы есть кому-то дело. Городу же все равно, замерзаешь ли ты в грязной лачуге или потчуешь на стеклянно-бетонной крыше мира. Потому что только в сети есть еще обещание завтрашнего «лучше», хоть и каждый раз нарушаемое. Ведь город его уже даже не дает. Потому что только в сети есть веселый праздник, развлекательная программа, сенсации, общественный резонанс и громкие премьеры.
Улицы города повисли мертвой заставкой, шипящей белым шумом, на них происходят только аварии и катастрофы, тут же уносящиеся в сеть; по ним, в едком свете фонарей, шастают ссутуленные беглые тени в капюшонах из синтетического меха. По переходам и подворотням сидят попрошайки и бродяги. Ты смотришь на одного из них и мысленно кричишь: «Беги! Беги в леса, в поля, построй там хижину, разведи скот, засей землю! Это нам есть, что терять, это мы вплетены корнями ипотек, контрактов и договоров к этой бренной, выеденной асфальтом земле. Но ты… У тебя весь мир как на ладони – твой скудный хлеб ждет тебя везде – это наши желудки изнежены изысканной пищей». Но он, бродяга, потеряв все, опустившись на самое дно, позорно побираясь и довольствуясь отбросами, не хочет хорошей жизни, не хочет счастья. Он хочет тянуть свое существование, пока густая, зацветшая от алкоголя кровь в его теле еще хоть как-то проползает по засорившимся жилам, а кости еще хоть сколько-то прикрыты прокаженной кожей. И хочет-то даже не он – он давно умер, утонув в одной из миллиона «последних» бутылок. Хочет его тело, вгрызшееся в жизнь с жадностью, с какой оно делало первый вдох. Оно еще чего-то ждет, на что-то надеется, потому что научено жизнью, что из проезжающих машин иногда выбрасывают объедки. И ты ничем не сможешь ему помочь, как и агонизирующему в дымном удушье миру.
Но бывало ли у вас чувство, когда на очередном повороте мысли вас словно бы выносит за границы познанного вами мира, как гонщика Формулы-1, не вписавшегося в вираж, – на обочину, где нет никого и ничего, включая вас самих? Словно бы вы на мгновение, подумав о чем-то потустороннем, чего нет, пожалуй, и во всей Вселенной, сумели мысленно попасть в зазор реальности, в маленькую прореху, на стенках которой остается и сама мысль. Всего на мгновение, так что вы даже не успели ничего понять, но после него весь мир вокруг, даже собственное «я», становится какой-то непривычной передачей, включенной на середине, на полуслове. Если вам знакомо то, что я только что тщетно попытался описать, должен вас поздравить – вы испытывали то, что можно поймать словами так же, как воздух – сачком, вы были там, за порогом чего остается бытующий. Вы были в прекрасном мире».
Другие электронные книги автора Никита Королёв
Другие аудиокниги автора Никита Королёв
Друг




 0
0