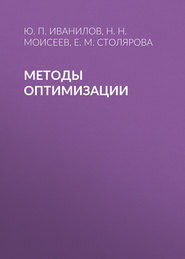По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как далеко до завтрашнего дня… Свободные размышления 1917–1993. Вехи-2000. Заметки о русской интеллигенции кануна нового века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во время войны возникали и другие опасные для моей жизни ситуации, из которых я более или мене успешно выкрутился. Но они носили скорее приключенческий, чем судьбоносный характер и более говорили о пользе, которую приносит юношам занятие настоящим спортом, чем о роли случайности в моей судьбе.
Но один раз действительно случайность в облике лени или недоработки одного из чиновников по-настоящему спасла мне жизнь. Но об этом эпизоде я узнал гораздо позже и совершенно случайно, уже в благополучные пятидесятые годы…
Неразорвавшиеся бомбы и поцелуй Иуды
В 1955 году я был назначен деканом аэромеханического факультета Московского физико-технического института. На этом факультете готовили специалистов для работы в аэрокосмической промышленности. Наши выпускники шли в самые престижные и самые закрытые конструкторские бюро, работа в которых требовала очень хорошей подготовки. Надо сказать, что и учили мы их соответственно, по-настоящему! Если к этому добавить огромный конкурсный отбор, который в те годы был обычным явлением для Физтеха, то имидж нашего выпускника – сочетание способностей и высокого профессионализма – был общепризнанным. В последующие годы я много бывал за границей, где участвовал в бесчисленном количестве семинаров и конференций, читал лекции в престижных университетах, и могу объективно сравнивать уровень западных и наших молодых специалистов. Технические успехи пятидесятых и шестидесятых годов я связываю, прежде всего, с превосходством наших инженерно-технических кадров. Качество подготовки молодых специалистов во многом компенсировало плохую организацию, отраслевой монополизм и лень чиновного аппарата (впрочем, ничуть не меньшую, чем бездарность, с которой мне приходилось сталкиваться в Америке или Франции). И наблюдая все это, не раз думалось: если бы тогда, в пятидесятых годах, весь этот интеллект и всю энергию да в хорошие бы руки…
Быть деканом аэромеха в те годы означало быть причастным к сверхсекретам аэрокосмической, да и ядерной техники. Впрочем, как мы теперь понимаем, настоящей тайной государства в то время были не технические секреты, а затраты на обеспечение коммунистического режима. Для того чтобы иметь право выполнять свои обязанности, я должен был получить соответствующий формальный допуск, который оформлялся органами госбезопасности по представлению администрации.
Необходимые документы МФТИ подготовил, они ушли, куда следует, время шло и… никакого ответа! Я начал работать, а начальство начало беспокоиться, ибо имело место прямое нарушение железного порядка: допуск к работе без оформления нужной формы допуска.
Ректором МФТИ был тогда генерал-лейтенант Петров Иван Федорович – в прошлом матрос, «штурмовавший» Зимний дворец, в прошлом известный летчик, в прошлом начальник ЦАГИ, в прошлом командующий авиацией Северного флота, в прошлом начальник авиации Северного морского пути и прочая и прочая. И отовсюду его снимали. Как-то он мне доверительно сказал (правда, уже после XX съезда): «Все спрашивают, почему меня все-таки ни разу не арестовали? Я и сам этого не понимаю. Вот я и придумал ответ: потому что меня вовремя снимали». При всей его матросской «интеллигентности», при том, что он был истинным сыном своего времени, И. Ф. Петров был абсолютно уважаемым человеком.
Он сделал много хорошего для тех учреждений, которыми руководил – потому его, наверное, и снимали с работы. Так, он вывез ЦАГИ из тесных помещений на улице Радио и создал в Жуковском современный центр авиационной науки (до сих пор принято говорить о «допетровском» и «послепетровском» ЦАГИ). Но главным его достоинством была искренность побуждений, которой люди верили, несмотря на изрядную долю присущей ему крестьянской хитрецы. Он умел подбирать людей и защищать их. Благодаря чему у него было много настоящих, искренних друзей, и многие, многие его вспоминают добрым словом. Будучи начальником ЦАГИ, он, например, на свой страх и риск допустил М. В. Келдыша – будущего президента Академии наук СССР и будущего Главного теоретика советской космической техники – до работы в ЦАГИ, хотя тому, сыну генерала и внуку генерала, в конце тридцатых годов тоже не давали допуска к секретной работе. А вот теперь и я оказался в похожем положении: он на свой страх и риск разрешил мне начать работу без допуска нужной формы, что могло грозить ему самыми разными осложнениями.
Так вот, однажды, когда дальнейшее ожидание могло грозить руководству МФТИ серьезнейшими неприятностями, Иван Федорович сам поехал на Лубянку. Он знал, как и с кем надо разговаривать. Петров получил возможность прочитать мое досье, в котором, по его словам, увидел элементарный донос, донос «особняка», некоего старшего лейтенанта, начальника СМЕРШ того авиационного полка, в котором я прослужил всю войну. Уже не помню его фамилию. Но хорошо помню, как этот «особняк» стремился быть в числе моих друзей. Часто приходил ко мне. Я поил его спиртом, благо этого добра у меня было сколько угодно. Да и закусь у меня водилась – уж очень хозяйственным мужиком был мой старшина.
Будучи инженером полка по вооружению, я, тем не менее, не любил жить вместе с полковым штабом. Устраивался обычно поближе к самолетам вместе со старшиной Елисеевым, бывшим колхозным шофером, мужиком добрым и умельцем на все руки. Он был у меня шофером, писарем и одновременно папой и мамой. Он был ровно в два раза старше меня и, действительно, относился ко мне по-отечески. Иногда забывался и обращался ко мне «сынок». Так вот, Елисеич, как я его называл, терпеть не мог нашего «особняка». «У-у-у, гнида, любит на дармовщину» (выражение «на халяву» тогда еще не использовали). Спирта он не жалел – казенный. Но луковицу и ломоть хлеба на закуску приходилось вытягивать из Елисеева клещами.
«Особняк» никогда не напивался, и мы вели долгие и, вообще говоря, добрые беседы. Он был чудовищно невежествен и с видимым удовольствием и интересом расспрашивал меня, о чем угодно. Говорили мы и о русской истории, и о литературе. Всю войну в моем вещевом мешке вместе с домашним свитером и шерстяными носками лежал томик «Антология русских поэтов», который я купил в городе Троицке Челябинской области перед самым вылетом на фронт. Мы иногда читали что-нибудь вслух. Иногда одно и то же по многу раз. Мы оба очень любили «Вакхическую песнь». Я иногда пробовал что-то сочинять. Мне казалось, что и он тоже: во всяком случае, он хорошо чувствовал музыку русского стиха. Однажды я вернулся с передовой, где целую неделю пробыл в качестве офицера связи нашей авиадивизии. Елисеич был рад моему возвращению, где-то раздобыл банку свиной тушенки, и мы собрались с ним отметить мое благополучное возвращение. И тут в мою землянку ввалился «особняк». В тот вечер его приход не испортил настроения даже Елисееву. Мы тогда, как помню, очень славно выпили. Во время моего дежурства на КП, откуда, если понадобится, я должен был держать связь с авиационным начальством, я написал вот такие стихи:
С утра пушистая зима
Одела праздничным убором
И лес и поле. Из окна
Видны холмистые просторы.
Ковер усыпан серебром,
Блестящим радостным огнем
Бесчисленных песчинок света.
И бруствер снегом занесен,
И танк, как белая громада
На минном поле, заснежен.
Разрыв последнего снаряда.
И снова в мире тишина.
Светла, прекрасна и ясна
Улыбка зимнего рассвета.
«Особняк» был первым и, может быть, единственным человеком, которому я прочитал эти стихи. Он слушал внимательно и, как мне казалось, вполне искренне сказал мне какие-то добрые слова. Я доверял ему. Особенно после того вечера, когда капитан, старший лейтенант и старшина под американскую свиную тушенку выпили хорошую дозу казенного спирта. У меня начали складываться с «особняком» отношения, похожие на дружеские. И я даже говорил моему закадычному другу, отличному летчику и доброму, смелому человеку, старшему лейтенанту Володе Кравченко: вот и «особняки» бывают людьми. Но Володя относился к нему совсем по-другому и не раз говорил: «Не может нормальный парень залезть в шкуру «особняка». Вот потребуют от него процента раскрываемости шпионов, и продаст он тебя за милую душу». Под воздействием таких слов я все-таки немного остерегался неожиданного друга-«особняка», не выкладывая ему все, о чем хотелось поговорить. И, как оказалось, совсем не зря!
Наш полк в 1944 году стал получать трофейные авиабомбы. В отличие от наших, они требовали боковых взрывателей. Немцы использовали электрические взрыватели без ветрянок. У нас их не было – мы должны были использовать механические взрыватели. У таких взрывателей ось ветрянки была перпендикулярной боковой поверхности бомбы. Подобные взрыватели использовались в русской армии в первую мировую войну – это так называемые взрыватели Орановского. На наше счастье оказалось, что на военных складах еще со времен самолета «Илья Муромец» сохранилось довольно много таких взрывателей, и они начали поступать в полки. Но с использованием взрывателей Орановского дело гладко не пошло. Очень часто сброшенные авиабомбы по неизвестной причине не взрывались, хотя сами взрыватели были безусловно исправными.
Начальство заволновалось и начало издавать грозные приказы, в которых вина за отказы, само собой разумеется, приписывалась стрелочникам. В приказах приводились одни и те же аргументы: небрежность в подготовке авиационного оружия, нарушение инструкций по эксплуатации. На бедных оружейников сыпались довольно жесткие наказания. Особенно неистовствовал мой непосредственный начальник, главный инженер по вооружению пятнадцатой воздушной армии полковник Тронза, педантичный жестокий латыш, из тех, которые делали русскую революцию в 1917 году. И вот он добрался до нас. Прилетел однажды в полк на У-2 вместе со своим механиком. Демонстративно при всех снарядил несколько бомб, взлетел на том же У-2 и сбросил их на ближайшем болоте. Все бомбы взорвались!
Тронза публично обвинил меня в предательстве рабоче-крестьянского государства (не Родины, а государства!), отстранил от должности и приказал отдать под суд. Одновременно он сказал, что уже давно собирался прислать нового инженера полка. Каждый знал, чем мне грозит происшедшее: по существу, это был смертный приговор.
Я ничего не мог понять. Мы, готовя бомбы, делали все то же самое, что делали нагрянувший полковник и его механик. Но у нас бомбы почему-то не взрывались! В мучительном поиске решения, от которого зависела моя жизнь, неожиданная помощь пришла от Елисеева. Он сидел в другом конце избы и мрачно смотрел на улицу. Неожиданно он повернулся ко мне с каким-то просветленным лицом: «Товарищ капитан, может все потому, что он бомбил с У-2?» И меня осенило.
Скорость наших самолетов была в пять раз больше скорости знаменитого «кукурузника». Значит, сопротивление воздуха лопастям ветрянки взрывателя будет больше в двадцать пять раз. Значит, нагрузка на ветрянку станет больше тоже в двадцать пять раз. Да такая сила просто согнет ось ветрянки, она ее заклинит. Ветрянка не вывернется, и взрыватель не взведется. Вот и все! Надо только уменьшить нагрузку на лопасти ветрянки. А для этого достаточно кусачками откусить все ее лопасти, кроме двух симметричных. Для того чтобы это понять, не надо было быть инженером.
Позднее за эту догадку меня публично поблагодарит – нет, не полковник Тронза, с ним никогда больше судьба меня не сведет – сам командующий армией генерал-лейтенант Науменко. Предложенный способ «откусывания лишних лопастей» станет широко использоваться и в других полках, а сбрасываемые бомбы перестанут «не взрываться». Но это произойдет несколько позже, а тогда – тогда я без оглядки побежал к командиру полка. Он сразу все понял, крепко выругался, вспомнив и меня, и Тронзу, и наших родителей. Мы мгновенно поехали на летное поле. Я сам подготовил бомбы, дрожащими от волнения руками откусил лишние лопасти, и самолет командира ушел в воздух. И на том же болоте взорвались все шесть бомб!
Когда командир выходил из самолета, неожиданно появился Тронза. Он уже собирался улетать из полка, когда услышал взрывы. Раздался грозный рык: «Подполковник, кто разрешил? Я же отстранил капитана Моисеева. Вы за это ответите!» – и так далее в том же духе. Но все это уже не имело никакого значения!
Так вот, мой «особняк» описал в своем доносе всю эту историю, конечно, без финала, без упоминания о благодарности командарма. Он так же, как и полковник Тронза, называл меня предателем Родины и предлагал незамедлительно арестовать. Но на его рапорте кто-то размашисто и неразборчиво что-то написал, а за непонятными словами стояло «отложить» или «подождать» и не менее неразборчивая подпись. Так этот донос и оказался в моем досье. Ну, а на Лубянке на всякий случай меня решили не допускать до секретной работы.
Когда весной 1946 года я уезжал из действующей армии, где я уже исполнял обязанности инженера авиационной дивизии, «особняк», который тоже поднялся в чинах, пришел меня провожать. Он меня облобызал (я тогда и не знал, что это поцелуй Иуды!) и пожелал всяких благ.
Эпизод, о котором я рассказал, мог легко стоить мне жизни, а искалечил бы ее наверняка. Если бы не подсказка старшины Елисеева, если бы не лень или нерадивость кого-то из начальников моего «особняка»… А может быть, как говорил капитан Кравченко, в дивизионную СМЕРШ не поступило нужной разнарядки на выявление предателей Родины или старая разнарядка была уже выполнена и донос отложили про запас!
Ну, а Ивану Федоровичу Петрову, когда он понял, в чем суть дела, не потребовалось больших усилий, чтобы все поставить на свое место: Сталин уже умер, Берия был расстрелян, и приближался XX съезд партии. Обстановка изменилась коренным образом. Я благополучно получил первую, то есть высшую форму допуска к секретной работе, и даже больше того: у меня никогда не возникало трудностей с совмещением полетов на полигон и командировками за границу.
Бегство, обернувшееся победой
Но последняя из историй, которая могла полностью исковеркать мою жизнь, произошла уже на грани пятидесятых годов.
Моя мачеха, которая уже более четверти века работала учительницей младших классов сходненской школы, неожиданно была арестована по статье 58, как активный участник группы, готовившей, ни больше ни меньше, вооруженное восстание. Ее осудили на десять лет и отправили в лагерь около города Тайшет. В общем, история весьма заурядная для тех времен. Для меня лично она имела весьма тягостные последствия и могла бы обернуться настоящей трагедией, если бы… если бы снова не счастливый случай. Но обо всем по порядку.
После демобилизации в конце 1948 года я стал работать сразу в двух местах. Моя основная работа проходила в НИИ-2 Министерства авиационной промышленности, где меня назначили одним из «теоретиков» в группу Диллона, Главного конструктора авиационных реактивных торпед. Несмотря на то, что Диллон болел чахоткой и физически был очень слаб, работал он удивительно много и всегда был полон разнообразных идей и начинаний. О его изобретательности ходили легенды: проживи он подольше, появилось бы много технических новинок.
Я оказался в одной группе с моим товарищем Юрием Борисовичем Гермейером. Мы познакомились и подружились еще в десятом классе, в математическом кружке, который вел в Стекловском институте И. М. Гельфанд, тогда доцент МГУ. В студенческие годы мы жили с Юрой в одной комнате в общежитии на Стромынке, кончали мехмат в МГУ по одной кафедре теории функций и функционального анализа и под руководством одного и того же профессора – Д. Е. Меньшова. И вся наша жизнь в конечном счете прошла рядом. Позднее, когда я стал работать в Академии наук, я перетащил Гермейера в Вычислительный центр, где он организовал отдел исследования операций, а на факультете прикладной математики создал кафедру с тем же названием, вероятно, одну из самых интересных кафедр этого факультета.
Ну, а тогда, в сорок восьмом? Гермейер не был на фронте. Как человека, носящего немецкую фамилию, его вообще не призывали в армию, и хотя мать у него и была русской, его должны были отправить на спецпоселение, как всех лиц немецкой национальности. Для начала он оказался в Сталинграде, где его взяли работать на завод. Во время наступления немцев на Сталинград, в той суете и неразберихе, которая предшествовала героической Сталинградской эпопее, Юру кто-то зачем-то послал в Москву. А возвращаться было уже некуда. И ему предложили работать в одном из секретнейших КБ в Москве, там, где создавались первые «Катюши». Вот так мы с Юрой оказались снова в одной комнате, теперь уже не в общежитии, а в НИИ-2. Он занимался проблемами эффективности, а я динамики и баллистики авиационных торпед.
Работал наш отдел с увлечением, это был общий настрой послевоенных лет. Работа шла быстро и очень успешно. Начальником института был тогда генерал-майор П. Я. Залесский, хороший инженер, плохой математик и, как всякий одессит, очень остроумный человек. Когда ему надо было участвовать в совещаниях, где предстояло обсуждать результаты каких-либо сложных расчетов, Павел Яковлевич брал меня с собой. И публично именовал «ученый еврей при губернаторе», хотя и евреем и «губернатором» был он сам. Короче, работа в институте была не только интересной – вся атмосфера была творческой, как теперь любят говорить. Мы очень быстро продвигались вперед, наш отдел и весь институт были на подъеме.
Исследовательскую работу я совмещал с преподавательской. Она была не менее увлекательной. Я был принят на работу в качестве исполняющего обязанности доцента на кафедру ракетной техники в один из лучших технических вузов страны – МВТУ, который еще в далеком XIX веке окончил мой дед и к которому еще с детства я привык относиться с великим уважением. Кафедру возглавлял профессор Победоносцев Юрий Александрович. Личность легендарная.
Прежде всего он был одним из немногих отцов советской ракетной техники, избежавших тюрьмы во время разгрома, учиненного Сталиным незадолго до войны всей нашей ракетной технике, которую долго пестовал расстрелянный Тухачевский. Юрий Александрович мне говорил, что он в течение двух лет каждую ночь ожидал ареста. И хотя так же, как и И. Ф. Петров, он не мог бы найти для этого сколько-нибудь разумных оснований, сумка со всем необходимым для арестанта всегда была наготове возле его постели.
Главным своим научным достижением он считал изобретение таких флегматизированных порохов, скорость горения которых была постоянна в очень широком диапазоне природных условий (температуры, влажности). Собственно, это и определило успех наших «Катюш», грозного оружия Отечественной войны. Юрий Александрович справедливо полагал, что его основательно обобрал Костиков, сумевший присвоить себе все лавры изобретателя «Катюш».
В 1949 году профессор Победоносцев был в зените своей карьеры. Он был главным инженером, то есть фактически научным руководителем знаменитого НИИ-88, в одном из конструкторских бюро которого начинал тогда работать еще не реабилитированный С. П. Королев. Юрий Александрович в канун пятидесятых годов был не только руководителем НИИ-88, но и реальным руководителем складывающегося коллектива инженеров и ученых, который за стремительно короткое время создал основы современной космической науки и техники.
В те годы он создал в МВТУ кафедру реактивной техники, позднее ею в течение многих десятилетий заведовал профессор Феодосьев. Победоносцев собрал на кафедре очень интересный коллектив людей, казалось бы, совершенно несовместимых. На кафедре в качестве доцента без степени работал будущий Главный конструктор ракетной и космической техники Сергей Павлович Королев, превосходно читал лекции молодой профессор Челомей, работал мрачноватый и нелюбезный будущий академик Бармин и многие другие, которым страна обязана созданием своей ракетной техники. Позднее они все разошлись по собственным квартирам, но в конце сороковых годов все еще были вместе.
Ну, а сам Победоносцев, к сожалению, был в те годы уже на излете. Его все меньше интересовала наука, и мысли его больше были в семье, в саду, который он очень любил. Лекции Юрий Александрович читал небрежно, не особенно к ним готовясь, часто поручая их молодым преподавателям. Так, мне он порой поручал лекции по горению порохов, в чем я очень плохо разбирался. Текущими делами кафедры он также не очень интересовался. Однажды в комнате, где проходили заседания кафедры, я повесил лозунг: «Братцы, ударим палец о палец». Юрий Александрович был человеком добрым и не лишенным чувства юмора, он искренне посмеялся, увидев лозунг, и попросил его сохранить. Надо заметить, что наш коллектив был подобран так, что научная работа и учебный процесс катились по накатанным рельсам, несмотря даже на то, что Юрий Александрович порой не приходил на заседания кафедры, а руководил ими по телефону. Но неожиданный выговор я все-таки получил… от секретаря парткома МВТУ, не за работу, и даже не за шуточный текст плаката, а за то, что я повесил плакат, не согласовав его текст в парткоме.
Однажды в преподавательской столовой за обедом я начал что-то с энтузиазмом рассказывать Юрию Александровичу. Речь шла об особенности управления какой-то ракетной системой. Он вежливо слушал меня, а затем вдруг перебил:
– Никита, а вы ведь тоже живете за городом?
– Да, на Сходне.
Он живо повернулся ко мне, лицо его помолодело, и он с воодушевлением стал говорить: «Знаете, у меня вот такая маленькая яблонька, – он протянул руку над полом, показывая, какая она у него маленькая, – а приносит вот такие яблоки». И он показал двумя ладонями некий объем, равный небольшому арбузу. В этом эпизоде он был весь – наш добрый, умный завкафедрой. Если он воодушевлялся, то мог свернуть горы. Но только если….
Мне на кафедре был поручен первый в жизни самостоятельный курс: динамика управляемых снарядов и ракет. Он был целиком разработан мною. Я думаю, что это вообще был первый подобный курс, прочитанный в высших учебных заведениях страны. Он шел с грифом «совершенно секретно», и его рукопись я держал в своем сейфе в НИИ-2. Мой тамошний начальник Диллон ее не раз смотрел и настаивал на том, чтобы я ее представил в качестве своей докторской диссертации. Что я и предполагал сделать в самом ближайшем будущем. Победоносцев тоже поощрял эту работу, ценил ее и часто брал меня с собой на семинары в Подлипки, в НИИ-88, где тогда рождались проекты будущих ракетных систем и закладывались основы ракетной науки.
Таким образом, в моей научной деятельности все складывалось, как нельзя лучше. Каждый день я понимал что-то новое. Перспективы казались безграничными. И было еще одно, для меня очень важное. Я видел интерес к своей работе. Чувствовал ее нужность. Это создавало ощущение того, что моя работа не просто удовлетворение собственного любопытства, что она нужна. Нужна моим товарищам, нужна моей стране, которая только что вышла из труднейшего испытания. Я никогда никому не говорил об этих чувствах, но для меня они были очень важной внутренней опорой. Я не знаю, всем ли такое чувство было тогда свойственно, но мне было бы без него жить невыносимо. Самыми мрачными периодами моей жизни были те, когда у меня возникало убеждение, что моя работа не находит «потребителя». И хотя в жизни мне приходилось много работать «в стол», я так и не научился этого делать. Вот почему с началом горбачевской перестройки, когда государство и страна начали терять интерес к научным исследованиям, я стал тратить время на различную публицистику, хотя, наблюдая за усилиями диссидентствующей интеллигенции, понимал, сколь бессмысленна такая деятельность. Но все-таки мои писания печатали, их читали, чего нельзя было сказать о научной продукции.
Но все это было позднее, а в 1949 году я жил в радостном возбуждении, которое вызывала работа.
Но один раз действительно случайность в облике лени или недоработки одного из чиновников по-настоящему спасла мне жизнь. Но об этом эпизоде я узнал гораздо позже и совершенно случайно, уже в благополучные пятидесятые годы…
Неразорвавшиеся бомбы и поцелуй Иуды
В 1955 году я был назначен деканом аэромеханического факультета Московского физико-технического института. На этом факультете готовили специалистов для работы в аэрокосмической промышленности. Наши выпускники шли в самые престижные и самые закрытые конструкторские бюро, работа в которых требовала очень хорошей подготовки. Надо сказать, что и учили мы их соответственно, по-настоящему! Если к этому добавить огромный конкурсный отбор, который в те годы был обычным явлением для Физтеха, то имидж нашего выпускника – сочетание способностей и высокого профессионализма – был общепризнанным. В последующие годы я много бывал за границей, где участвовал в бесчисленном количестве семинаров и конференций, читал лекции в престижных университетах, и могу объективно сравнивать уровень западных и наших молодых специалистов. Технические успехи пятидесятых и шестидесятых годов я связываю, прежде всего, с превосходством наших инженерно-технических кадров. Качество подготовки молодых специалистов во многом компенсировало плохую организацию, отраслевой монополизм и лень чиновного аппарата (впрочем, ничуть не меньшую, чем бездарность, с которой мне приходилось сталкиваться в Америке или Франции). И наблюдая все это, не раз думалось: если бы тогда, в пятидесятых годах, весь этот интеллект и всю энергию да в хорошие бы руки…
Быть деканом аэромеха в те годы означало быть причастным к сверхсекретам аэрокосмической, да и ядерной техники. Впрочем, как мы теперь понимаем, настоящей тайной государства в то время были не технические секреты, а затраты на обеспечение коммунистического режима. Для того чтобы иметь право выполнять свои обязанности, я должен был получить соответствующий формальный допуск, который оформлялся органами госбезопасности по представлению администрации.
Необходимые документы МФТИ подготовил, они ушли, куда следует, время шло и… никакого ответа! Я начал работать, а начальство начало беспокоиться, ибо имело место прямое нарушение железного порядка: допуск к работе без оформления нужной формы допуска.
Ректором МФТИ был тогда генерал-лейтенант Петров Иван Федорович – в прошлом матрос, «штурмовавший» Зимний дворец, в прошлом известный летчик, в прошлом начальник ЦАГИ, в прошлом командующий авиацией Северного флота, в прошлом начальник авиации Северного морского пути и прочая и прочая. И отовсюду его снимали. Как-то он мне доверительно сказал (правда, уже после XX съезда): «Все спрашивают, почему меня все-таки ни разу не арестовали? Я и сам этого не понимаю. Вот я и придумал ответ: потому что меня вовремя снимали». При всей его матросской «интеллигентности», при том, что он был истинным сыном своего времени, И. Ф. Петров был абсолютно уважаемым человеком.
Он сделал много хорошего для тех учреждений, которыми руководил – потому его, наверное, и снимали с работы. Так, он вывез ЦАГИ из тесных помещений на улице Радио и создал в Жуковском современный центр авиационной науки (до сих пор принято говорить о «допетровском» и «послепетровском» ЦАГИ). Но главным его достоинством была искренность побуждений, которой люди верили, несмотря на изрядную долю присущей ему крестьянской хитрецы. Он умел подбирать людей и защищать их. Благодаря чему у него было много настоящих, искренних друзей, и многие, многие его вспоминают добрым словом. Будучи начальником ЦАГИ, он, например, на свой страх и риск допустил М. В. Келдыша – будущего президента Академии наук СССР и будущего Главного теоретика советской космической техники – до работы в ЦАГИ, хотя тому, сыну генерала и внуку генерала, в конце тридцатых годов тоже не давали допуска к секретной работе. А вот теперь и я оказался в похожем положении: он на свой страх и риск разрешил мне начать работу без допуска нужной формы, что могло грозить ему самыми разными осложнениями.
Так вот, однажды, когда дальнейшее ожидание могло грозить руководству МФТИ серьезнейшими неприятностями, Иван Федорович сам поехал на Лубянку. Он знал, как и с кем надо разговаривать. Петров получил возможность прочитать мое досье, в котором, по его словам, увидел элементарный донос, донос «особняка», некоего старшего лейтенанта, начальника СМЕРШ того авиационного полка, в котором я прослужил всю войну. Уже не помню его фамилию. Но хорошо помню, как этот «особняк» стремился быть в числе моих друзей. Часто приходил ко мне. Я поил его спиртом, благо этого добра у меня было сколько угодно. Да и закусь у меня водилась – уж очень хозяйственным мужиком был мой старшина.
Будучи инженером полка по вооружению, я, тем не менее, не любил жить вместе с полковым штабом. Устраивался обычно поближе к самолетам вместе со старшиной Елисеевым, бывшим колхозным шофером, мужиком добрым и умельцем на все руки. Он был у меня шофером, писарем и одновременно папой и мамой. Он был ровно в два раза старше меня и, действительно, относился ко мне по-отечески. Иногда забывался и обращался ко мне «сынок». Так вот, Елисеич, как я его называл, терпеть не мог нашего «особняка». «У-у-у, гнида, любит на дармовщину» (выражение «на халяву» тогда еще не использовали). Спирта он не жалел – казенный. Но луковицу и ломоть хлеба на закуску приходилось вытягивать из Елисеева клещами.
«Особняк» никогда не напивался, и мы вели долгие и, вообще говоря, добрые беседы. Он был чудовищно невежествен и с видимым удовольствием и интересом расспрашивал меня, о чем угодно. Говорили мы и о русской истории, и о литературе. Всю войну в моем вещевом мешке вместе с домашним свитером и шерстяными носками лежал томик «Антология русских поэтов», который я купил в городе Троицке Челябинской области перед самым вылетом на фронт. Мы иногда читали что-нибудь вслух. Иногда одно и то же по многу раз. Мы оба очень любили «Вакхическую песнь». Я иногда пробовал что-то сочинять. Мне казалось, что и он тоже: во всяком случае, он хорошо чувствовал музыку русского стиха. Однажды я вернулся с передовой, где целую неделю пробыл в качестве офицера связи нашей авиадивизии. Елисеич был рад моему возвращению, где-то раздобыл банку свиной тушенки, и мы собрались с ним отметить мое благополучное возвращение. И тут в мою землянку ввалился «особняк». В тот вечер его приход не испортил настроения даже Елисееву. Мы тогда, как помню, очень славно выпили. Во время моего дежурства на КП, откуда, если понадобится, я должен был держать связь с авиационным начальством, я написал вот такие стихи:
С утра пушистая зима
Одела праздничным убором
И лес и поле. Из окна
Видны холмистые просторы.
Ковер усыпан серебром,
Блестящим радостным огнем
Бесчисленных песчинок света.
И бруствер снегом занесен,
И танк, как белая громада
На минном поле, заснежен.
Разрыв последнего снаряда.
И снова в мире тишина.
Светла, прекрасна и ясна
Улыбка зимнего рассвета.
«Особняк» был первым и, может быть, единственным человеком, которому я прочитал эти стихи. Он слушал внимательно и, как мне казалось, вполне искренне сказал мне какие-то добрые слова. Я доверял ему. Особенно после того вечера, когда капитан, старший лейтенант и старшина под американскую свиную тушенку выпили хорошую дозу казенного спирта. У меня начали складываться с «особняком» отношения, похожие на дружеские. И я даже говорил моему закадычному другу, отличному летчику и доброму, смелому человеку, старшему лейтенанту Володе Кравченко: вот и «особняки» бывают людьми. Но Володя относился к нему совсем по-другому и не раз говорил: «Не может нормальный парень залезть в шкуру «особняка». Вот потребуют от него процента раскрываемости шпионов, и продаст он тебя за милую душу». Под воздействием таких слов я все-таки немного остерегался неожиданного друга-«особняка», не выкладывая ему все, о чем хотелось поговорить. И, как оказалось, совсем не зря!
Наш полк в 1944 году стал получать трофейные авиабомбы. В отличие от наших, они требовали боковых взрывателей. Немцы использовали электрические взрыватели без ветрянок. У нас их не было – мы должны были использовать механические взрыватели. У таких взрывателей ось ветрянки была перпендикулярной боковой поверхности бомбы. Подобные взрыватели использовались в русской армии в первую мировую войну – это так называемые взрыватели Орановского. На наше счастье оказалось, что на военных складах еще со времен самолета «Илья Муромец» сохранилось довольно много таких взрывателей, и они начали поступать в полки. Но с использованием взрывателей Орановского дело гладко не пошло. Очень часто сброшенные авиабомбы по неизвестной причине не взрывались, хотя сами взрыватели были безусловно исправными.
Начальство заволновалось и начало издавать грозные приказы, в которых вина за отказы, само собой разумеется, приписывалась стрелочникам. В приказах приводились одни и те же аргументы: небрежность в подготовке авиационного оружия, нарушение инструкций по эксплуатации. На бедных оружейников сыпались довольно жесткие наказания. Особенно неистовствовал мой непосредственный начальник, главный инженер по вооружению пятнадцатой воздушной армии полковник Тронза, педантичный жестокий латыш, из тех, которые делали русскую революцию в 1917 году. И вот он добрался до нас. Прилетел однажды в полк на У-2 вместе со своим механиком. Демонстративно при всех снарядил несколько бомб, взлетел на том же У-2 и сбросил их на ближайшем болоте. Все бомбы взорвались!
Тронза публично обвинил меня в предательстве рабоче-крестьянского государства (не Родины, а государства!), отстранил от должности и приказал отдать под суд. Одновременно он сказал, что уже давно собирался прислать нового инженера полка. Каждый знал, чем мне грозит происшедшее: по существу, это был смертный приговор.
Я ничего не мог понять. Мы, готовя бомбы, делали все то же самое, что делали нагрянувший полковник и его механик. Но у нас бомбы почему-то не взрывались! В мучительном поиске решения, от которого зависела моя жизнь, неожиданная помощь пришла от Елисеева. Он сидел в другом конце избы и мрачно смотрел на улицу. Неожиданно он повернулся ко мне с каким-то просветленным лицом: «Товарищ капитан, может все потому, что он бомбил с У-2?» И меня осенило.
Скорость наших самолетов была в пять раз больше скорости знаменитого «кукурузника». Значит, сопротивление воздуха лопастям ветрянки взрывателя будет больше в двадцать пять раз. Значит, нагрузка на ветрянку станет больше тоже в двадцать пять раз. Да такая сила просто согнет ось ветрянки, она ее заклинит. Ветрянка не вывернется, и взрыватель не взведется. Вот и все! Надо только уменьшить нагрузку на лопасти ветрянки. А для этого достаточно кусачками откусить все ее лопасти, кроме двух симметричных. Для того чтобы это понять, не надо было быть инженером.
Позднее за эту догадку меня публично поблагодарит – нет, не полковник Тронза, с ним никогда больше судьба меня не сведет – сам командующий армией генерал-лейтенант Науменко. Предложенный способ «откусывания лишних лопастей» станет широко использоваться и в других полках, а сбрасываемые бомбы перестанут «не взрываться». Но это произойдет несколько позже, а тогда – тогда я без оглядки побежал к командиру полка. Он сразу все понял, крепко выругался, вспомнив и меня, и Тронзу, и наших родителей. Мы мгновенно поехали на летное поле. Я сам подготовил бомбы, дрожащими от волнения руками откусил лишние лопасти, и самолет командира ушел в воздух. И на том же болоте взорвались все шесть бомб!
Когда командир выходил из самолета, неожиданно появился Тронза. Он уже собирался улетать из полка, когда услышал взрывы. Раздался грозный рык: «Подполковник, кто разрешил? Я же отстранил капитана Моисеева. Вы за это ответите!» – и так далее в том же духе. Но все это уже не имело никакого значения!
Так вот, мой «особняк» описал в своем доносе всю эту историю, конечно, без финала, без упоминания о благодарности командарма. Он так же, как и полковник Тронза, называл меня предателем Родины и предлагал незамедлительно арестовать. Но на его рапорте кто-то размашисто и неразборчиво что-то написал, а за непонятными словами стояло «отложить» или «подождать» и не менее неразборчивая подпись. Так этот донос и оказался в моем досье. Ну, а на Лубянке на всякий случай меня решили не допускать до секретной работы.
Когда весной 1946 года я уезжал из действующей армии, где я уже исполнял обязанности инженера авиационной дивизии, «особняк», который тоже поднялся в чинах, пришел меня провожать. Он меня облобызал (я тогда и не знал, что это поцелуй Иуды!) и пожелал всяких благ.
Эпизод, о котором я рассказал, мог легко стоить мне жизни, а искалечил бы ее наверняка. Если бы не подсказка старшины Елисеева, если бы не лень или нерадивость кого-то из начальников моего «особняка»… А может быть, как говорил капитан Кравченко, в дивизионную СМЕРШ не поступило нужной разнарядки на выявление предателей Родины или старая разнарядка была уже выполнена и донос отложили про запас!
Ну, а Ивану Федоровичу Петрову, когда он понял, в чем суть дела, не потребовалось больших усилий, чтобы все поставить на свое место: Сталин уже умер, Берия был расстрелян, и приближался XX съезд партии. Обстановка изменилась коренным образом. Я благополучно получил первую, то есть высшую форму допуска к секретной работе, и даже больше того: у меня никогда не возникало трудностей с совмещением полетов на полигон и командировками за границу.
Бегство, обернувшееся победой
Но последняя из историй, которая могла полностью исковеркать мою жизнь, произошла уже на грани пятидесятых годов.
Моя мачеха, которая уже более четверти века работала учительницей младших классов сходненской школы, неожиданно была арестована по статье 58, как активный участник группы, готовившей, ни больше ни меньше, вооруженное восстание. Ее осудили на десять лет и отправили в лагерь около города Тайшет. В общем, история весьма заурядная для тех времен. Для меня лично она имела весьма тягостные последствия и могла бы обернуться настоящей трагедией, если бы… если бы снова не счастливый случай. Но обо всем по порядку.
После демобилизации в конце 1948 года я стал работать сразу в двух местах. Моя основная работа проходила в НИИ-2 Министерства авиационной промышленности, где меня назначили одним из «теоретиков» в группу Диллона, Главного конструктора авиационных реактивных торпед. Несмотря на то, что Диллон болел чахоткой и физически был очень слаб, работал он удивительно много и всегда был полон разнообразных идей и начинаний. О его изобретательности ходили легенды: проживи он подольше, появилось бы много технических новинок.
Я оказался в одной группе с моим товарищем Юрием Борисовичем Гермейером. Мы познакомились и подружились еще в десятом классе, в математическом кружке, который вел в Стекловском институте И. М. Гельфанд, тогда доцент МГУ. В студенческие годы мы жили с Юрой в одной комнате в общежитии на Стромынке, кончали мехмат в МГУ по одной кафедре теории функций и функционального анализа и под руководством одного и того же профессора – Д. Е. Меньшова. И вся наша жизнь в конечном счете прошла рядом. Позднее, когда я стал работать в Академии наук, я перетащил Гермейера в Вычислительный центр, где он организовал отдел исследования операций, а на факультете прикладной математики создал кафедру с тем же названием, вероятно, одну из самых интересных кафедр этого факультета.
Ну, а тогда, в сорок восьмом? Гермейер не был на фронте. Как человека, носящего немецкую фамилию, его вообще не призывали в армию, и хотя мать у него и была русской, его должны были отправить на спецпоселение, как всех лиц немецкой национальности. Для начала он оказался в Сталинграде, где его взяли работать на завод. Во время наступления немцев на Сталинград, в той суете и неразберихе, которая предшествовала героической Сталинградской эпопее, Юру кто-то зачем-то послал в Москву. А возвращаться было уже некуда. И ему предложили работать в одном из секретнейших КБ в Москве, там, где создавались первые «Катюши». Вот так мы с Юрой оказались снова в одной комнате, теперь уже не в общежитии, а в НИИ-2. Он занимался проблемами эффективности, а я динамики и баллистики авиационных торпед.
Работал наш отдел с увлечением, это был общий настрой послевоенных лет. Работа шла быстро и очень успешно. Начальником института был тогда генерал-майор П. Я. Залесский, хороший инженер, плохой математик и, как всякий одессит, очень остроумный человек. Когда ему надо было участвовать в совещаниях, где предстояло обсуждать результаты каких-либо сложных расчетов, Павел Яковлевич брал меня с собой. И публично именовал «ученый еврей при губернаторе», хотя и евреем и «губернатором» был он сам. Короче, работа в институте была не только интересной – вся атмосфера была творческой, как теперь любят говорить. Мы очень быстро продвигались вперед, наш отдел и весь институт были на подъеме.
Исследовательскую работу я совмещал с преподавательской. Она была не менее увлекательной. Я был принят на работу в качестве исполняющего обязанности доцента на кафедру ракетной техники в один из лучших технических вузов страны – МВТУ, который еще в далеком XIX веке окончил мой дед и к которому еще с детства я привык относиться с великим уважением. Кафедру возглавлял профессор Победоносцев Юрий Александрович. Личность легендарная.
Прежде всего он был одним из немногих отцов советской ракетной техники, избежавших тюрьмы во время разгрома, учиненного Сталиным незадолго до войны всей нашей ракетной технике, которую долго пестовал расстрелянный Тухачевский. Юрий Александрович мне говорил, что он в течение двух лет каждую ночь ожидал ареста. И хотя так же, как и И. Ф. Петров, он не мог бы найти для этого сколько-нибудь разумных оснований, сумка со всем необходимым для арестанта всегда была наготове возле его постели.
Главным своим научным достижением он считал изобретение таких флегматизированных порохов, скорость горения которых была постоянна в очень широком диапазоне природных условий (температуры, влажности). Собственно, это и определило успех наших «Катюш», грозного оружия Отечественной войны. Юрий Александрович справедливо полагал, что его основательно обобрал Костиков, сумевший присвоить себе все лавры изобретателя «Катюш».
В 1949 году профессор Победоносцев был в зените своей карьеры. Он был главным инженером, то есть фактически научным руководителем знаменитого НИИ-88, в одном из конструкторских бюро которого начинал тогда работать еще не реабилитированный С. П. Королев. Юрий Александрович в канун пятидесятых годов был не только руководителем НИИ-88, но и реальным руководителем складывающегося коллектива инженеров и ученых, который за стремительно короткое время создал основы современной космической науки и техники.
В те годы он создал в МВТУ кафедру реактивной техники, позднее ею в течение многих десятилетий заведовал профессор Феодосьев. Победоносцев собрал на кафедре очень интересный коллектив людей, казалось бы, совершенно несовместимых. На кафедре в качестве доцента без степени работал будущий Главный конструктор ракетной и космической техники Сергей Павлович Королев, превосходно читал лекции молодой профессор Челомей, работал мрачноватый и нелюбезный будущий академик Бармин и многие другие, которым страна обязана созданием своей ракетной техники. Позднее они все разошлись по собственным квартирам, но в конце сороковых годов все еще были вместе.
Ну, а сам Победоносцев, к сожалению, был в те годы уже на излете. Его все меньше интересовала наука, и мысли его больше были в семье, в саду, который он очень любил. Лекции Юрий Александрович читал небрежно, не особенно к ним готовясь, часто поручая их молодым преподавателям. Так, мне он порой поручал лекции по горению порохов, в чем я очень плохо разбирался. Текущими делами кафедры он также не очень интересовался. Однажды в комнате, где проходили заседания кафедры, я повесил лозунг: «Братцы, ударим палец о палец». Юрий Александрович был человеком добрым и не лишенным чувства юмора, он искренне посмеялся, увидев лозунг, и попросил его сохранить. Надо заметить, что наш коллектив был подобран так, что научная работа и учебный процесс катились по накатанным рельсам, несмотря даже на то, что Юрий Александрович порой не приходил на заседания кафедры, а руководил ими по телефону. Но неожиданный выговор я все-таки получил… от секретаря парткома МВТУ, не за работу, и даже не за шуточный текст плаката, а за то, что я повесил плакат, не согласовав его текст в парткоме.
Однажды в преподавательской столовой за обедом я начал что-то с энтузиазмом рассказывать Юрию Александровичу. Речь шла об особенности управления какой-то ракетной системой. Он вежливо слушал меня, а затем вдруг перебил:
– Никита, а вы ведь тоже живете за городом?
– Да, на Сходне.
Он живо повернулся ко мне, лицо его помолодело, и он с воодушевлением стал говорить: «Знаете, у меня вот такая маленькая яблонька, – он протянул руку над полом, показывая, какая она у него маленькая, – а приносит вот такие яблоки». И он показал двумя ладонями некий объем, равный небольшому арбузу. В этом эпизоде он был весь – наш добрый, умный завкафедрой. Если он воодушевлялся, то мог свернуть горы. Но только если….
Мне на кафедре был поручен первый в жизни самостоятельный курс: динамика управляемых снарядов и ракет. Он был целиком разработан мною. Я думаю, что это вообще был первый подобный курс, прочитанный в высших учебных заведениях страны. Он шел с грифом «совершенно секретно», и его рукопись я держал в своем сейфе в НИИ-2. Мой тамошний начальник Диллон ее не раз смотрел и настаивал на том, чтобы я ее представил в качестве своей докторской диссертации. Что я и предполагал сделать в самом ближайшем будущем. Победоносцев тоже поощрял эту работу, ценил ее и часто брал меня с собой на семинары в Подлипки, в НИИ-88, где тогда рождались проекты будущих ракетных систем и закладывались основы ракетной науки.
Таким образом, в моей научной деятельности все складывалось, как нельзя лучше. Каждый день я понимал что-то новое. Перспективы казались безграничными. И было еще одно, для меня очень важное. Я видел интерес к своей работе. Чувствовал ее нужность. Это создавало ощущение того, что моя работа не просто удовлетворение собственного любопытства, что она нужна. Нужна моим товарищам, нужна моей стране, которая только что вышла из труднейшего испытания. Я никогда никому не говорил об этих чувствах, но для меня они были очень важной внутренней опорой. Я не знаю, всем ли такое чувство было тогда свойственно, но мне было бы без него жить невыносимо. Самыми мрачными периодами моей жизни были те, когда у меня возникало убеждение, что моя работа не находит «потребителя». И хотя в жизни мне приходилось много работать «в стол», я так и не научился этого делать. Вот почему с началом горбачевской перестройки, когда государство и страна начали терять интерес к научным исследованиям, я стал тратить время на различную публицистику, хотя, наблюдая за усилиями диссидентствующей интеллигенции, понимал, сколь бессмысленна такая деятельность. Но все-таки мои писания печатали, их читали, чего нельзя было сказать о научной продукции.
Но все это было позднее, а в 1949 году я жил в радостном возбуждении, которое вызывала работа.