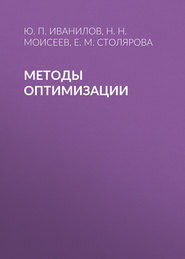По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как далеко до завтрашнего дня… Свободные размышления 1917–1993. Вехи-2000. Заметки о русской интеллигенции кануна нового века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я читал его прямо «с колес»: то, что вчера выучил, сегодня рассказывал студентам. Мог ли я тогда думать, что через четыре года буду защищать докторскую диссертацию по… гидродинамике! Да еще в Институте имени Стеклова. Все это начало ростовской деятельности мне кажется почти фантастическим. И тогда же я понял – читать лекции куда легче, чем сдавать по ним экзамен!
Конечно – молодость, конечно – здоровье. Но была еще и удивительная послевоенная атмосфера общей приподнятости.
Страна была на подъеме. Все трудились с хорошим рабочим настроем. Почти не было разговоров о трудностях жизни, хотя она была очень и очень нелегкой в начале пятидесятых годов. Впрочем, с чем сравнивать? Не с началом девяностых годов, конечно! Тогда каждый день мы ждали чего-нибудь хорошего. И что было удивительно – это случалось!
На кафедре механики, где я оказался, была по-настоящему рабочая обстановка. Кафедра была совсем новой. Она только что сформировалась заново после разгрома и посадок. Ректор университета профессор Белозеров привез трех москвичей: И. И. Воровича, Н. Н. Моисеева и Л. А. Толоконникова. Все мы были кандидатами наук, только что защитившими свои диссертации, и без всякого опыта педагогической работы. Мы сразу вцепились в дело, начали его терзать, и это определило дух кафедры. Нами командовал немолодой, как нам тогда казалось, доцент А. К. Никитин. Ему было около сорока лет. Но он не был в армии и уже много лет преподавал. Он был знающим преподавателем, но собственных научных работ у него почти не было.
Кафедра была не только новая, но и молодая. Все мы пришли из армии, кроме Никитина. Это было еще одним объединяющим началом. Надо заметить, что дух «фронтового братства» еще долго чувствовался после войны.
Никто, кроме нашего заведующего кафедрой, раньше не преподавал в университетах. К тому же Никитин был на кафедре единственным доцентом. Все остальные были ассистентами. Он нам особенно работать не мешал, но за качеством преподавания следил. Ходил на лекции, делал замечания. Однажды он мне преподал урок, оставивший след на всю жизнь. Готовясь к лекциям, я составлял подробный конспект и, беря с собой в аудиторию, часто в него заглядывал, сверяя выкладки и окончательные формулировки. После одной из таких лекций Никитин мне сделал выговор: «Неужели вы не можете подготовиться настолько добросовестно, чтобы не лазить в свои бумажки?» Я покраснел как рак – мне было стыдно. И я научился читать без бумажек. Готовясь к лекциям, я продолжал портить много бумаги и составлять подробные конспекты, но на лекции ходил уже без всяких записей. Только теперь, когда мне пошла вторая половина восьмого десятка, и приходится читать лекции гуманитарного характера, лишенные логики математических доказательств, я беру с собой перечень вопросов, боясь забыть что-нибудь важное.
Вместе со мной из Москвы приехал Иосиф Израилевич Ворович. Для меня его присутствие рядом было очень важным, он мне основательно помог, особенно на первых порах. В университетские годы, как я теперь понимаю, спорт занимал, мягко говоря, несколько большее место в моей жизни, чем это следовало бы. Я учился кое-как, науки были для меня чем-то вторичным, и учился я только в сессию. И вот теперь в Ростове все пробелы моего образования стали видны. Я их остро чувствовал и очень стеснялся своего невежества. Готовя лекции и, особенно семинарские занятия, я часто нуждался в срочной помощи. Ворович же был своим, я не стеснялся обнаружить перед ним своего незнания и мог задать любой вопрос. И он никогда не отказывал мне в помощи – он учился в университете несколько иначе, чем я. Чувство благодарности за это я сохранил на всю жизнь.
С Воровичем у меня вообще были особые отношения. Иосиф Израилевич был моложе меня на два года, и судьба нас свела в общежитии на Стромынке, когда я уже был «матерым студентом» третьего курса, а он только что поступил в университет. Это был, кажется, сентябрь 1937 года. В нашей комнате жили пять студентов третьего курса, и одна кровать была свободна. Вот сюда, в эту обитель матерых студентов, и послали жить первокурсника. Им оказался будущий действительный член Российской академии наук И. И. Ворович.
Мы много раз вспоминали нашу первую встречу, и надо сказать, что мои воспоминания несколько отличаются от того, что осталось в памяти у Воровича. Иосиф Израилевич вспоминает, что, войдя в комнату, он увидел нескольких полуголых парней, которые резались в карты и, без энтузиазма приняв на жительство нового постояльца, сразу же проявили иной энтузиазм, отправили его за пивом – тогда это был распространенный продукт, доступный даже студенческому карману! Что сегодня кажется почти фантастикой.
Мне же запомнилось другое. В комнату вошел невысокий худенький мальчик с большими грустными глазами, в которых запечатлелась вся мировая скорбь. Но особенно запомнился большой чемодан или сак, перевязанный ремнями, под которые были засунуты бурки, в них маленький Иосик должен был ходить в холодную московскую зиму. Я не помню эпизода с пивом, а он – с бурками.
Но так ли важно, какие детали сохранила память о начале нашего знакомства. Гораздо важнее то, что вся наша жизнь прошла так или иначе, но рядом. Я просто все делал немного раньше. На два года раньше родился, на два года раньше начал учиться в университете. Мы оба попали в Академию имени Жуковского. Только я как окончивший полный курс университета учился в академии один год, а Ворович – все три. Точно так же я раньше защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата технических наук. На два года раньше я защитил и докторскую диссертацию. И мы оба однажды были избраны в Академию наук. И опять же я на несколько лет раньше.
Как только мы начали работать в Ростовском университете, нашей первой совместной инициативой была организация семинара, посвященного математическим проблемам механики теории упругости и гидромеханики. Довольно скоро семинар сделался весьма популярным среди студентов, и из него вышло со временем довольно много первоклассных математиков. Как теперь уже можно сказать, он сыграл значительную роль в становлении математического факультета, а однажды и определил его лицо.
Дело в том, что до нашего появления в университете его преподаватели работали в классических областях математики, этому же учили студентов и аспирантов. Наш семинар выпадал из стандартной схемы.
Прежде всего, мы сами занимались «новой», по тем временам, конечно, математикой – теорией операторов, нелинейным анализом и т. д. Но главное было в том, что во главу угла мы ставили конкретные задачи физики и механики. И полагал и, что для их решения математика, пусть даже самая современная, всего лишь – средство анализа. Не зря же мы с Воровичем были учениками Д. А. Вентцеля!
Семинар оказался привлекательным для молодежи, да и руководили им тридцатилетние доценты. И надо заметить, что его успехи вызывали у некоторых наших коллег по факультету известное чувство ревности. Особенно у профессора Д. Ф. Гахова, тогда маститого математика, прекрасного специалиста по теории краевых задач для функций комплексного переменного. Он считал эту теорию наиболее перспективным направлением тогдашней «ростовской математики». Я называл его деятельность панкраевизмом. Он сердился. Впрочем, он вообще любил сердиться. Особенно на молодежь, если она проявляла излишнюю самостоятельность.
И. И. Ворович был всегда одним из самых близких мне людей, и я к нему относился с абсолютным доверием, как к Андрею Несмеянову, Юре Гермейеру, Володе Кравченко. Ворович был один из немногих, к которым я обращался за советом в трудных для меня ситуациях.
Мы работали много и слаженно. Часто ездили в Москву. Я начал выступать с научными докладами на семинарах М. В. Келдыша, С. Л. Соболева и Л. И. Седова, вошел в новый для меня научный мир и начал печататься в серьезных научных журналах. Постепенно я перестал грустить о несостоявшейся защите докторской диссертации. Появились новые горизонты. Но об этом я еще расскажу.
Об альпинизме и Игоре Евгеньевиче Тамме
Рассказывая о своей жизни, о том добром, что в ней было, о том, что невольно воскрешает моя память, я не могу не рассказать о моих занятиях альпинизмом. Я не достиг каких-либо особых высот в этом виде спорта, и в моем послужном списке не было вершин той самой шестой категории трудности, о которых мечтает каждый альпинист. Я ходил на некоторые восхождения с настоящими большими альпинистами. И видел их в деле. Это позволило мне не строить каких-либо иллюзий о своих спортивных возможностях. Несколько лет на одной веревке я ходил с Валентином Михайловичем Коломенским. Мы сделали с ним несколько восхождений четвертой и пятой категории трудности, и я понимал, что то, что он легко проделывал, никогда не будет мне доступным. И об этом особенно не грустил.
Я был очень посредственным скалолазом. Правда, у меня было одно качество, которое ценилось и из-за которого меня охотно включали во всякие команды: я был хороший шерп, то есть мог долго переносить тяжести на больших высотах. И в лыжных своих увлечениях я предпочитал длинные дистанции – особенно гонку на пятьдесят километров. Она у меня получалась лучше, чем спринтерские дистанции. Это качество стайера мне во многом помогло и на фронте. И, наверное, прояви я большее стремление к достижению спортивных высот, я бы мог получить и мастерский значок. Но… здесь уже вмешалась наука.
После демобилизации из армии я подружился с альпинистами МВТУ. Команду возглавлял прекрасный альпинист и очень мне приятный человек Слава Лубенец, с которым мы и сегодня сохраняем дружеские отношения. Команда готовилась к своему рекордному траверсу Дых-тау – Межирги – Каштан-тау. Мне было недвусмысленно сказано, что я имею определенный шанс быть включенным в окончательный состав восходителей, но надо начинать много и серьезно тренироваться. А я?.. Уехал работать инструктором в альпинистский лагерь Алибек. Выбор был сделан.
Любое восхождение, начиная с пятой категории трудности, требует не только физической подготовки и хорошей техники. Оно требует огромной психологической подготовки, затраты душевных сил. В альпинизме нет подбадривающих трибун – ты и скала! А тут восемнадцать дней на гребне пятой категории трудности. К этому надо было готовиться всю зиму и даже больше – этим надо было жить! Может быть, еще год назад я бы включился в подготовку к этому рекордному траверсу. Но в тот год у меня появились уже другие ориентиры. После одного из моих докладов руководитель семинара академик С. Л. Соболев сказал мне, что полученные результаты могут быть представлены в качестве докторской диссертации, и он готов быть моим оппонентом. Более того, он доложил об этом на Совете стекловского института, и я получил отпуск на завершение диссертации. Одним словом, «наука пошла», как сказал бы Горбачев, и жить чем-либо другим я уже не мог. Альпинизм, при всей моей любви к горам, стал лишь сопутствующим обстоятельством.
Я перешел на инструкторскую работу. Такая деятельность во время летнего академического отпуска меня вполне удовлетворяла. Я работал с альпинистами, уже имеющими спортивный разряд, и ходил с ними на вершины средней – третьей или четвертой – категории трудности. Это удовлетворяло мои спортивные аппетиты и давало неограниченные возможности для интересных походов или восхождений по новым, может быть, и не очень трудным, но интересным маршрутам. Я работал, как правило, в лагере Алибек в Домбае. Но часто бывал и на Алтае, где был первым начальником спасательной службы первого альпинистского лагеря в ущелье Актру. Один раз был на Тянь-Шане, где работал в лагере Талгар, тоже начспасом.
Инструкторская работа имела еще одну приятную сторону: я встречался со множеством интереснейших людей. Одним из них был человек, сыгравший в моей жизни весьма важную роль. Это был Игорь Евгеньевич Тамм – один из самых крупных наших физиков, человек огромного обаяния и доброты.
В конце тридцатых годов я в течение месяца был в школе инструкторов, как мы ее громко называли. Домбайская поляна была тогда еще первозданна и прекрасна. Единственным строением был дом, выстроенный комиссией содействия ученым (КСУ), и мы его называли «ксучим домом». Это было красивое деревянное двухэтажное здание. А на другом берегу реки, прямо около начала подъема на Ишачий перевал, как тогда мы называли начало тропы на перевал Птыш, нашим университетским спортивным обществом (тогда оно носило гордое название «Наука») был разбит небольшой лагерь на десяток палаток. Там готовили будущих инструкторов альпинизма. Моим главным учителем был австриец Франц Бергер, высланный из Австрии как активный участник выступлений Шуцбунда – рабочей коммунистической организации. Он был профессиональным альпинистом и дал нам неплохое понимание современной техники альпинизма, о которой мы имели весьма смутное представление.
После окончания этой школы я получил приглашение поработать в лагере Алибек в качестве стажера. Мне доверили небольшую группу приехавших ученых. Я должен был их «пасти»: взяв на всякий случай веревку и ледоруб, сопровождать их на прогулках и не мешать в высоконаучных разговорах, которые они вели между собой. Вот тут-то и произошло мое знакомство с Игорем Евгеньевичем. Но сначала одно пояснение.
Курс теории электричества в МГУ нам читал профессор Беликов. Я не знаю, каким он был физиком, но читал лекции с удивительным занудством. А для подготовки к экзаменам рекомендовал нам книгу Эйхенвальда, добавив при этом: настоящая физика, никакой математики. Для меня «барьер Эйхенвальда» оказался непреодолимым: сплошной набор отдельных примеров, не объединенных никакой общей руководящей идеей. И я провалился на экзамене. После чего уехал в горы с «хвостом» и с книгой «Теория электричества», которую написал восходящая звезда советской физики профессор И. Е. Тамм. И вот этот самый Игорь Евгеньевич оказался в группе, которую мне поручили «пасти». Но о том, что в группе как раз и находится автор книги, которую мне предстоит изучить, я не имел представления.
Обязанностей у меня было немного, мои подопечные ходили сами по себе, мало обращая на меня внимания, и я начал готовиться к переэкзаменовке. Сидя однажды на камушке около своей палатки, я читал учебник Тамма и делал какие-то выписки. Неожиданно за спиной услышал негромкий голос: «А ведь забавно, когда мой инструктор меня читает». Я вскочил. Передо мной стоял невысокий человек, который во время прогулок пугал меня своей активностью, бесстрашием или, вернее, непониманием опасностей. Он курил и улыбался. «Меня, Никита, зовут Игорь Евгеньевич, я и есть автор этой книги. Зачем здесь, в горах, вы читаете эту ерунду?»
Я ему покаялся в своих грехах, к которым он отнесся весьма снисходительно. Два или три раза Игорь Евгеньевич заговаривал со мной, спрашивал, как читается его книга. Но я стеснялся с ним разговаривать.
В начале сентября в деканате я получил направление на сдачу экзамена… профессору Тамму. Придя на кафедру физики, я сразу начал с того, что попал к нему чисто случайно. «Ей богу, это – чистая случайность», – конец фразы я запомнил. «Вот сейчас и проверим», – сказал Игорь Евгеньевич и попросил какого-то молодого человека в очках, которого звали Мишей, меня проэкзаменовать. После чего сам куда-то надолго ушел. С Мишей я разделался довольно быстро, и мы стали ждать профессора. Он пришел часа через два. Мой экзаменатор сказал, что никаких претензий ко мне не имеет. Игорь Евгеньевич задал мне еще пару простых вопросов общего характера и спросил: «Ну как, Миша, поставим этому альпинисту пятерку?»
Идея была Мишей поддержана, и «хвост» был благополучно отрублен. Более того, Тамм посоветовал прослушать некоторые его курсы и ходить на его семинар.
Я это старался делать. Во всяком случае, я прослушал его курс по теории относительности. Он произвел на меня большое впечатление. Я записал его полностью и очень тщательно. Может быть, это был единственный университетский курс, конспект по которому у меня был. Лет через двенадцать он мне очень пригодился.
На следующий год я встретил Тамма в районе Тиберды. Он был вместе со своими детьми – мальчиком и девочкой. Мальчик Женя сделался впоследствии знаменитым альпинистом, руководителем нашей первой гималайской экспедиции на Эверест. Но уже тогда он был не Женей, а Евгением Игоревичем Таммом.
В пятидесятые годы мы неоднократно встречались с Таммом в горах и вели уже настоящие научные беседы. Еще в Ростовском университете я задумал прочесть все, что относится к механике в университетской программе (раздел механики в курсе общей физики, теоретическую механику и специальный принцип относительности), как единый курс механики. Я полагал, что такой курс должен читать один профессор, который обязан соединить в единое целое мировоззренческие, экспериментальные и математические аспекты того, что принято относить к механике. Такой курс был мной прочитан дважды, и я получил от сделанной работы огромное удовлетворение. Мне было важно рассказать об этом опыте. Тамму он был тоже интересен, и мы с ним много раз его обсуждали.
Года через два или три уже в Физико-техническом институте, я сделал попытку прочесть единый курс механики сплошных сред, включая гидродинамику, теорию упругости и магнитную гидродинамику. И тоже советовался с Игорем Евгеньевичем. Он горячо поддержал эту идею, и я с его благословения несколько лет читал в МФТИ подобный курс. Очень важно, чтобы его читал один профессор. Только тогда достигается эффект системности, и можно последовательно провести свою точку зрения на предмет. К сожалению, после того как я прекратил читать курс механики сплошных сред, в МФТИ не нашлось человека, который взялся бы прочесть его целиком. Член-корреспондент Соколовский и профессор Войт, которым было поручено его читать, снова разделили этот курс на три части.
Таким образом, альпинизм свел меня с человеком, оказавшим большое влияние на формирование моего мировоззрения. Прежде всего, его лекции – их настрой, их ориентация – были так непохожи на то, что читали нам другие профессора физики. То, что он рассказывал и как он это рассказывал, было близко к моему восприятию математика, и я, если так можно выразиться, слушал его «взахлеб». А когда я сам уже стал профессором, то советы И. Е. Тамма помогли мне утвердиться в моем собственном понимании фундаментальности обучения.
Как-то на заседании методической комиссии МФТИ, после одного из моих выступлений, профессор Рытов бросил мне упрек: вы учите не физике, а моделям физики. Я с этим согласился и сказал, что это мой принцип: в основе физического (и любого другого) образования должна лежать некоторая система мышления. Ничего другого, по своей целостности и логике сравнимого с системой моделей физики, человечество еще не придумало. Владея такой системой, чувствуя ее, человек гораздо легче усваивает конкретные факты, чего добивается обычная традиция обучения физики. Поэтому системе «моделей физики» надо учить не только теоретиков, но и экспериментаторов. Игорь Евгеньевич утвердил меня в этих суждениях. А также и в моем представлении о Нильсе Боре как о величайшем мыслителе XX века. Шестидесятые годы были основой моей последующей деятельности методологического характера, которой я придаю особое значение, и И. Е. Тамм был одним из двух людей, разговоры с которыми позволили мне определить свою собственную «парадигму».
Вот почему рассказ об альпинизме здесь занял столько места.
В 1960 году я прекратил свое занятие спортивным альпинизмом. Для этого была причина. Я чуть было не сорвался на относительно легком участке. Это случилось во время восхождения по стене на Караташ – невысокую скальную вершину в ущелье Актру на Алтае. Степень трудности невысокая, 4-А, и то за счет первых двухсот метров довольно крутой стены. Ее-то я прошел без всяких особых трудностей. А дальше начиналось лазанье по довольно пологим скалам, похожим на бараньи лбы, трудности не выше третьей. Мой напарник крикнул мне снизу: «Забей крюк!» Я в этот момент шел первым. Я этого не сделал, думая, что у меня хватит сил на последние два-три метра. Мне их хватило, но на последнем пределе. Я побледнел и долго не мог прийти в себя.
Вернувшись в лагерь и рассказывая об этом эпизоде, я остро почувствовал, что фраза, сказанная Кторовым в прекрасном фильме «Праздник святого Иоргена», относится и ко мне. А сказал он тогда: в профессии жулика главное вовремя смыться! Это в равной степени касается и альпинистов – глаза видят еще по-старому, а силы, увы, уже другие. Такое рассогласование очень опасно. Я почувствовал это на себе и решил больше не повторять экспериментов.
В своей жизни я неукоснительно следовал этому «принципу жулика». Так, однажды я оставил факультет, затем заведование кафедрой, а еще через несколько лет, воспользовавшись новым положением о советниках, кажется, первым из членов Академии ушел в полную отставку. И сейчас, наедине с компьютером, я могу еще делать кое-что полезное и мне интересное, а не пытаться выполнять обязанности, требующие и большей энергии, и большего здоровья.
А в шестьдесят первом году начался новый и не менее привлекательный этап горной жизни, отказываться от которой я совсем не собирался. Я уже не помню, чья это была идея, но мы организовали шуточный клуб с шуточным названием «Пузогрей-любитель». Кажется, это название придумал ныне покойный профессор Вадим Борисович Устинов из Ленинграда. Принимались в него люди не моложе сорока лет, имеющие звание старшего инструктора альпинизма. У клуба был «фюрер». Им был единогласно избран заслуженный мастер спорта Василий Павлович Сасоров. Но, кроме того, мы решили иметь еще и президента, и им согласился стать… Игорь Евгеньевич Тамм.
Смысл этого «клуба» был более чем прост. Группа давно знакомых и симпатичных друг другу любителей гор собиралась где-нибудь на Кавказе. Приезжали на своих машинах, с семьями. Разбивали маленький палаточный лагерь и жили несколько недель в свое удовольствие. Мы выбирали место около какого-нибудь альпинистского лагеря, и он нам обычно немного помогал, поскольку в альпинизме мы были люди известные, а кругом были друзья.
Наш «фюрер» следил, чтобы у членов клуба не отрастали животы, и раз в три-четыре дня мы отправлялись в поход, требующий основательной нагрузки. Так что мы были в отличной форме. Для остального времени придумывались не менее приятные занятия. Особенно запомнились вечера, которые мы проводили у костра. Люди были интересные, и разговоры были интересные. Пили мы чай, и не потому, что у нас был сухой закон, – просто было не до спиртного. На наши костры из лагеря приходили обычно инструкторы старшего поколения, приезжали знакомые из Москвы, Ленинграда, Свердловска…
Вот там раскрывалась еще одна замечательная особенность Игоря Евгеньевича. Он был удивительным рассказчиком. А поскольку он был знаком со всеми великими физиками мира и помнил множество интереснейших деталей, его вечерние рассказы за чаем у костра и комментарии к ним превращались в явления культурной жизни. Для меня это была перекличка времен: как эти разговоры за чаем по духу своему напоминали мне те субботние вечера на Сходне году в двадцать пятом… Тот же круг людей, то же умение друг друга слушать и желание (скорее – необходимость) просто общаться.
Как-то к нам приехали два ленинградских физика, Никита Алексеевич Толстой и Алексей (кажется) Михайлович Бонч-Бруевич. Зная, что они оба принадлежат к старинным дворянским родам, я предложил дискуссию на тему: чей род старше. Как потом сказал Вадим Устинов, «мои ленинградцы не подвели – они хорошо знали свою генеалогию». Действительно, они показали знание не только собственных генеалогических деревьев. Оба остроумные и веселые, они превратили этот вечер в замечательное шоу и убедили нас в том, что Бончи, безусловно, старше Рюрика и всех его предков! А Толстые явно жили во времена Цицерона.
А через несколько дней, взяв на борт своего «Москвича» еще дополнительную ношу – солидного Никиту Толстого, я поехал в Крым. Но, видимо, для моей антилопы гну лишние полтора центнера графа Толстого оказались избыточными. Автомобиль все время отказывался нас везти – он явно протестовал. И я с удивлением (и злорадством) обнаружил, что познания и возможности математика и физика-экспериментатора, когда это касается автомобиля, мало чем отличаются друг от друга. Мы оба высказали гипотезу о том, что мой «Москвич» просто не хочет везти двух Никит! И она нас примирила. А тут еще моя младшая дочурка все время ныла: «Хочу плавать на матрасе». Никита Толстой трогательно убеждал ее потерпеть и обещал, что однажды она обязательно будет в Коктебеле плавать на матрасе. Что и в самом деле случилось! К нашему удивлению.
Глава III. Изгой
Семья Моисеевых
Я уже рассказал немного о моем детстве, о нескольких счастливых детских годах, которые прошли в тогда еще благополучной семье до начала катастрофы, в которую ее ввергли события конца двадцатых годов. До полного и беспредельного ее разрушения. Детские годы времен нэпа определили многое в моей жизни. Они дали мне представление о человеческом начале, о добре, которое объединяет людей, они помогли устоять в минуты трудные и опасные, которых было немало на моем пути. Но семья – это далеко не всё. Как говорят, «правда, но не вся правда». Было еще общество, недоброжелательное и жестокое. Уже в те счастливые времена я узнал, что существует нечто очень злое и тревожное. Оно приходит откуда-то извне, от общества. Его недоброжелательность вошла в мою жизнь, и на протяжении многих лет преодоление ощущения изгойства было одним из определяющих мотивов моего поведения. Об этом я обязан рассказать.
Конечно – молодость, конечно – здоровье. Но была еще и удивительная послевоенная атмосфера общей приподнятости.
Страна была на подъеме. Все трудились с хорошим рабочим настроем. Почти не было разговоров о трудностях жизни, хотя она была очень и очень нелегкой в начале пятидесятых годов. Впрочем, с чем сравнивать? Не с началом девяностых годов, конечно! Тогда каждый день мы ждали чего-нибудь хорошего. И что было удивительно – это случалось!
На кафедре механики, где я оказался, была по-настоящему рабочая обстановка. Кафедра была совсем новой. Она только что сформировалась заново после разгрома и посадок. Ректор университета профессор Белозеров привез трех москвичей: И. И. Воровича, Н. Н. Моисеева и Л. А. Толоконникова. Все мы были кандидатами наук, только что защитившими свои диссертации, и без всякого опыта педагогической работы. Мы сразу вцепились в дело, начали его терзать, и это определило дух кафедры. Нами командовал немолодой, как нам тогда казалось, доцент А. К. Никитин. Ему было около сорока лет. Но он не был в армии и уже много лет преподавал. Он был знающим преподавателем, но собственных научных работ у него почти не было.
Кафедра была не только новая, но и молодая. Все мы пришли из армии, кроме Никитина. Это было еще одним объединяющим началом. Надо заметить, что дух «фронтового братства» еще долго чувствовался после войны.
Никто, кроме нашего заведующего кафедрой, раньше не преподавал в университетах. К тому же Никитин был на кафедре единственным доцентом. Все остальные были ассистентами. Он нам особенно работать не мешал, но за качеством преподавания следил. Ходил на лекции, делал замечания. Однажды он мне преподал урок, оставивший след на всю жизнь. Готовясь к лекциям, я составлял подробный конспект и, беря с собой в аудиторию, часто в него заглядывал, сверяя выкладки и окончательные формулировки. После одной из таких лекций Никитин мне сделал выговор: «Неужели вы не можете подготовиться настолько добросовестно, чтобы не лазить в свои бумажки?» Я покраснел как рак – мне было стыдно. И я научился читать без бумажек. Готовясь к лекциям, я продолжал портить много бумаги и составлять подробные конспекты, но на лекции ходил уже без всяких записей. Только теперь, когда мне пошла вторая половина восьмого десятка, и приходится читать лекции гуманитарного характера, лишенные логики математических доказательств, я беру с собой перечень вопросов, боясь забыть что-нибудь важное.
Вместе со мной из Москвы приехал Иосиф Израилевич Ворович. Для меня его присутствие рядом было очень важным, он мне основательно помог, особенно на первых порах. В университетские годы, как я теперь понимаю, спорт занимал, мягко говоря, несколько большее место в моей жизни, чем это следовало бы. Я учился кое-как, науки были для меня чем-то вторичным, и учился я только в сессию. И вот теперь в Ростове все пробелы моего образования стали видны. Я их остро чувствовал и очень стеснялся своего невежества. Готовя лекции и, особенно семинарские занятия, я часто нуждался в срочной помощи. Ворович же был своим, я не стеснялся обнаружить перед ним своего незнания и мог задать любой вопрос. И он никогда не отказывал мне в помощи – он учился в университете несколько иначе, чем я. Чувство благодарности за это я сохранил на всю жизнь.
С Воровичем у меня вообще были особые отношения. Иосиф Израилевич был моложе меня на два года, и судьба нас свела в общежитии на Стромынке, когда я уже был «матерым студентом» третьего курса, а он только что поступил в университет. Это был, кажется, сентябрь 1937 года. В нашей комнате жили пять студентов третьего курса, и одна кровать была свободна. Вот сюда, в эту обитель матерых студентов, и послали жить первокурсника. Им оказался будущий действительный член Российской академии наук И. И. Ворович.
Мы много раз вспоминали нашу первую встречу, и надо сказать, что мои воспоминания несколько отличаются от того, что осталось в памяти у Воровича. Иосиф Израилевич вспоминает, что, войдя в комнату, он увидел нескольких полуголых парней, которые резались в карты и, без энтузиазма приняв на жительство нового постояльца, сразу же проявили иной энтузиазм, отправили его за пивом – тогда это был распространенный продукт, доступный даже студенческому карману! Что сегодня кажется почти фантастикой.
Мне же запомнилось другое. В комнату вошел невысокий худенький мальчик с большими грустными глазами, в которых запечатлелась вся мировая скорбь. Но особенно запомнился большой чемодан или сак, перевязанный ремнями, под которые были засунуты бурки, в них маленький Иосик должен был ходить в холодную московскую зиму. Я не помню эпизода с пивом, а он – с бурками.
Но так ли важно, какие детали сохранила память о начале нашего знакомства. Гораздо важнее то, что вся наша жизнь прошла так или иначе, но рядом. Я просто все делал немного раньше. На два года раньше родился, на два года раньше начал учиться в университете. Мы оба попали в Академию имени Жуковского. Только я как окончивший полный курс университета учился в академии один год, а Ворович – все три. Точно так же я раньше защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата технических наук. На два года раньше я защитил и докторскую диссертацию. И мы оба однажды были избраны в Академию наук. И опять же я на несколько лет раньше.
Как только мы начали работать в Ростовском университете, нашей первой совместной инициативой была организация семинара, посвященного математическим проблемам механики теории упругости и гидромеханики. Довольно скоро семинар сделался весьма популярным среди студентов, и из него вышло со временем довольно много первоклассных математиков. Как теперь уже можно сказать, он сыграл значительную роль в становлении математического факультета, а однажды и определил его лицо.
Дело в том, что до нашего появления в университете его преподаватели работали в классических областях математики, этому же учили студентов и аспирантов. Наш семинар выпадал из стандартной схемы.
Прежде всего, мы сами занимались «новой», по тем временам, конечно, математикой – теорией операторов, нелинейным анализом и т. д. Но главное было в том, что во главу угла мы ставили конкретные задачи физики и механики. И полагал и, что для их решения математика, пусть даже самая современная, всего лишь – средство анализа. Не зря же мы с Воровичем были учениками Д. А. Вентцеля!
Семинар оказался привлекательным для молодежи, да и руководили им тридцатилетние доценты. И надо заметить, что его успехи вызывали у некоторых наших коллег по факультету известное чувство ревности. Особенно у профессора Д. Ф. Гахова, тогда маститого математика, прекрасного специалиста по теории краевых задач для функций комплексного переменного. Он считал эту теорию наиболее перспективным направлением тогдашней «ростовской математики». Я называл его деятельность панкраевизмом. Он сердился. Впрочем, он вообще любил сердиться. Особенно на молодежь, если она проявляла излишнюю самостоятельность.
И. И. Ворович был всегда одним из самых близких мне людей, и я к нему относился с абсолютным доверием, как к Андрею Несмеянову, Юре Гермейеру, Володе Кравченко. Ворович был один из немногих, к которым я обращался за советом в трудных для меня ситуациях.
Мы работали много и слаженно. Часто ездили в Москву. Я начал выступать с научными докладами на семинарах М. В. Келдыша, С. Л. Соболева и Л. И. Седова, вошел в новый для меня научный мир и начал печататься в серьезных научных журналах. Постепенно я перестал грустить о несостоявшейся защите докторской диссертации. Появились новые горизонты. Но об этом я еще расскажу.
Об альпинизме и Игоре Евгеньевиче Тамме
Рассказывая о своей жизни, о том добром, что в ней было, о том, что невольно воскрешает моя память, я не могу не рассказать о моих занятиях альпинизмом. Я не достиг каких-либо особых высот в этом виде спорта, и в моем послужном списке не было вершин той самой шестой категории трудности, о которых мечтает каждый альпинист. Я ходил на некоторые восхождения с настоящими большими альпинистами. И видел их в деле. Это позволило мне не строить каких-либо иллюзий о своих спортивных возможностях. Несколько лет на одной веревке я ходил с Валентином Михайловичем Коломенским. Мы сделали с ним несколько восхождений четвертой и пятой категории трудности, и я понимал, что то, что он легко проделывал, никогда не будет мне доступным. И об этом особенно не грустил.
Я был очень посредственным скалолазом. Правда, у меня было одно качество, которое ценилось и из-за которого меня охотно включали во всякие команды: я был хороший шерп, то есть мог долго переносить тяжести на больших высотах. И в лыжных своих увлечениях я предпочитал длинные дистанции – особенно гонку на пятьдесят километров. Она у меня получалась лучше, чем спринтерские дистанции. Это качество стайера мне во многом помогло и на фронте. И, наверное, прояви я большее стремление к достижению спортивных высот, я бы мог получить и мастерский значок. Но… здесь уже вмешалась наука.
После демобилизации из армии я подружился с альпинистами МВТУ. Команду возглавлял прекрасный альпинист и очень мне приятный человек Слава Лубенец, с которым мы и сегодня сохраняем дружеские отношения. Команда готовилась к своему рекордному траверсу Дых-тау – Межирги – Каштан-тау. Мне было недвусмысленно сказано, что я имею определенный шанс быть включенным в окончательный состав восходителей, но надо начинать много и серьезно тренироваться. А я?.. Уехал работать инструктором в альпинистский лагерь Алибек. Выбор был сделан.
Любое восхождение, начиная с пятой категории трудности, требует не только физической подготовки и хорошей техники. Оно требует огромной психологической подготовки, затраты душевных сил. В альпинизме нет подбадривающих трибун – ты и скала! А тут восемнадцать дней на гребне пятой категории трудности. К этому надо было готовиться всю зиму и даже больше – этим надо было жить! Может быть, еще год назад я бы включился в подготовку к этому рекордному траверсу. Но в тот год у меня появились уже другие ориентиры. После одного из моих докладов руководитель семинара академик С. Л. Соболев сказал мне, что полученные результаты могут быть представлены в качестве докторской диссертации, и он готов быть моим оппонентом. Более того, он доложил об этом на Совете стекловского института, и я получил отпуск на завершение диссертации. Одним словом, «наука пошла», как сказал бы Горбачев, и жить чем-либо другим я уже не мог. Альпинизм, при всей моей любви к горам, стал лишь сопутствующим обстоятельством.
Я перешел на инструкторскую работу. Такая деятельность во время летнего академического отпуска меня вполне удовлетворяла. Я работал с альпинистами, уже имеющими спортивный разряд, и ходил с ними на вершины средней – третьей или четвертой – категории трудности. Это удовлетворяло мои спортивные аппетиты и давало неограниченные возможности для интересных походов или восхождений по новым, может быть, и не очень трудным, но интересным маршрутам. Я работал, как правило, в лагере Алибек в Домбае. Но часто бывал и на Алтае, где был первым начальником спасательной службы первого альпинистского лагеря в ущелье Актру. Один раз был на Тянь-Шане, где работал в лагере Талгар, тоже начспасом.
Инструкторская работа имела еще одну приятную сторону: я встречался со множеством интереснейших людей. Одним из них был человек, сыгравший в моей жизни весьма важную роль. Это был Игорь Евгеньевич Тамм – один из самых крупных наших физиков, человек огромного обаяния и доброты.
В конце тридцатых годов я в течение месяца был в школе инструкторов, как мы ее громко называли. Домбайская поляна была тогда еще первозданна и прекрасна. Единственным строением был дом, выстроенный комиссией содействия ученым (КСУ), и мы его называли «ксучим домом». Это было красивое деревянное двухэтажное здание. А на другом берегу реки, прямо около начала подъема на Ишачий перевал, как тогда мы называли начало тропы на перевал Птыш, нашим университетским спортивным обществом (тогда оно носило гордое название «Наука») был разбит небольшой лагерь на десяток палаток. Там готовили будущих инструкторов альпинизма. Моим главным учителем был австриец Франц Бергер, высланный из Австрии как активный участник выступлений Шуцбунда – рабочей коммунистической организации. Он был профессиональным альпинистом и дал нам неплохое понимание современной техники альпинизма, о которой мы имели весьма смутное представление.
После окончания этой школы я получил приглашение поработать в лагере Алибек в качестве стажера. Мне доверили небольшую группу приехавших ученых. Я должен был их «пасти»: взяв на всякий случай веревку и ледоруб, сопровождать их на прогулках и не мешать в высоконаучных разговорах, которые они вели между собой. Вот тут-то и произошло мое знакомство с Игорем Евгеньевичем. Но сначала одно пояснение.
Курс теории электричества в МГУ нам читал профессор Беликов. Я не знаю, каким он был физиком, но читал лекции с удивительным занудством. А для подготовки к экзаменам рекомендовал нам книгу Эйхенвальда, добавив при этом: настоящая физика, никакой математики. Для меня «барьер Эйхенвальда» оказался непреодолимым: сплошной набор отдельных примеров, не объединенных никакой общей руководящей идеей. И я провалился на экзамене. После чего уехал в горы с «хвостом» и с книгой «Теория электричества», которую написал восходящая звезда советской физики профессор И. Е. Тамм. И вот этот самый Игорь Евгеньевич оказался в группе, которую мне поручили «пасти». Но о том, что в группе как раз и находится автор книги, которую мне предстоит изучить, я не имел представления.
Обязанностей у меня было немного, мои подопечные ходили сами по себе, мало обращая на меня внимания, и я начал готовиться к переэкзаменовке. Сидя однажды на камушке около своей палатки, я читал учебник Тамма и делал какие-то выписки. Неожиданно за спиной услышал негромкий голос: «А ведь забавно, когда мой инструктор меня читает». Я вскочил. Передо мной стоял невысокий человек, который во время прогулок пугал меня своей активностью, бесстрашием или, вернее, непониманием опасностей. Он курил и улыбался. «Меня, Никита, зовут Игорь Евгеньевич, я и есть автор этой книги. Зачем здесь, в горах, вы читаете эту ерунду?»
Я ему покаялся в своих грехах, к которым он отнесся весьма снисходительно. Два или три раза Игорь Евгеньевич заговаривал со мной, спрашивал, как читается его книга. Но я стеснялся с ним разговаривать.
В начале сентября в деканате я получил направление на сдачу экзамена… профессору Тамму. Придя на кафедру физики, я сразу начал с того, что попал к нему чисто случайно. «Ей богу, это – чистая случайность», – конец фразы я запомнил. «Вот сейчас и проверим», – сказал Игорь Евгеньевич и попросил какого-то молодого человека в очках, которого звали Мишей, меня проэкзаменовать. После чего сам куда-то надолго ушел. С Мишей я разделался довольно быстро, и мы стали ждать профессора. Он пришел часа через два. Мой экзаменатор сказал, что никаких претензий ко мне не имеет. Игорь Евгеньевич задал мне еще пару простых вопросов общего характера и спросил: «Ну как, Миша, поставим этому альпинисту пятерку?»
Идея была Мишей поддержана, и «хвост» был благополучно отрублен. Более того, Тамм посоветовал прослушать некоторые его курсы и ходить на его семинар.
Я это старался делать. Во всяком случае, я прослушал его курс по теории относительности. Он произвел на меня большое впечатление. Я записал его полностью и очень тщательно. Может быть, это был единственный университетский курс, конспект по которому у меня был. Лет через двенадцать он мне очень пригодился.
На следующий год я встретил Тамма в районе Тиберды. Он был вместе со своими детьми – мальчиком и девочкой. Мальчик Женя сделался впоследствии знаменитым альпинистом, руководителем нашей первой гималайской экспедиции на Эверест. Но уже тогда он был не Женей, а Евгением Игоревичем Таммом.
В пятидесятые годы мы неоднократно встречались с Таммом в горах и вели уже настоящие научные беседы. Еще в Ростовском университете я задумал прочесть все, что относится к механике в университетской программе (раздел механики в курсе общей физики, теоретическую механику и специальный принцип относительности), как единый курс механики. Я полагал, что такой курс должен читать один профессор, который обязан соединить в единое целое мировоззренческие, экспериментальные и математические аспекты того, что принято относить к механике. Такой курс был мной прочитан дважды, и я получил от сделанной работы огромное удовлетворение. Мне было важно рассказать об этом опыте. Тамму он был тоже интересен, и мы с ним много раз его обсуждали.
Года через два или три уже в Физико-техническом институте, я сделал попытку прочесть единый курс механики сплошных сред, включая гидродинамику, теорию упругости и магнитную гидродинамику. И тоже советовался с Игорем Евгеньевичем. Он горячо поддержал эту идею, и я с его благословения несколько лет читал в МФТИ подобный курс. Очень важно, чтобы его читал один профессор. Только тогда достигается эффект системности, и можно последовательно провести свою точку зрения на предмет. К сожалению, после того как я прекратил читать курс механики сплошных сред, в МФТИ не нашлось человека, который взялся бы прочесть его целиком. Член-корреспондент Соколовский и профессор Войт, которым было поручено его читать, снова разделили этот курс на три части.
Таким образом, альпинизм свел меня с человеком, оказавшим большое влияние на формирование моего мировоззрения. Прежде всего, его лекции – их настрой, их ориентация – были так непохожи на то, что читали нам другие профессора физики. То, что он рассказывал и как он это рассказывал, было близко к моему восприятию математика, и я, если так можно выразиться, слушал его «взахлеб». А когда я сам уже стал профессором, то советы И. Е. Тамма помогли мне утвердиться в моем собственном понимании фундаментальности обучения.
Как-то на заседании методической комиссии МФТИ, после одного из моих выступлений, профессор Рытов бросил мне упрек: вы учите не физике, а моделям физики. Я с этим согласился и сказал, что это мой принцип: в основе физического (и любого другого) образования должна лежать некоторая система мышления. Ничего другого, по своей целостности и логике сравнимого с системой моделей физики, человечество еще не придумало. Владея такой системой, чувствуя ее, человек гораздо легче усваивает конкретные факты, чего добивается обычная традиция обучения физики. Поэтому системе «моделей физики» надо учить не только теоретиков, но и экспериментаторов. Игорь Евгеньевич утвердил меня в этих суждениях. А также и в моем представлении о Нильсе Боре как о величайшем мыслителе XX века. Шестидесятые годы были основой моей последующей деятельности методологического характера, которой я придаю особое значение, и И. Е. Тамм был одним из двух людей, разговоры с которыми позволили мне определить свою собственную «парадигму».
Вот почему рассказ об альпинизме здесь занял столько места.
В 1960 году я прекратил свое занятие спортивным альпинизмом. Для этого была причина. Я чуть было не сорвался на относительно легком участке. Это случилось во время восхождения по стене на Караташ – невысокую скальную вершину в ущелье Актру на Алтае. Степень трудности невысокая, 4-А, и то за счет первых двухсот метров довольно крутой стены. Ее-то я прошел без всяких особых трудностей. А дальше начиналось лазанье по довольно пологим скалам, похожим на бараньи лбы, трудности не выше третьей. Мой напарник крикнул мне снизу: «Забей крюк!» Я в этот момент шел первым. Я этого не сделал, думая, что у меня хватит сил на последние два-три метра. Мне их хватило, но на последнем пределе. Я побледнел и долго не мог прийти в себя.
Вернувшись в лагерь и рассказывая об этом эпизоде, я остро почувствовал, что фраза, сказанная Кторовым в прекрасном фильме «Праздник святого Иоргена», относится и ко мне. А сказал он тогда: в профессии жулика главное вовремя смыться! Это в равной степени касается и альпинистов – глаза видят еще по-старому, а силы, увы, уже другие. Такое рассогласование очень опасно. Я почувствовал это на себе и решил больше не повторять экспериментов.
В своей жизни я неукоснительно следовал этому «принципу жулика». Так, однажды я оставил факультет, затем заведование кафедрой, а еще через несколько лет, воспользовавшись новым положением о советниках, кажется, первым из членов Академии ушел в полную отставку. И сейчас, наедине с компьютером, я могу еще делать кое-что полезное и мне интересное, а не пытаться выполнять обязанности, требующие и большей энергии, и большего здоровья.
А в шестьдесят первом году начался новый и не менее привлекательный этап горной жизни, отказываться от которой я совсем не собирался. Я уже не помню, чья это была идея, но мы организовали шуточный клуб с шуточным названием «Пузогрей-любитель». Кажется, это название придумал ныне покойный профессор Вадим Борисович Устинов из Ленинграда. Принимались в него люди не моложе сорока лет, имеющие звание старшего инструктора альпинизма. У клуба был «фюрер». Им был единогласно избран заслуженный мастер спорта Василий Павлович Сасоров. Но, кроме того, мы решили иметь еще и президента, и им согласился стать… Игорь Евгеньевич Тамм.
Смысл этого «клуба» был более чем прост. Группа давно знакомых и симпатичных друг другу любителей гор собиралась где-нибудь на Кавказе. Приезжали на своих машинах, с семьями. Разбивали маленький палаточный лагерь и жили несколько недель в свое удовольствие. Мы выбирали место около какого-нибудь альпинистского лагеря, и он нам обычно немного помогал, поскольку в альпинизме мы были люди известные, а кругом были друзья.
Наш «фюрер» следил, чтобы у членов клуба не отрастали животы, и раз в три-четыре дня мы отправлялись в поход, требующий основательной нагрузки. Так что мы были в отличной форме. Для остального времени придумывались не менее приятные занятия. Особенно запомнились вечера, которые мы проводили у костра. Люди были интересные, и разговоры были интересные. Пили мы чай, и не потому, что у нас был сухой закон, – просто было не до спиртного. На наши костры из лагеря приходили обычно инструкторы старшего поколения, приезжали знакомые из Москвы, Ленинграда, Свердловска…
Вот там раскрывалась еще одна замечательная особенность Игоря Евгеньевича. Он был удивительным рассказчиком. А поскольку он был знаком со всеми великими физиками мира и помнил множество интереснейших деталей, его вечерние рассказы за чаем у костра и комментарии к ним превращались в явления культурной жизни. Для меня это была перекличка времен: как эти разговоры за чаем по духу своему напоминали мне те субботние вечера на Сходне году в двадцать пятом… Тот же круг людей, то же умение друг друга слушать и желание (скорее – необходимость) просто общаться.
Как-то к нам приехали два ленинградских физика, Никита Алексеевич Толстой и Алексей (кажется) Михайлович Бонч-Бруевич. Зная, что они оба принадлежат к старинным дворянским родам, я предложил дискуссию на тему: чей род старше. Как потом сказал Вадим Устинов, «мои ленинградцы не подвели – они хорошо знали свою генеалогию». Действительно, они показали знание не только собственных генеалогических деревьев. Оба остроумные и веселые, они превратили этот вечер в замечательное шоу и убедили нас в том, что Бончи, безусловно, старше Рюрика и всех его предков! А Толстые явно жили во времена Цицерона.
А через несколько дней, взяв на борт своего «Москвича» еще дополнительную ношу – солидного Никиту Толстого, я поехал в Крым. Но, видимо, для моей антилопы гну лишние полтора центнера графа Толстого оказались избыточными. Автомобиль все время отказывался нас везти – он явно протестовал. И я с удивлением (и злорадством) обнаружил, что познания и возможности математика и физика-экспериментатора, когда это касается автомобиля, мало чем отличаются друг от друга. Мы оба высказали гипотезу о том, что мой «Москвич» просто не хочет везти двух Никит! И она нас примирила. А тут еще моя младшая дочурка все время ныла: «Хочу плавать на матрасе». Никита Толстой трогательно убеждал ее потерпеть и обещал, что однажды она обязательно будет в Коктебеле плавать на матрасе. Что и в самом деле случилось! К нашему удивлению.
Глава III. Изгой
Семья Моисеевых
Я уже рассказал немного о моем детстве, о нескольких счастливых детских годах, которые прошли в тогда еще благополучной семье до начала катастрофы, в которую ее ввергли события конца двадцатых годов. До полного и беспредельного ее разрушения. Детские годы времен нэпа определили многое в моей жизни. Они дали мне представление о человеческом начале, о добре, которое объединяет людей, они помогли устоять в минуты трудные и опасные, которых было немало на моем пути. Но семья – это далеко не всё. Как говорят, «правда, но не вся правда». Было еще общество, недоброжелательное и жестокое. Уже в те счастливые времена я узнал, что существует нечто очень злое и тревожное. Оно приходит откуда-то извне, от общества. Его недоброжелательность вошла в мою жизнь, и на протяжении многих лет преодоление ощущения изгойства было одним из определяющих мотивов моего поведения. Об этом я обязан рассказать.