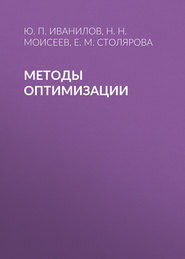По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как далеко до завтрашнего дня… Свободные размышления 1917–1993. Вехи-2000. Заметки о русской интеллигенции кануна нового века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Куда-то вдаль, не оборачиваясь,
Со счастьем вместе, с темнотой.
В летописях города Костромы есть такая запись – передаю ее почти текстуально: новогородские девки-ушкуйницы взяли приступом городок Кострому (тогда это еще был городок) и учинили с его мужиками всяческие безобразия. На этот раз так не случилось. О других говорить не могу, но с одним мужиком все окончилось вполне благополучно (и с ушкуйницей, кажется, тоже).
Одним словом, мирная жизнь, которую мы совсем забыли, – это совсем иное, чем война. Она нам приносит и новые радости, и новые горести. Ко всему этому надо снова привыкать. Что просто лишь на первый взгляд.
Ожидание завтра
В ту памятную осень сорок пятого очень рано начались утренние заморозки. Погода стояла прекрасная – настоящая золотая осень. Солнце, бездонное голубое небо, золото листьев. Казалось, что каждое утро жизнь начиналась сначала. И созвучный этому утру я спешил морозной ранью по тропинке, которая вилась вдоль Волги, к своим самолетам.
Прозрачная свежесть осеннего утра,
Яркий румянец на женских щеках.
А под ногами хрустящая пудра
Инея в травах, на желтых листах.
И с шагом упругим желанья рождались,
Созвучные ветру, морозу, заре.
Так здравствуй же, утро, заволжские дали,
Синеюший лес на высокой горе!
Я пробовал заниматься. Ездил в Ярославль в публичную библиотеку. Убедился, что забыл математику – совершенно! Наука была от меня бесконечно далеко – еще в той, прошлой и совсем не реальной жизни. И тем не менее, она существовала. Более того, она все приближалась. И понемногу становилась реальностью – к ней надо быть готовым. Пробовал писать стихи. Быстро понял, что это не мой удел: так, иногда, для себя, под настроение, а серьезно…
Я знал, что пока надо оставаться в полку. Будущее само покажет, что и как. А служба у меня пока получалась. Дело свое я, кажется, знал. Начальство меня ценило, товарищи тоже. Ну а то, что чины росли медленно, – в этом ли дело? На то я и технарь. Зато и демобилизовывать меня никто не собирался. За плечами у меня Академия имени Жуковского – не так было много оружейников с таким дипломом. На всю дивизию я один. Вот так я и рассуждал тогда.
И все же я понимал, что состояние, в котором я пребывал, временное. Я чувствовал приближение перемен и ждал их. Но даже не догадывался, откуда они могут прийти. Несмотря на послепобедную эйфорию ощущение жизни было тревожным.
Мой последний военный парад
В первых числах ноября наша дивизия перелетела в Прибалтику. Ее полки расположились на аэродромах в Якобштадте (как его звали русские и немцы, или Якобпилсе по-латышски) и Крустпилсе – двух городках, расположенных по обе стороны Западной Двины. Штаб дивизии разместился в столице Курляндии, старом немецком городе Митаве, который латыши переименовали в Елгаву. Для него отвели старый замок, вернее, большой дом, который, как говорили, принадлежал еще Бирону. Я поселился вместе с Володей Кравченко, который тоже получил звание капитана. Мы сняли комнату у учительницы русского языка. Елисеева со мной уже не было. Его должны были демобилизовать и он остался в Туношной. Демобилизация шла не очень активно. Пока демобилизовали лишь нескольких техников старших возрастов, которые сами хотели уйти в гражданку. Летный состав не трогали – медицинские комиссии ожидали только весной. Начальство стремилось сохранить профессиональные кадры. И летчиков, и техников. Но несколько человек по медицинским показателям были все же отстранены от летной работы – в мирное время требования к здоровью ужесточились, да и самолеты теперь у нас стали посложнее.
Весной сорок шестого был демобилизован мой непосредственный начальник – дивизионный инженер по вооружению подполковник Тамара. Его подвела графа об образовании – ЦПШ (церковно-приходская школа; по нынешним временам это четыре класса деревенской школы). Он вышел из простых оружейных мастеров. А достиг в своей профессии очень многого. Во время войны прекрасно справлялся со своими обязанностями, и я многому у него научился. Особенно хорошо знал он стрелковое оружие, гораздо хуже понимал прицелы и совсем пасовал перед разными расчетами. Он, например, меня спрашивал: «Ну, объясни мне, почему синус бывает и большой и маленький?» Он совершенно не разбирался в таблицах стрельбы, особенно реактивными снарядами. Но зато великолепно умел ремонтировать и отлаживать любое стрелковое оружие и научил этому нас всех. Он был добрым, хорошим человеком, и мы с ним сдружились за годы войны, любил выпить, впрочем, кто тогда не любил выпить? Тем более, что спирта было море разливанное.
Уехал от нас Иван Тимофеевич Тамара в свою Северскую землю и, как рассказывали, устроился механиком в МТС. Я же был назначен на его место, и он мне сдавал дела. Меня все поздравляли: место дивизионного инженера для капитана почетно, тем более, что в соседнем полку полковым инженером был майор Алексеев, которого как старшего по званию и прочили на эту должность. Но начальство выбрало меня.
Странная была эта зима сорок пятого – сорок шестого года. Все было непривычно, прежде всего – безделье. Летом и осенью сорок пятого в Туношной мы осваивали новые бомбардировщики, новое незнакомое вооружение, были полеты, были учебные стрельбы. Одним словом, осмысленная работа. Конечно, это был уже не фронт. Исчезло постоянное напряжение, постоянные дежурства. Но дело оставалось. В Прибалтике его уже приходилось придумывать. Я постепенно начал понимать, что означает строевая служба в мирное время. Лев Толстой назвал ее узаконенным бездельем. Я бы еще добавил – непрерывным поиском и выдумыванием дела. Бензина больше не давали – он нужен был теперь для других дел. Поэтому полеты практически прекратились.
Все это имело множество пренеприятнейших следствий. Началось повальное пьянство, дебоши, пошла волна венерических заболеваний. К этому располагали тогдашние латышские нравы: женщины оказались поразительно доступными. Ничего подобного в России не было. Каждая пьянка превращалась в оргию. Дисциплина падала. Бесконечные ЧП и разбирательства личных дел.
Но бывали моменты, когда мы снова чувствовали себя настоящей кадровой частью. Я помню девятое мая 1946 года. Праздновалась первая годовщина дня Победы. В Якобштадте было решено провести гарнизонный парад. На параде я шел в составе сводного офицерского батальона нашей дивизии. Мы вяло, кое-как, почти не в ногу прошли мимо начальства и уже покинули площадь. Вдруг кто-то запел, запел шуточную строевую песню, которую пели в авиационных учебных заведениях:
Давно уж знаем,
Ходить как надо,
А все же ходим,
Как ходит стадо… и т. д.
Батальон подтянулся, шаг стал четким – любо-дорого смотреть! Командир дивизии догнал на «виллисе» нашу колонну: «Что, мерзавцы, пройти как следует перед трибунами не могли, а тут вдруг курсантскую жизнь вспомнили?» А в ответ, не сговариваясь, в пару сотен молодых глоток батальон гаркнул такое «ур-р-а-а», что стало ясно – есть порох в пороховницах.
У меня лично тоже была довольно трудная зима: я продолжал искать себя и дело, которое могло бы меня по-настоящему занять. Служба постепенно стала терять для меня всякую прелесть. Мы проводили проверки в эскадрильях, устраивали разные «тревоги». Даже занимались строевой подготовкой. Служба в строевой части меня начала угнетать.
Но никогда ничего не рисуется одними черными красками. У меня образовалась своеобразная отдушина. Среди всякого трофейного хлама, которого было в избытке, я обнаружил забавный автомобиль. Это был фиат «Западная пустыня». Трудно сказать, откуда он взялся в Латвии, ибо был приспособлен для езды по пескам. На нем стояли широченные колеса, больше похожие на самолетные дутики. Проходимость его была потрясающая. К тому же у него было правое управление, а слева стоял пулемет. Первыми этот экспонат обнаружили мои механики на какой-то свалке трофейного имущества. Мы его отбуксировали на аэродром и отремонтировали – оказалось, что на нем можно еще ездить. Эта смешная машина дала мне дело, которым можно было заниматься с удовольствием. И я начал на ней раскатывать. Изъездил всю Латвию. Пулемет я, конечно, снял, но всегда возил с собой автомат: в лесах еще постреливали, хотя дороги, в особенности большие, были уже безопасными. Все же однажды недалеко от городка Мадона он мне пригодился. Я лихо отстреливался, но несколько пробоин в кузове я потом обнаружил.
Очень часто, иногда два раза в неделю, я ездил в Ригу. Мне там было интересно все, а люди – прежде всего. Я познакомился там с несколькими русскими интеллигентами, оставшимися с дореволюционных времен, и со многими латышскими интеллектуалами. Я специально не употребляю термин «интеллигенция», ибо латышской интеллигенции я так и не обнаружил. Сначала я был удивлен, а потом понял, что ее еще и не могло быть – она просто не успела «созреть». До революции рижская интеллигенция – это русские и немцы. Причем немцы в Прибалтике и немцы в Германии, даже в близкой Пруссии – это совсем разные немцы. Корфы, Ранненкампфы, Плеве не просто служили верой и правдой русскому престолу, но и внесли заметный вклад в русскую духовную жизнь. Они действительно восприняли нашу культуру. Благодаря жизни в России они и сами во многом изменились, показав на деле возможность и благотворность симбиоза православия и лютеранства. К сожалению, латыши к нашей культуре были значительно менее восприимчивы, чем немцы, – я понял, почему именно латыши делали революцию и служили в ЧК.
Ездил я и в Двинск, по-латышски Даугавпилс. Он расположен недалеко от Якобштадта. Впрочем, в Латвии все недалеко. Двинск – это старый русский город, в нем живут по преимуществу русские, и сохранился какой-то старый и милый мне быт. Я подружился с одним немолодым учителем математики, ездил к нему в гости и даже оставался ночевать.
Весной я был назначен инженером дивизии, но в Митаву полностью не переехал, так как полки стояли в Якобштадте и Крустпилсе, и дел у меня здесь было много. Да и от начальства подальше. В Якобштадте мы с Кравченко снимали хорошую комнату, а в Митаве я спал на диване в своем «кабинете» – так я называл каморку под лестницей в старом замке, которую мне определили как служебное помещение.
В июле событие произошло чрезвычайное!
Был жаркий воскресный день, и я в компании своих друзей валялся на берегу Двины. Вдруг из штаба полка прибежал солдат: «Товарищ капитан, срочно в штаб!»
Меня встретил дежурный офицер: «Тебя срочно разыскивает дивизионный кадровик. Полетишь на командирском У-2».
Часа через полтора я стоял перед дивизионным кадровиком – сумрачным немолодым майором. «У тебя, что, тетя в Москве? Читай!» И протягивает телеграмму: «Срочно откомандировать капитана Моисеева в распоряжение начальника руководящих кадров Главного управления ВВС. Вершинин.» А был тогда маршал Вершинин главкомом авиации. За такой подписью в нашу дивизию телеграммы еще никогда не приходили. «Завтра сдашь дела Алексееву. Я его уже вызвал. Получи командировочное предписание, и чтобы через два дня ноги твоей здесь не было. Ясно?!»
Почему я вдруг понадобился Москве? Я ничего не понимал, но все приказания выполнил. Что греха таить – с радостью.
Так что же произошло? Какая сила меня, полкового инженеришку, вдруг перенесла в штаб Военно-Воздушных Сил Советского Союза? Для того чтобы объяснить поворот судьбы, который я ждал, даже предчувствовал, и в то же время для меня совершенно неожиданный, я должен вернуться назад.
Внешняя баллистика профессора Кранца
Начальником политотдела дивизии был подполковник, а может быть, и полковник – я уже запамятовал – Фисун. Большой неторопливый украинец. Раньше он был замполитом в нашем полку. Судьба нас свела еще в сорок втором году, и он мне давал рекомендацию для вступления в партию. Политработник он был никакой. Зато прекрасный летчик. Летал много, охотно и с успехом – бывают люди, получившие в дар от природы воинское счастье. Подполковник Фисун обладал им в полной мере. Потом у него стало не ладиться со здоровьем, ему запретили летать, и он полностью перешел на политработу. Получив повышение и уйдя в дивизию, он продолжал ко мне хорошо относиться и регулярно проявлял те или иные знаки внимания.
Однажды Фисун вызвал меня в политотдел и дал трофейную книгу. Это была работа известного немецкого баллистика Кранца, посвященная внешней баллистике ракетных снарядов. «Посмотри, Моисеев, вроде бы по твоей части?» Тогда я еще не совсем забыл немецкий язык и без особого труда начал читать сочинение Кранца. Это занятие оказалось приятным и интересным и вносило разнообразие в мое строевое существование. У моего знакомого в Двинске я взял какой-то курс высшей математики (из моей головы математика весьма основательно выветрилась) и начал разбираться в премудростях тогда еще новой науки – расчета траекторий ракетных снарядов.
Надо сказать, что я довольно быстро стал восстанавливать свои математические познания, и чтение книги Кранца оказалось делом не очень трудным. Я не только сумел разобраться в этом сочинении, но и увидел целый ряд возможностей усовершенствовать его работу. Кранц, со свойственным всем немцам педантизмом и отсутствием чувства юмора, для целей совершенно утилитарных развил общую теорию движения ракеты в гравитационном поле круглой вращающейся Земли. И уже из этой общей теории стал выводить правила для расчета траекторий ракет, которые мы сейчас относим к классу «земля-земля».
Но в академии я учил баллистику под руководством Д. А. Вентцеля, одного из самых блестящих профессоров, которых я когда-либо слушал. Он ко всему относился с огромным чувством юмора, а в науке исповедовал религию своего учителя, знаменитого адмирала и академика А. Н. Крылова: неверная значащая цифра в расчетах – это ошибка, а лишняя после запятой – пол-ошибки. Всякие лишние усложняющие вычисления, не мотивированные необходимостью, – смертный грех! Вот так! Любая прикладная теория должна бить в точку – быть предельно простой!
А тогда ракеты летать далеко еще не могли. Даже знаменитая ФАУ-2 летала всего на две с небольшим сотни километров. Поэтому теория Кранца для решения баллистических задач тех лет мне показалась «сверхизбыточной». И его книга мне не понравилась.
Я поставил себе простую задачу в духе Крылова – Вентцеля: как научиться вычислять траектории баллистических ракет небольшой дальности наиболее простым способом, опираясь на приемы, уже известные артиллеристам? Я с этой задачей, кажется, справился и построил простые формулы для поправок, позволявшие использовать существовавшие в то время баллистические таблицы. Написанное сочинение составляло что-то около десяти страниц. Встал вопрос: а что с этими страничками делать?
Еще учась в академии, я прослушал несколько лекций по баллистике ракетных снарядов. Их прочел нам Ю.А Победоносцев – «гражданский профессор» и, как его рекомендовал генерал Вентцель, «отец советской реактивной техники». Его лекции произвели на меня определенное впечатление. Я с ним пару раз разговаривал и, как говорится, он мне запал в душу. Настолько, что даже в качестве выпускной работы я делал баллистический расчет бетонобойной бомбы с дополнительной, то есть реактивной, скоростью. Как оказалось, и Победоносцев меня запомнил.
Мне казалось, что в контакте с профессором Победоносцевым должен быть мой академический преподаватель Е. Я. Григорьев – очень способный молодой подполковник. Вот ему-то в Академию имени Жуковского я и послал написанные странички с просьбой передать их Юрию Александровичу Победоносцеву. Как выяснилось однажды, мои странички до адресата дошли. И не только дошли, но стали истинной причиной моего неожиданного вызова в Москву и полного расставания со строевой службой. Но тогда об этом я ничего не знал. Никакого значения своему письму, а тем более тем наброскам, которые я сделал, я не придал.
Расставание с полком
Последствия моих упражнений в немецком языке и баллистике мне довелось узнать уже через несколько дней. А пока… пока я сдал свои дела в дивизии и вернулся в полк, где очень быстро завершил несложные сборы. Но тут произошла осечка. Я надеялся забрать с собой свой фиат «Западная пустыня» и триумфально уехать на нем в Москву. Представляю, какой бы фурор (тогда говорили – «фураж») он произвел! Я считал его полностью своим, поскольку мои механики вернули его из абсолютного небытия. Однако не тут-то было. Оказывается, на него уже давно положил глаз помощник командира дивизии по хозчасти. Пока я был дивизионным инженером, он мне не мешал пользоваться моим фиатом. Но тихо-тихо, никому ничего не говоря, он его уже давно оприходовал – теперь это было уже имущество Советской Армии. И я уехал, как все смертные, на поезде.
Мое расставание с полком сопровождалось такой попойкой, которой в истории полка, кажется, никогда не было. Даже в день Победы.
Все началось рано утром, когда нам позвонил командир полка и потребовал, чтобы я и Кравченко к нему пришли – незамедлительно! Подполковник Андрианов был, что называется, военная косточка: сын военного, он с детства был настроен на военную службу. Всегда подтянутый, стройный, молодой. Никогда не хмелел. Летал много, с удовольствием, бывал в тяжелейших передрягах. В полку все считали, что он давно должен был бы получить Героя. Но чрезмерная храбрость и военная удачливость в сочетании с самостоятельностью не очень нравятся вышестоящим.
Лет через пять-шесть я его неожиданно встретил в Ростове. И не где-нибудь, а в бане. Прохожу мимо зеркала и неожиданно вижу в нем знакомое лицо: Андрианов в кителе без погон стоит у зеркала и прихорашивается. И он увидел меня в зеркале и сразу узнал, хотя я был в костюме Адама: «Инженер, так твою растак, ты откуда взялся?»
Я быстро оделся, и мы пошли ко мне. Моя жена собрала на стол, что Бог послал – жили мы тогда очень «аккуратно», – и мы долго и славно поговорили. Вскоре после моего отъезда из полка Андрианов получил полковника и был назначен заместителем командира дивизии. Однако с ним он не поладил и был выведен за штат, а во время очередного сокращения армии демобилизован, вернее, уволен в отставку. Сейчас он работает в райисполкоме в какой-то из станиц. Но медицинская комиссия признала его годным к летной работе, и он собирался вернуться в авиацию – теперь уже гражданскую. Там он был бы при настоящем деле, так как умел летать на чем угодно, хоть на метле.
Тогда же, летом сорок шестого, он был хозяином полка, снимал хороший дом с садом и устроил в этом саду прощальный «завтрак» для своего бывшего инженера. Собрались почти все, кто остался в живых из первого состава офицеров полка. Личности колоритнейшие – потому и выжили! И настрой у всех был соответствующий: по моему теперешнему разумению, неисправимые мальчишки, несмотря на иконостасы орденов и уже совсем не мальчишеские звания. И какие мальчишки! Действительно, цвет русской боевой авиации. И я был горд, что они собрались ради меня.
Со счастьем вместе, с темнотой.
В летописях города Костромы есть такая запись – передаю ее почти текстуально: новогородские девки-ушкуйницы взяли приступом городок Кострому (тогда это еще был городок) и учинили с его мужиками всяческие безобразия. На этот раз так не случилось. О других говорить не могу, но с одним мужиком все окончилось вполне благополучно (и с ушкуйницей, кажется, тоже).
Одним словом, мирная жизнь, которую мы совсем забыли, – это совсем иное, чем война. Она нам приносит и новые радости, и новые горести. Ко всему этому надо снова привыкать. Что просто лишь на первый взгляд.
Ожидание завтра
В ту памятную осень сорок пятого очень рано начались утренние заморозки. Погода стояла прекрасная – настоящая золотая осень. Солнце, бездонное голубое небо, золото листьев. Казалось, что каждое утро жизнь начиналась сначала. И созвучный этому утру я спешил морозной ранью по тропинке, которая вилась вдоль Волги, к своим самолетам.
Прозрачная свежесть осеннего утра,
Яркий румянец на женских щеках.
А под ногами хрустящая пудра
Инея в травах, на желтых листах.
И с шагом упругим желанья рождались,
Созвучные ветру, морозу, заре.
Так здравствуй же, утро, заволжские дали,
Синеюший лес на высокой горе!
Я пробовал заниматься. Ездил в Ярославль в публичную библиотеку. Убедился, что забыл математику – совершенно! Наука была от меня бесконечно далеко – еще в той, прошлой и совсем не реальной жизни. И тем не менее, она существовала. Более того, она все приближалась. И понемногу становилась реальностью – к ней надо быть готовым. Пробовал писать стихи. Быстро понял, что это не мой удел: так, иногда, для себя, под настроение, а серьезно…
Я знал, что пока надо оставаться в полку. Будущее само покажет, что и как. А служба у меня пока получалась. Дело свое я, кажется, знал. Начальство меня ценило, товарищи тоже. Ну а то, что чины росли медленно, – в этом ли дело? На то я и технарь. Зато и демобилизовывать меня никто не собирался. За плечами у меня Академия имени Жуковского – не так было много оружейников с таким дипломом. На всю дивизию я один. Вот так я и рассуждал тогда.
И все же я понимал, что состояние, в котором я пребывал, временное. Я чувствовал приближение перемен и ждал их. Но даже не догадывался, откуда они могут прийти. Несмотря на послепобедную эйфорию ощущение жизни было тревожным.
Мой последний военный парад
В первых числах ноября наша дивизия перелетела в Прибалтику. Ее полки расположились на аэродромах в Якобштадте (как его звали русские и немцы, или Якобпилсе по-латышски) и Крустпилсе – двух городках, расположенных по обе стороны Западной Двины. Штаб дивизии разместился в столице Курляндии, старом немецком городе Митаве, который латыши переименовали в Елгаву. Для него отвели старый замок, вернее, большой дом, который, как говорили, принадлежал еще Бирону. Я поселился вместе с Володей Кравченко, который тоже получил звание капитана. Мы сняли комнату у учительницы русского языка. Елисеева со мной уже не было. Его должны были демобилизовать и он остался в Туношной. Демобилизация шла не очень активно. Пока демобилизовали лишь нескольких техников старших возрастов, которые сами хотели уйти в гражданку. Летный состав не трогали – медицинские комиссии ожидали только весной. Начальство стремилось сохранить профессиональные кадры. И летчиков, и техников. Но несколько человек по медицинским показателям были все же отстранены от летной работы – в мирное время требования к здоровью ужесточились, да и самолеты теперь у нас стали посложнее.
Весной сорок шестого был демобилизован мой непосредственный начальник – дивизионный инженер по вооружению подполковник Тамара. Его подвела графа об образовании – ЦПШ (церковно-приходская школа; по нынешним временам это четыре класса деревенской школы). Он вышел из простых оружейных мастеров. А достиг в своей профессии очень многого. Во время войны прекрасно справлялся со своими обязанностями, и я многому у него научился. Особенно хорошо знал он стрелковое оружие, гораздо хуже понимал прицелы и совсем пасовал перед разными расчетами. Он, например, меня спрашивал: «Ну, объясни мне, почему синус бывает и большой и маленький?» Он совершенно не разбирался в таблицах стрельбы, особенно реактивными снарядами. Но зато великолепно умел ремонтировать и отлаживать любое стрелковое оружие и научил этому нас всех. Он был добрым, хорошим человеком, и мы с ним сдружились за годы войны, любил выпить, впрочем, кто тогда не любил выпить? Тем более, что спирта было море разливанное.
Уехал от нас Иван Тимофеевич Тамара в свою Северскую землю и, как рассказывали, устроился механиком в МТС. Я же был назначен на его место, и он мне сдавал дела. Меня все поздравляли: место дивизионного инженера для капитана почетно, тем более, что в соседнем полку полковым инженером был майор Алексеев, которого как старшего по званию и прочили на эту должность. Но начальство выбрало меня.
Странная была эта зима сорок пятого – сорок шестого года. Все было непривычно, прежде всего – безделье. Летом и осенью сорок пятого в Туношной мы осваивали новые бомбардировщики, новое незнакомое вооружение, были полеты, были учебные стрельбы. Одним словом, осмысленная работа. Конечно, это был уже не фронт. Исчезло постоянное напряжение, постоянные дежурства. Но дело оставалось. В Прибалтике его уже приходилось придумывать. Я постепенно начал понимать, что означает строевая служба в мирное время. Лев Толстой назвал ее узаконенным бездельем. Я бы еще добавил – непрерывным поиском и выдумыванием дела. Бензина больше не давали – он нужен был теперь для других дел. Поэтому полеты практически прекратились.
Все это имело множество пренеприятнейших следствий. Началось повальное пьянство, дебоши, пошла волна венерических заболеваний. К этому располагали тогдашние латышские нравы: женщины оказались поразительно доступными. Ничего подобного в России не было. Каждая пьянка превращалась в оргию. Дисциплина падала. Бесконечные ЧП и разбирательства личных дел.
Но бывали моменты, когда мы снова чувствовали себя настоящей кадровой частью. Я помню девятое мая 1946 года. Праздновалась первая годовщина дня Победы. В Якобштадте было решено провести гарнизонный парад. На параде я шел в составе сводного офицерского батальона нашей дивизии. Мы вяло, кое-как, почти не в ногу прошли мимо начальства и уже покинули площадь. Вдруг кто-то запел, запел шуточную строевую песню, которую пели в авиационных учебных заведениях:
Давно уж знаем,
Ходить как надо,
А все же ходим,
Как ходит стадо… и т. д.
Батальон подтянулся, шаг стал четким – любо-дорого смотреть! Командир дивизии догнал на «виллисе» нашу колонну: «Что, мерзавцы, пройти как следует перед трибунами не могли, а тут вдруг курсантскую жизнь вспомнили?» А в ответ, не сговариваясь, в пару сотен молодых глоток батальон гаркнул такое «ур-р-а-а», что стало ясно – есть порох в пороховницах.
У меня лично тоже была довольно трудная зима: я продолжал искать себя и дело, которое могло бы меня по-настоящему занять. Служба постепенно стала терять для меня всякую прелесть. Мы проводили проверки в эскадрильях, устраивали разные «тревоги». Даже занимались строевой подготовкой. Служба в строевой части меня начала угнетать.
Но никогда ничего не рисуется одними черными красками. У меня образовалась своеобразная отдушина. Среди всякого трофейного хлама, которого было в избытке, я обнаружил забавный автомобиль. Это был фиат «Западная пустыня». Трудно сказать, откуда он взялся в Латвии, ибо был приспособлен для езды по пескам. На нем стояли широченные колеса, больше похожие на самолетные дутики. Проходимость его была потрясающая. К тому же у него было правое управление, а слева стоял пулемет. Первыми этот экспонат обнаружили мои механики на какой-то свалке трофейного имущества. Мы его отбуксировали на аэродром и отремонтировали – оказалось, что на нем можно еще ездить. Эта смешная машина дала мне дело, которым можно было заниматься с удовольствием. И я начал на ней раскатывать. Изъездил всю Латвию. Пулемет я, конечно, снял, но всегда возил с собой автомат: в лесах еще постреливали, хотя дороги, в особенности большие, были уже безопасными. Все же однажды недалеко от городка Мадона он мне пригодился. Я лихо отстреливался, но несколько пробоин в кузове я потом обнаружил.
Очень часто, иногда два раза в неделю, я ездил в Ригу. Мне там было интересно все, а люди – прежде всего. Я познакомился там с несколькими русскими интеллигентами, оставшимися с дореволюционных времен, и со многими латышскими интеллектуалами. Я специально не употребляю термин «интеллигенция», ибо латышской интеллигенции я так и не обнаружил. Сначала я был удивлен, а потом понял, что ее еще и не могло быть – она просто не успела «созреть». До революции рижская интеллигенция – это русские и немцы. Причем немцы в Прибалтике и немцы в Германии, даже в близкой Пруссии – это совсем разные немцы. Корфы, Ранненкампфы, Плеве не просто служили верой и правдой русскому престолу, но и внесли заметный вклад в русскую духовную жизнь. Они действительно восприняли нашу культуру. Благодаря жизни в России они и сами во многом изменились, показав на деле возможность и благотворность симбиоза православия и лютеранства. К сожалению, латыши к нашей культуре были значительно менее восприимчивы, чем немцы, – я понял, почему именно латыши делали революцию и служили в ЧК.
Ездил я и в Двинск, по-латышски Даугавпилс. Он расположен недалеко от Якобштадта. Впрочем, в Латвии все недалеко. Двинск – это старый русский город, в нем живут по преимуществу русские, и сохранился какой-то старый и милый мне быт. Я подружился с одним немолодым учителем математики, ездил к нему в гости и даже оставался ночевать.
Весной я был назначен инженером дивизии, но в Митаву полностью не переехал, так как полки стояли в Якобштадте и Крустпилсе, и дел у меня здесь было много. Да и от начальства подальше. В Якобштадте мы с Кравченко снимали хорошую комнату, а в Митаве я спал на диване в своем «кабинете» – так я называл каморку под лестницей в старом замке, которую мне определили как служебное помещение.
В июле событие произошло чрезвычайное!
Был жаркий воскресный день, и я в компании своих друзей валялся на берегу Двины. Вдруг из штаба полка прибежал солдат: «Товарищ капитан, срочно в штаб!»
Меня встретил дежурный офицер: «Тебя срочно разыскивает дивизионный кадровик. Полетишь на командирском У-2».
Часа через полтора я стоял перед дивизионным кадровиком – сумрачным немолодым майором. «У тебя, что, тетя в Москве? Читай!» И протягивает телеграмму: «Срочно откомандировать капитана Моисеева в распоряжение начальника руководящих кадров Главного управления ВВС. Вершинин.» А был тогда маршал Вершинин главкомом авиации. За такой подписью в нашу дивизию телеграммы еще никогда не приходили. «Завтра сдашь дела Алексееву. Я его уже вызвал. Получи командировочное предписание, и чтобы через два дня ноги твоей здесь не было. Ясно?!»
Почему я вдруг понадобился Москве? Я ничего не понимал, но все приказания выполнил. Что греха таить – с радостью.
Так что же произошло? Какая сила меня, полкового инженеришку, вдруг перенесла в штаб Военно-Воздушных Сил Советского Союза? Для того чтобы объяснить поворот судьбы, который я ждал, даже предчувствовал, и в то же время для меня совершенно неожиданный, я должен вернуться назад.
Внешняя баллистика профессора Кранца
Начальником политотдела дивизии был подполковник, а может быть, и полковник – я уже запамятовал – Фисун. Большой неторопливый украинец. Раньше он был замполитом в нашем полку. Судьба нас свела еще в сорок втором году, и он мне давал рекомендацию для вступления в партию. Политработник он был никакой. Зато прекрасный летчик. Летал много, охотно и с успехом – бывают люди, получившие в дар от природы воинское счастье. Подполковник Фисун обладал им в полной мере. Потом у него стало не ладиться со здоровьем, ему запретили летать, и он полностью перешел на политработу. Получив повышение и уйдя в дивизию, он продолжал ко мне хорошо относиться и регулярно проявлял те или иные знаки внимания.
Однажды Фисун вызвал меня в политотдел и дал трофейную книгу. Это была работа известного немецкого баллистика Кранца, посвященная внешней баллистике ракетных снарядов. «Посмотри, Моисеев, вроде бы по твоей части?» Тогда я еще не совсем забыл немецкий язык и без особого труда начал читать сочинение Кранца. Это занятие оказалось приятным и интересным и вносило разнообразие в мое строевое существование. У моего знакомого в Двинске я взял какой-то курс высшей математики (из моей головы математика весьма основательно выветрилась) и начал разбираться в премудростях тогда еще новой науки – расчета траекторий ракетных снарядов.
Надо сказать, что я довольно быстро стал восстанавливать свои математические познания, и чтение книги Кранца оказалось делом не очень трудным. Я не только сумел разобраться в этом сочинении, но и увидел целый ряд возможностей усовершенствовать его работу. Кранц, со свойственным всем немцам педантизмом и отсутствием чувства юмора, для целей совершенно утилитарных развил общую теорию движения ракеты в гравитационном поле круглой вращающейся Земли. И уже из этой общей теории стал выводить правила для расчета траекторий ракет, которые мы сейчас относим к классу «земля-земля».
Но в академии я учил баллистику под руководством Д. А. Вентцеля, одного из самых блестящих профессоров, которых я когда-либо слушал. Он ко всему относился с огромным чувством юмора, а в науке исповедовал религию своего учителя, знаменитого адмирала и академика А. Н. Крылова: неверная значащая цифра в расчетах – это ошибка, а лишняя после запятой – пол-ошибки. Всякие лишние усложняющие вычисления, не мотивированные необходимостью, – смертный грех! Вот так! Любая прикладная теория должна бить в точку – быть предельно простой!
А тогда ракеты летать далеко еще не могли. Даже знаменитая ФАУ-2 летала всего на две с небольшим сотни километров. Поэтому теория Кранца для решения баллистических задач тех лет мне показалась «сверхизбыточной». И его книга мне не понравилась.
Я поставил себе простую задачу в духе Крылова – Вентцеля: как научиться вычислять траектории баллистических ракет небольшой дальности наиболее простым способом, опираясь на приемы, уже известные артиллеристам? Я с этой задачей, кажется, справился и построил простые формулы для поправок, позволявшие использовать существовавшие в то время баллистические таблицы. Написанное сочинение составляло что-то около десяти страниц. Встал вопрос: а что с этими страничками делать?
Еще учась в академии, я прослушал несколько лекций по баллистике ракетных снарядов. Их прочел нам Ю.А Победоносцев – «гражданский профессор» и, как его рекомендовал генерал Вентцель, «отец советской реактивной техники». Его лекции произвели на меня определенное впечатление. Я с ним пару раз разговаривал и, как говорится, он мне запал в душу. Настолько, что даже в качестве выпускной работы я делал баллистический расчет бетонобойной бомбы с дополнительной, то есть реактивной, скоростью. Как оказалось, и Победоносцев меня запомнил.
Мне казалось, что в контакте с профессором Победоносцевым должен быть мой академический преподаватель Е. Я. Григорьев – очень способный молодой подполковник. Вот ему-то в Академию имени Жуковского я и послал написанные странички с просьбой передать их Юрию Александровичу Победоносцеву. Как выяснилось однажды, мои странички до адресата дошли. И не только дошли, но стали истинной причиной моего неожиданного вызова в Москву и полного расставания со строевой службой. Но тогда об этом я ничего не знал. Никакого значения своему письму, а тем более тем наброскам, которые я сделал, я не придал.
Расставание с полком
Последствия моих упражнений в немецком языке и баллистике мне довелось узнать уже через несколько дней. А пока… пока я сдал свои дела в дивизии и вернулся в полк, где очень быстро завершил несложные сборы. Но тут произошла осечка. Я надеялся забрать с собой свой фиат «Западная пустыня» и триумфально уехать на нем в Москву. Представляю, какой бы фурор (тогда говорили – «фураж») он произвел! Я считал его полностью своим, поскольку мои механики вернули его из абсолютного небытия. Однако не тут-то было. Оказывается, на него уже давно положил глаз помощник командира дивизии по хозчасти. Пока я был дивизионным инженером, он мне не мешал пользоваться моим фиатом. Но тихо-тихо, никому ничего не говоря, он его уже давно оприходовал – теперь это было уже имущество Советской Армии. И я уехал, как все смертные, на поезде.
Мое расставание с полком сопровождалось такой попойкой, которой в истории полка, кажется, никогда не было. Даже в день Победы.
Все началось рано утром, когда нам позвонил командир полка и потребовал, чтобы я и Кравченко к нему пришли – незамедлительно! Подполковник Андрианов был, что называется, военная косточка: сын военного, он с детства был настроен на военную службу. Всегда подтянутый, стройный, молодой. Никогда не хмелел. Летал много, с удовольствием, бывал в тяжелейших передрягах. В полку все считали, что он давно должен был бы получить Героя. Но чрезмерная храбрость и военная удачливость в сочетании с самостоятельностью не очень нравятся вышестоящим.
Лет через пять-шесть я его неожиданно встретил в Ростове. И не где-нибудь, а в бане. Прохожу мимо зеркала и неожиданно вижу в нем знакомое лицо: Андрианов в кителе без погон стоит у зеркала и прихорашивается. И он увидел меня в зеркале и сразу узнал, хотя я был в костюме Адама: «Инженер, так твою растак, ты откуда взялся?»
Я быстро оделся, и мы пошли ко мне. Моя жена собрала на стол, что Бог послал – жили мы тогда очень «аккуратно», – и мы долго и славно поговорили. Вскоре после моего отъезда из полка Андрианов получил полковника и был назначен заместителем командира дивизии. Однако с ним он не поладил и был выведен за штат, а во время очередного сокращения армии демобилизован, вернее, уволен в отставку. Сейчас он работает в райисполкоме в какой-то из станиц. Но медицинская комиссия признала его годным к летной работе, и он собирался вернуться в авиацию – теперь уже гражданскую. Там он был бы при настоящем деле, так как умел летать на чем угодно, хоть на метле.
Тогда же, летом сорок шестого, он был хозяином полка, снимал хороший дом с садом и устроил в этом саду прощальный «завтрак» для своего бывшего инженера. Собрались почти все, кто остался в живых из первого состава офицеров полка. Личности колоритнейшие – потому и выжили! И настрой у всех был соответствующий: по моему теперешнему разумению, неисправимые мальчишки, несмотря на иконостасы орденов и уже совсем не мальчишеские звания. И какие мальчишки! Действительно, цвет русской боевой авиации. И я был горд, что они собрались ради меня.