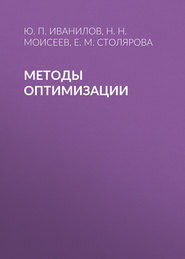По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как далеко до завтрашнего дня… Свободные размышления 1917–1993. Вехи-2000. Заметки о русской интеллигенции кануна нового века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ощущение, что я стою как бы вне общества, возникло еще в школе. Оно было одним из самых острых и болезненных ощущений моего детства и юности. Это чувство начало притупляться вместе с успехами в спорте. Но и там, в моей спортивной компании, была какая-то дистанцированность от остальных ее членов – я был в ней единственный некомсомолец, как бы принадлежал другому миру. Были, конечно, люди вроде Андрея Несмеянова или Юры Гермейера, искренняя дружба которых смягчала это чувство. Но все же… Я никому о нем не рассказывал, никто о нем не догадывался. Разве что Андрей. Мне иногда казалось, что оно и ему присуще, хотя он все же был комсомольцем. Я искренне стремился стать как все – дважды подавал заявление в комсомол, и дважды мне в этом отказывали, публично и с издевкой! Как бы подчеркивалась моя ущербность, неполноценность, исправить которую я не могу. Мне давали понять, что общество меня только терпит, что я ни на что не имею права претендовать.
Свою общественную полноценность я впервые начал ощущать только во время войны. Возможность воспринимать себя полноценным гражданином, нужным обществу, была для меня необходима, без этого жизнь просто лишалась смысла. Я стремился все время поддерживать в себе это ощущение полноценности. Мне очень помогал спорт – там не спрашивали, где твой отец и кто он. Подобное стремление было, вероятнее всего, главной причиной моих отказов от лестных предложений, которые я получал после окончания Академии имени Жуковского. Фронт и только фронт! На фронте я вступил в партию, причем в очень острой ситуации, когда кое-кто из партийцев собирались закапывать свои партийные билеты. И не «верность делу Ленина – Сталина», а стремление преодолеть изгойство руководили моими действиями: я – русский, и на фронте я хотел быть с теми, кто воюет на переднем крае. И еще одно – там так же, как и в спорте, никому не приходило в голову спрашивать, к какому сословию принадлежал мой отец и есть ли в моей семье репрессированные.
Я уже начал излечиваться от своего недуга, но после внезапного ареста моей мачехи все снова вернулось на круги своя. Только в пятьдесят пятом году, получив первую форму допуска к секретной работе, я смог работать там, где мне было интересно и без всяких оглядок на разную сволочь. Вот тогда я, кажется, начал по-настоящему обретать некую социальную уверенность. Но и позднее никому, даже самым близким друзьям, я не говорил, что моя мать была приемной дочерью Николая Карловича фон Мекка, расстрелянного зимой двадцать девятого года, и что мой отец погиб в Бутырской тюрьме накануне тридцать первого года, поскольку он был сослуживцем члена промпартии профессора Осадчего.
Моя семья принадлежала к той значительной (вероятно, самой большой) части русской интеллигенции, которая много поколений жила только трудами рук своих. Никогда никакой собственностью, из которой можно было бы извлекать «нетрудовой доход», Моисеевы не обладали. Семья была очень русской по духу своему и очень предана России. Ее выталкивали в эмиграцию, но она старалась оставаться дома и работать на пользу своей (а не «этой», как теперь говорят) страны. Такой настрой был очень типичным для того круга, к которому принадлежало мое семейство, ибо в своей массе русская интеллигенция, особенно техническая, была настроена по-настоящему патриотично и никогда не отождествляла большевизм и Россию. И, несмотря на неприятие большевистской идеологии, она была готова в любых условиях работать для своей страны не за страх, а за совесть (позднее я убедился, что и оказавшаяся за рубежом русская техническая интеллигенция тоже жила мыслями о благополучии своей страны, а ею всегда была Россия). И тем не менее, в тридцатые годы вокруг меня образовалась пустыня – шло поголовное истребление моих родственников. Случайные остатки семьи и несколько дальних родственников были добиты на фронте. Я каким-то чудом уцелел.
Мой отец, Николай Сергеевич Моисеев, окончил юридический факультет Московского университета, где специализировался по экономике и статистике. Он был оставлен при университете для «подготовки к профессорскому званию» и направлен в русскую миссию в город Нагасаки для написания докторской диссертации, посвященной экономике стран Дальнего Востока, главным образом истории экономических отношений Японии и Китая.
Во время войны, в 1915 году, отца отозвали в Россию для прохождения воинской службы. В качестве вольноопределяющегося его направили братом милосердия, сиречь санитаром, в санитарный поезд, который обслуживал Юго-Западный фронт. Там он и познакомился с моей мамой, которая работала в том же поезде сестрой милосердия. Служба в армии была недолгой. Через несколько месяцев отца отозвали из армии и снова направили в Японию, но теперь уже не в Нагасаки, а в Токио, и не для исследовательской работы и написания диссертации, а в качестве сотрудника одной из служб русской дипломатической миссии, где использовалось его знание японского языка и японской экономики.
Нескольких месяцев пребывания в санитарном поезде и месяца жизни в Воскресенском на Десне – имении Н.К. фон Мекка – оказалось достаточным, чтобы отец уехал в Японию с молодой женой. Маме тогда было восемнадцать лет. Вернулись родители в Москву в июле 1917 года, за месяц до моего рождения. Отец получил место исполняющего обязанности профессора (экстраординарного профессора или приват-доцента, как тогда говорили) Московского университета. Это место давало право читать лекции и получать зарплату, правда, очень скромную по тем временам, но достаточную для жизни, тем более, что семья фон Мекк предоставила молодому семейству двухкомнатную мансарду в своем особняке. Там я и родился.
Дед, Сергей Васильевич Моисеев был тогда еще на Дальнем Востоке, где он занимал высокий в железнодорожном ведомстве пост – был начальником Дальневосточного железнодорожного округа. Дед происходил из старой дворянской семьи, но не земельного дворянства, а служилого. Дед не был помещиком. Во всяком случае, семейные воспоминания не сохранили в памяти рассказов о каких-либо имениях, вообще о земельной собственности. А вот о службе государю воспоминаний было много. Дед любил рассказывать о всевозможных приключениях своих родственников, об их заслугах перед страной, преимущественно на военном поприще.
Дворянство Моисеевых было старое. Во всяком случае, оно было получено в допетровские времена. Сохранилось предание о том, что рославльский дьяк Иван Моисеев ходил с каким-то атаманом то ли к низовьям Оби, то ли еще куда, и что-то об этом походе написал. Поскольку род Моисеевых происходил из Рославля, деду хотелось считать этого Ивана своим прямым предком. Во всяком случае, когда он начинал мне читать нравоучения, что случалось достаточно часто, любил приговаривать: помни, Никитка, в тебе течет кровь землепроходца. Я подозреваю, что рославльский дьяк был выдумкой деда, на что он был горазд. А если этот мифический дьяк и существовал, то признать родство с ним могло бесчисленное количество жителей этого города: все служилые люди в те стародавние времена в славном городе Рославле были либо Моисеевы, либо Наумовы, либо Ильины! И сейчас в Рославле очень много людей с «пророческими» фамилиями.
Но одно известно точно: отец моего деда был последним станционным смотрителем, а позднее – почтмейстером в городе Рославле, что на Большой смоленской дороге. Дед был старшим из многочисленных сыновей Василия Васильевича, женатого на дочери капитана первого ранга Белавенца (до революции, кажется, все Белавенцы были капитанами первого ранга). Моисеевы были в родстве со многими известными смоленскими фамилиями – Бужинскими, Белавенцами, Энгельгардтами.
Дед и его младший брат, дядя Вася, стали инженерами, а все остальные братья после окончания Кадетского корпуса вышли в офицеры и растворились в бесконечном русском воинстве. Один из братьев моего деда погиб в Манчжурии во время японской войны. Другой – в германскую войну, будучи уже в больших, кажется, генеральских, чинах.
Мой дед женился лишь в преддверии своего сорокалетия на Ольге Ивановне – дочери профессора математики университета Святого Владимира в Киеве Ивана Ивановича фон Шперлинга. Этот мой прадед происходил из обрусевшей немецкой семьи, сохранившей, однако, лютеранство и некоторые особенности, свойственные русским немцам, имевшим прибалтийские корни. Так, например, моя бабушка Ольга Ивановна, несмотря на то, что была лютеранкой, ходила только в русскую церковь и очень не любила латышей, хотя, кажется, ни с одним из них никогда не имела дела.
Все наши родственники очень почитали и любили бабушку. И когда кто-нибудь из них оказывался в Москве, считали необходимым ее навесить. Не столько дедушку, сколько бабушку. Несмотря на кажущуюся легкость в обращении с людьми, она была очень одиноким человеком – больше слушала и мало кому говорила о своем сокровенном.
Несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в годах, дед и бабушка прожили большую и, как мне кажется, счастливую жизнь. Ольга Ивановна была человеком во многих отношениях замечательным. Можно сказать без преувеличения, что она была цементом, связывающим большую и очень разбросанную по стране (да и по всему миру) семью. Несмотря на некоторую немецкую педантичность, она была очень добра и отзывчива к чужим бедам. И, что очень важно в наш суровый век, она была человеком огромного внутреннего мужества. Когда после гибели отца и скоропостижной кончины деда семья осталась практически без средств к существованию, бабушка уже в очень преклонном возрасте начала давать уроки немецкого языка. В ней появилась какая-то суровая целеустремленность – поставить внуков на ноги.
Бабушка была очень образованным человеком, читала и говорила на трех европейских языках, хорошо знала не только русскую, но и немецкую, и французскую литературу, могла на память читать множество стихотворений: по-немецки преимущественно Гете, а по-русски – Тютчева и Алексея Толстого. Всех поражала ее собранность. Она все делала хорошо. Прекрасно готовила, не гнушалась никакой работой, квартира была всегда в идеальном порядке. Бабушка никогда не бывала неряшливо одета. Никто не видел ее в халате или небрежно причесанной. Со мной была строга и тщательно проверяла мои уроки. Я ей обязан очень многим.
Хотя понял это, увы, слишком поздно.
Школа и конец семьи
На Сходне была единственная школа – ШКМ, сиречь школа крестьянской молодежи, куда я и был определен в двадцать четвертом году по достижению семилетнего возраста. К этому времени я уже читал для собственного удовольствия: к моему семилетию мне подарили «Тома Сойера» с иллюстрациями, и я прочел его залпом. Терпеть не мог арифметику, считая, что она мне не будет нужна, поскольку я собирался стать астрономом – знал созвездия и объяснял взрослым особенности календаря. Говорил достаточно свободно по-французски и по-немецки. Немецкий я потом потерял полностью, а французский легко восстановил, когда мне пришлось читать лекции во Франции.
Первое сентября 1924 года осталось очень памятным и грустным днем. Бабушка отвела меня в школу в первый класс. Я вернулся домой зареванным: меня побили, измазали, но самое обидное – назвали буржуем. И сказали, что я из тех, которых еще предстоит добить. В школе я оказался действительно чужаком и остро чувствовал это. Я не понимал, откуда такое общее ко мне недоброжелательство, за что меня бьют, что во мне не нравится моим одноклассникам. И вообще, почему люди дерутся и откуда у них такая злоба к другим?
Позднее я и сам научился драться и как следует давать сдачу. Когда в школу пошел мой младший брат, его уже никто не трогал – знали, что даром это не пройдет, знали, что у Сергея Моисеева есть брат Никита Моисеев.
В первые годы я очень не любил и боялся ходить в школу. Отец получил разрешение, чтобы я ходил туда не каждый день. Моя мачеха, которая работала в той же школе учительницей, занималась со мной дома (а бабушка проверяла уроки). Моя непосредственная школьная учительница Зинаида Алексеевна время от времени проверяла меня и, как мне помнится, была довольна моими успехами. Отметок тогда не ставили, и я спокойно переходил из класса в класс.
В пятом классе я перешел в школу второй ступени, как тогда назывались классы с пятого по седьмой. Школа была маленькая, всего три класса по двадцать-тридцать человек, и преподаватели были хорошие, да и я уже адаптировался и в школу начал ходить с охотой. Она размещалась в красивейшей даче, расположенной высоко над рекой. До революции это была дача знаменитого Гучкова. Когда я уже начал учиться в шестом классе, то наша «гучковка», как мы звали свою школу, сгорела. Сначала мы с каким-то радостным недоумением бродили по пепелищу. Ну а потом (на Сходне другой школы не было) пришлось ездить в Москву. Я поступил тогда в школу № 7, что в Скорняжном переулке на Домниковке. Мне было тогда двенадцать лет…
Времена стали стремительно меняться. Начиналась эра пятилеток и коллективизации. Прежде всего, изменилась дорога – та самая Николаевская, или Октябрьская, дорога, честь которой поддерживали все старые железнодорожники. Кстати, их становилось все меньше и меньше, а вскоре и вовсе уже почти не стало. Исчезли патриархальность и неторопливость, о которых я писал. А поезда стали ходить медленнее, и их опоздания стали постепенно обычным явлением. Часто стали отменять пригородные поезда, как и сейчас электрички. Их приходилось долго ждать, и мы никогда не были уверены, что приедем вовремя к началу занятий. Поезда стали переполненными, появилось множество мешочников, началось воровство, драки, хулиганство.
В стране начинался голод. Ввели карточки. По карточкам давали двести граммов мокрого непропеченного хлеба. Жить стало трудно и голодно. Немного выручал огород. Кроме того, мы собирали много грибов, тогда они еще были в сходненских лесах, и я хорошо знал места, где они растут. Мы их сушили, солили. После смерти деда я остался единственным «мужчиной в доме». Надо было носить воду, колоть и пилить дрова на всю зиму – все это легло на мои плечи. Стало трудно с керосином – электричества на Сходне тогда еще не было. Керосин приходилось возить из Москвы тайком, так как возить горючее в поездах запрещали. Мы основательно поизносились. Денег-то на покупку одежды не было. Бабушка и мачеха все время что-то перешивали из старого мне и брату – мы росли, не считаясь с обстоятельствами. Я продолжал учиться на Домниковке. Тогда нуждающимся школьникам давали ордера на покупку дешевой, а то и бесплатной, одежды. Хотя я и относился к числу самых нуждающихся, мне никогда ордеров не давали: буржуй и сын репрессированного.
В тридцать втором году мне исполнилось пятнадцать лет, и я подал заявление с просьбой принять меня в комсомол. Однако собрание в приеме мне отказало. Но жестоко травмировало и удивило даже не то, что меня не приняли, к этому я был как-то готов, а то, как вели себя на собрании мои одноклассники. Мне казалось, что все они мои приятели и хорошо ко мне относятся. Я исправно составлял для многих шпаргалки, помогал отстающим, играл за сборную школы в волейбол, – а тут вдруг единодушный протест и обидные слова. Особенно рьяно выступала Рахиль Склянская, племянница известного большевика, соратника Ленина, занимавшего тогда высокий пост в партии. Через несколько лет Склянский был расстрелян. Судьба Рахили мне неизвестна. Но тогда, под аплодисменты зала, она сказала в мой адрес и в адрес моей семьи столько обидных и несправедливых слов, что я не выдержал и под конец собрания расплакался, несмотря на свой пятнадцатилетний возраст и ощущение себя взрослым мужчиной. Меня увел к себе домой Мишка Лисенков, сын преподавателя математики одного из московских вузов. Его отец напоил меня чаем, внимательно выслушал наш рассказ, а потом положил мне руку на плечо и сказал: «Держись, Никита. Сегодня надо уметь терпеть. Даст Бог, времена однажды переменятся».
В нашем классе был еще один изгой – князь Шаховской. Длинный, нелепый и очень молчаливый, он учился более чем посредственно. Я однажды был у них, пил чай в семье Шаховских. Его отец, тихий богобоязненный старик, – таким он мне во всяком случае показался – работал где-то бухгалтером. Он был «лишенцем», то есть официально лишенным каких-либо избирательных прав. Говорили, что до революции отец моего Шаховского был блестящим гвардейским офицером. Как-то мне в это не очень верилось…
Шаховской был старше меня на год, и его еще в прошлом году не приняли в комсомол. Он был изгой и держался как изгой: всех сторонился. А я не мог так держаться. Потому мне и казалось, что у него был какой-то психический сдвиг. Перед самой войной, когда я уже кончал университет, однажды встретил его у Никитских Ворот. Я возвращался тогда с концерта в консерватории. Он шел, держа на плече лестницу. Оказывается, князь Шаховской работал ночным монтером. Вот так складываются судьбы.
Через несколько лет я еще раз попытался вступить в члены комсомола. Это было уже на втором или третьем курсе университета. Собрание было настроено благодушно, и я, наверное, был бы принят в комсомол, если бы не замдекана Ледяев. Он мне задал только один вопрос: «А, наверное, ваш отец, профессор Моисеев, был из дворян?» Что я мог ответить на его вопрос? Я мог только подтвердить его подозрения. После этого он пожал плечами и сказал, обращаясь к собранию: «Это, конечно, ваше дело. Пусть Моисеев учится, коли уж мы ему позволили учиться, но зачем принимать в комсомол?» На этом тогда все и кончилось. Я так никогда комсомольцем и не стал.
Кружок Гельфанда
Со стороны могло показаться, что я в своих попытках стать комсомольцем все время старался прорваться в какое-то запретное место, старался пробиться в люди и делать карьеру, а меня какая-то сила, восстанавливая справедливость, все время отбрасывала назад. Такая сила и вправду существовала, и она меня действительно не пускала, – это был порядок советской державы, это было советское общество, которое меня и в самом деле отторгало. Но я не думал об этой силе. Я не отдавал, на мое счастье, себе отчета в том положении, которое я занимал по отношению к этому обществу. Я просто делал то, что мне казалось необходимым в данный момент. Я чувствовал себя обыкновенным человеком, им я и хотел быть – быть как все, я стремился слиться с обществом. Все были комсомольцами – почему я один, как белая ворона! Вот я и «рвался в комсомол». Я не думал о сути этой организации, для меня не существовало идеологии. Я просто не хотел быть человеком второго сорта. Вот и весь сказ! У каждого изгоя превалирует стремление быть как все, не отличаться от других, стушеваться, как говорил Достоевский.
Наверное, такое стремление во многом определяло мое поведение. Я был просто мальчишкой и хотел к людям, а меня не пускали. И я даже уже было смирился и стал привыкать чувствовать себя человеком второго сорта. О том, что я именно такой, что я не имею тех прав, которыми пользуются другие, мне прямо так и сказал за два-три года до описанного случая все тот же Ледяев. (Об этом я еще расскажу.) Мне очень хотелось учиться. И я очень боялся, что мне этого не дадут делать. Я хорошо учился в школе, но уверенности в будущем у меня не было.
Несмотря на то, что в двадцать четвертом году я терпеть не мог арифметику, в тридцать пятом я решил поступать на мехмат, причем на математическое отделение, а не на астрономическое, как мне хотелось еще в детстве. Но такая смена приоритетов произошла довольно случайно. Как и многое, что с нами происходит.
История моего поступления в университет – это пример проявления самой острой недоброжелательности общества к людям моей судьбы, которую я испытал еще мальчишкой. Эта история могла окончиться для меня катастрофой, могла полностью исковеркать мою жизнь. Лишь доброжелательство двух человек, нарушивших к тому же правила приема в МГУ, плюс бешеная работа в течение нескольких месяцев позволили мне войти в студенческий мир. Эта история заслуживает того, чтобы рассказать о ней более подробно.
Когда я учился в десятом классе, Академия наук и Московский университет организовали первую в стране математическую олимпиаду. А для будущих участников олимпиады в Математическом институте имени Стеклова – знаменитой в те времена Стекловке – был организован школьный математический кружок. Руководил им Израиль Моисеевич Гельфанд – выдающийся математик, будущий академик, а тогда всего лишь доцент мехмата. Он сыграл в моей жизни огромную роль, изменившую в одночасье всю мою судьбу. Но об этом позже.
В нашей седьмой школе математику преподавала Ульяна Ивановна Логинова – человек большой математической одаренности, внимательный и добрый учитель. Математика у нас была поставлена хорошо, и более того: вокруг Ульяны Ивановны образовалась группа учеников, изучавших предмет более глубоко и проявлявших определенные способности к математике. Звездой первой величины был Моня Биргер. Я думаю, что он сделал бы хорошую научную карьеру, если бы не погиб на фронте в самом начале войны. Были и другие очень сильные ученики. Та же Рахиль Склянская, Яшка Варшавский, Женя Шокин… Все они записались в математический кружок Гельфанда.
Ульяна Ивановна посоветовала и мне начать посещать этот кружок. Но я чувствовал себя в математике не очень прочно и полагал, что для такого кружка совсем не подготовлен. Во всяком случае, гораздо хуже, чем наши первые ученики. Да к тому же на носу был лыжный сезон, а меня включили в юношескую сборную Москвы. Об этом я и сказал нашей учительнице. А она меня в ответ обругала и добавила: «Ты бы мог учиться не хуже их, если бы меньше ходил на лыжах и больше занимался». И Ульяна Ивановна настояла на том, чтобы я тоже стал ходить на занятия в Стекловку, а занятия спортом отложил до лучших времен. «И вообще, тебе пришло время серьезно подумать о будущем, у тебя за спиной никого нет», – она мне не раз читала подобные нравоучения.
Стекловский кружок оказался по-настоящему интересным. Теперь я могу уже профессионально сказать: он был блестяще поставлен. И это заслуга не только Гельфанда. С кружковцами работали несколько молодых талантливых математиков. Они решали с нами нестандартные задачи, демонстрировали на этих примерах удивительные возможности математического изобретательства, читали нам лекции. Да и собрались в этом кружке незаурядные молодые люди. Здесь я подружился с Юрой Гермейером и Борисом Шабатом – будущими профессорами Московского университета, будущим профессором Ленинградского университета Володей Рохлиным, Олегом Сорокиным – удивительно способным юношей, погибшим на фронте уже в сорок первом году, и многими другими. Кружок работал по воскресеньям, и для него приходилось жертвовать воскресными тренировками – той зимой я твердо решил следовать заветам Ульяны Ивановны.
Весной тридцать пятого состоялась олимпиада. Конкурс первого тура из нашей школы успешно преодолели только два человека: Моня Биргер и я. Второй же тур прошел я один. Моня Биргер сам потом удивлялся, как это он не решил одну относительно простую задачу. Но соревнование есть соревнование. На третьем туре я чуть было не сорвался, но все-таки прошел. В результате и Гермейер, и Шабат, и я сделались лауреатами олимпиады и получили право не сдавать математику на вступительных экзаменах на математическое отделение мехмата МГУ. Это и решило все: я выбрал математическое отделение мехмата МГУ и начал готовиться к экзаменам и уже видел себя студентом. Однако меня поджидал страшный удар, который на некоторое время привел меня в состояние оцепенения и безнадежности.
Я сдал все экзамены. Без особого блеска, но и без троек. По моим расчетам, я должен был поступить без каких-либо трудностей: уровень экзаменующихся был не очень высокий, лишь немногие сдали экзамены по-настоящему хорошо; Гермейер и Шабат сдали почти так же, как и я. Только Олег Сорокин сдал на все пятерки. Основная масса экзаменующихся сдала значительно хуже меня. И тем не менее я принят не был!
Во время экзаменов я подружился с Семеном Шапиро. В Москве он был в первый раз в жизни, приехал поступать в университет из какого-то маленького белорусского городка. Он был добрый и тихий человек. Его подготовка оставляла желать лучшего, и Гермейер и я ему старательно помогали. Он получил много троек (тогда сдавали семь или даже восемь экзаменов), в том числе и тройку по математике. И тем не менее, был зачислен в число студентов.
Когда я убедился, что меня нет ни в списках зачисленных, ни в списках кандидатов – были и такие, – меня охватило отчаяние. Я не знал, что мне делать и как вообще жить дальше. Опять чья-то жестокая рука мне преградила дорогу. Семен переживал со мной мое несчастье, утешал как мог и потащил к отвечавшему за прием заместителю декана Ледяеву.
Куда девалась тихая сдержанность Семена Шапиро. Он начал громко и очень темпераментно объяснять, какая произошла несправедливость, он думает, что допущена ошибка, и надо, пока не поздно, ее исправить. Ледяев его прервал. Он повернулся в мою сторону и сухо сказал: «Чего вы хотите, Моисеев? Посмотрите на себя и на него, – он показал пальцем на Семена, – подумайте, кого должно принять в университет рабоче-крестьянское правительство, на кого оно должно тратить деньги? Неужели вам это непонятно?»
Моя судьба была решена.
Бабушка была в отчаянии.
Я все же становлюсь студентом
Осень тридцать пятого и зима тридцать шестого были самым критическим периодом моей жизни. Я уже не говорю о моральной подавленности. Что делать? Куда идти? Я не мог сидеть на шее у мачехи и бабушки, которые зарабатывали гроши. Общество отторгало меня, отбрасывало, и я чувствовал это всем своим существом. Я погрузился в какой-то транс. Меня охватило отчаяние и ощущение беспомощности, некому было мне помочь или даже дать разумный совет. Я был готов, на что угодно – законтрактоваться куда-нибудь на Север или ловить рыбу в Охотском море. Но где-то внутри у меня жил еще здравый смысл и хватило мужества не наделать глупостей. И в результате, как я теперь вижу, мне удалось принять самое правильное решение.
Я поступил в Педагогический институт и переехал со Сходни в студенческое общежитие. Самое главное – я стал получать стипендию. Это был, конечно, сверхскудный, но все же прожиточный минимум. И вместе с ним я обрел известную самостоятельность и получил небольшой тайм-аут. Появилось время осмотреться и подумать.
Сам институт произвел на меня весьма тяжелое, я бы даже сказал угнетающее впечатление. Студенты в своей массе очень напоминали мне моих одноклассников по сходненской ШКМ и совсем не были похожи на тех умных и образованных молодых людей, с которыми я общался последний год в математическом кружке Стекловского института и вместе с которыми хотел учиться в университете. А преподаватели в пединституте – они, вероятно, были опытными учителями и знали, как надо готовить учителей для школ того времени, но как они были мало похожи на тех молодых математиков, которые нам читали лекции в кружке Гельфанда и которых мы с энтузиазмом слушали по воскресеньям!
Одним словом, учиться в этом институте мне не хотелось, да я и не учился. Лишь иногда ходил не лекции. В ту зиму мне было еще восемнадцать лет, и по возрасту я имел право выступать на соревнованиях по лыжам за юношеские команды. Что и делал не без успеха. Кроме того, эти спортивные увлечения меня основательно подкармливали: я был включен в сборную юношескую команду Москвы по лыжам и получал бесплатные талончики на обед – для меня это было очень важно. В тот год в составе команды я ездил на первенство Союза в Кавголово.
Команда в целом выступила отлично: по всем статьям она была первой. Сам же я выступил средне. Только в составе эстафетной гонки я оказался в числе чемпионов Союза по разряду юниоров, как теперь говорят. Мне было не до занятий в пединституте, и зимнюю сессию я не сдавал вовсе. Все шло к тому, что я брошу институт и уйду в профессиональный спорт. Например, поступлю в Институт физической культуры, куда меня звали и где даже не надо было сдавать экзаменов. Но судьбе было угодно распорядиться по-другому. Она мне иногда и улыбалась. Или, во всяком случае, предоставляла неожиданные возможности.
Свою общественную полноценность я впервые начал ощущать только во время войны. Возможность воспринимать себя полноценным гражданином, нужным обществу, была для меня необходима, без этого жизнь просто лишалась смысла. Я стремился все время поддерживать в себе это ощущение полноценности. Мне очень помогал спорт – там не спрашивали, где твой отец и кто он. Подобное стремление было, вероятнее всего, главной причиной моих отказов от лестных предложений, которые я получал после окончания Академии имени Жуковского. Фронт и только фронт! На фронте я вступил в партию, причем в очень острой ситуации, когда кое-кто из партийцев собирались закапывать свои партийные билеты. И не «верность делу Ленина – Сталина», а стремление преодолеть изгойство руководили моими действиями: я – русский, и на фронте я хотел быть с теми, кто воюет на переднем крае. И еще одно – там так же, как и в спорте, никому не приходило в голову спрашивать, к какому сословию принадлежал мой отец и есть ли в моей семье репрессированные.
Я уже начал излечиваться от своего недуга, но после внезапного ареста моей мачехи все снова вернулось на круги своя. Только в пятьдесят пятом году, получив первую форму допуска к секретной работе, я смог работать там, где мне было интересно и без всяких оглядок на разную сволочь. Вот тогда я, кажется, начал по-настоящему обретать некую социальную уверенность. Но и позднее никому, даже самым близким друзьям, я не говорил, что моя мать была приемной дочерью Николая Карловича фон Мекка, расстрелянного зимой двадцать девятого года, и что мой отец погиб в Бутырской тюрьме накануне тридцать первого года, поскольку он был сослуживцем члена промпартии профессора Осадчего.
Моя семья принадлежала к той значительной (вероятно, самой большой) части русской интеллигенции, которая много поколений жила только трудами рук своих. Никогда никакой собственностью, из которой можно было бы извлекать «нетрудовой доход», Моисеевы не обладали. Семья была очень русской по духу своему и очень предана России. Ее выталкивали в эмиграцию, но она старалась оставаться дома и работать на пользу своей (а не «этой», как теперь говорят) страны. Такой настрой был очень типичным для того круга, к которому принадлежало мое семейство, ибо в своей массе русская интеллигенция, особенно техническая, была настроена по-настоящему патриотично и никогда не отождествляла большевизм и Россию. И, несмотря на неприятие большевистской идеологии, она была готова в любых условиях работать для своей страны не за страх, а за совесть (позднее я убедился, что и оказавшаяся за рубежом русская техническая интеллигенция тоже жила мыслями о благополучии своей страны, а ею всегда была Россия). И тем не менее, в тридцатые годы вокруг меня образовалась пустыня – шло поголовное истребление моих родственников. Случайные остатки семьи и несколько дальних родственников были добиты на фронте. Я каким-то чудом уцелел.
Мой отец, Николай Сергеевич Моисеев, окончил юридический факультет Московского университета, где специализировался по экономике и статистике. Он был оставлен при университете для «подготовки к профессорскому званию» и направлен в русскую миссию в город Нагасаки для написания докторской диссертации, посвященной экономике стран Дальнего Востока, главным образом истории экономических отношений Японии и Китая.
Во время войны, в 1915 году, отца отозвали в Россию для прохождения воинской службы. В качестве вольноопределяющегося его направили братом милосердия, сиречь санитаром, в санитарный поезд, который обслуживал Юго-Западный фронт. Там он и познакомился с моей мамой, которая работала в том же поезде сестрой милосердия. Служба в армии была недолгой. Через несколько месяцев отца отозвали из армии и снова направили в Японию, но теперь уже не в Нагасаки, а в Токио, и не для исследовательской работы и написания диссертации, а в качестве сотрудника одной из служб русской дипломатической миссии, где использовалось его знание японского языка и японской экономики.
Нескольких месяцев пребывания в санитарном поезде и месяца жизни в Воскресенском на Десне – имении Н.К. фон Мекка – оказалось достаточным, чтобы отец уехал в Японию с молодой женой. Маме тогда было восемнадцать лет. Вернулись родители в Москву в июле 1917 года, за месяц до моего рождения. Отец получил место исполняющего обязанности профессора (экстраординарного профессора или приват-доцента, как тогда говорили) Московского университета. Это место давало право читать лекции и получать зарплату, правда, очень скромную по тем временам, но достаточную для жизни, тем более, что семья фон Мекк предоставила молодому семейству двухкомнатную мансарду в своем особняке. Там я и родился.
Дед, Сергей Васильевич Моисеев был тогда еще на Дальнем Востоке, где он занимал высокий в железнодорожном ведомстве пост – был начальником Дальневосточного железнодорожного округа. Дед происходил из старой дворянской семьи, но не земельного дворянства, а служилого. Дед не был помещиком. Во всяком случае, семейные воспоминания не сохранили в памяти рассказов о каких-либо имениях, вообще о земельной собственности. А вот о службе государю воспоминаний было много. Дед любил рассказывать о всевозможных приключениях своих родственников, об их заслугах перед страной, преимущественно на военном поприще.
Дворянство Моисеевых было старое. Во всяком случае, оно было получено в допетровские времена. Сохранилось предание о том, что рославльский дьяк Иван Моисеев ходил с каким-то атаманом то ли к низовьям Оби, то ли еще куда, и что-то об этом походе написал. Поскольку род Моисеевых происходил из Рославля, деду хотелось считать этого Ивана своим прямым предком. Во всяком случае, когда он начинал мне читать нравоучения, что случалось достаточно часто, любил приговаривать: помни, Никитка, в тебе течет кровь землепроходца. Я подозреваю, что рославльский дьяк был выдумкой деда, на что он был горазд. А если этот мифический дьяк и существовал, то признать родство с ним могло бесчисленное количество жителей этого города: все служилые люди в те стародавние времена в славном городе Рославле были либо Моисеевы, либо Наумовы, либо Ильины! И сейчас в Рославле очень много людей с «пророческими» фамилиями.
Но одно известно точно: отец моего деда был последним станционным смотрителем, а позднее – почтмейстером в городе Рославле, что на Большой смоленской дороге. Дед был старшим из многочисленных сыновей Василия Васильевича, женатого на дочери капитана первого ранга Белавенца (до революции, кажется, все Белавенцы были капитанами первого ранга). Моисеевы были в родстве со многими известными смоленскими фамилиями – Бужинскими, Белавенцами, Энгельгардтами.
Дед и его младший брат, дядя Вася, стали инженерами, а все остальные братья после окончания Кадетского корпуса вышли в офицеры и растворились в бесконечном русском воинстве. Один из братьев моего деда погиб в Манчжурии во время японской войны. Другой – в германскую войну, будучи уже в больших, кажется, генеральских, чинах.
Мой дед женился лишь в преддверии своего сорокалетия на Ольге Ивановне – дочери профессора математики университета Святого Владимира в Киеве Ивана Ивановича фон Шперлинга. Этот мой прадед происходил из обрусевшей немецкой семьи, сохранившей, однако, лютеранство и некоторые особенности, свойственные русским немцам, имевшим прибалтийские корни. Так, например, моя бабушка Ольга Ивановна, несмотря на то, что была лютеранкой, ходила только в русскую церковь и очень не любила латышей, хотя, кажется, ни с одним из них никогда не имела дела.
Все наши родственники очень почитали и любили бабушку. И когда кто-нибудь из них оказывался в Москве, считали необходимым ее навесить. Не столько дедушку, сколько бабушку. Несмотря на кажущуюся легкость в обращении с людьми, она была очень одиноким человеком – больше слушала и мало кому говорила о своем сокровенном.
Несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в годах, дед и бабушка прожили большую и, как мне кажется, счастливую жизнь. Ольга Ивановна была человеком во многих отношениях замечательным. Можно сказать без преувеличения, что она была цементом, связывающим большую и очень разбросанную по стране (да и по всему миру) семью. Несмотря на некоторую немецкую педантичность, она была очень добра и отзывчива к чужим бедам. И, что очень важно в наш суровый век, она была человеком огромного внутреннего мужества. Когда после гибели отца и скоропостижной кончины деда семья осталась практически без средств к существованию, бабушка уже в очень преклонном возрасте начала давать уроки немецкого языка. В ней появилась какая-то суровая целеустремленность – поставить внуков на ноги.
Бабушка была очень образованным человеком, читала и говорила на трех европейских языках, хорошо знала не только русскую, но и немецкую, и французскую литературу, могла на память читать множество стихотворений: по-немецки преимущественно Гете, а по-русски – Тютчева и Алексея Толстого. Всех поражала ее собранность. Она все делала хорошо. Прекрасно готовила, не гнушалась никакой работой, квартира была всегда в идеальном порядке. Бабушка никогда не бывала неряшливо одета. Никто не видел ее в халате или небрежно причесанной. Со мной была строга и тщательно проверяла мои уроки. Я ей обязан очень многим.
Хотя понял это, увы, слишком поздно.
Школа и конец семьи
На Сходне была единственная школа – ШКМ, сиречь школа крестьянской молодежи, куда я и был определен в двадцать четвертом году по достижению семилетнего возраста. К этому времени я уже читал для собственного удовольствия: к моему семилетию мне подарили «Тома Сойера» с иллюстрациями, и я прочел его залпом. Терпеть не мог арифметику, считая, что она мне не будет нужна, поскольку я собирался стать астрономом – знал созвездия и объяснял взрослым особенности календаря. Говорил достаточно свободно по-французски и по-немецки. Немецкий я потом потерял полностью, а французский легко восстановил, когда мне пришлось читать лекции во Франции.
Первое сентября 1924 года осталось очень памятным и грустным днем. Бабушка отвела меня в школу в первый класс. Я вернулся домой зареванным: меня побили, измазали, но самое обидное – назвали буржуем. И сказали, что я из тех, которых еще предстоит добить. В школе я оказался действительно чужаком и остро чувствовал это. Я не понимал, откуда такое общее ко мне недоброжелательство, за что меня бьют, что во мне не нравится моим одноклассникам. И вообще, почему люди дерутся и откуда у них такая злоба к другим?
Позднее я и сам научился драться и как следует давать сдачу. Когда в школу пошел мой младший брат, его уже никто не трогал – знали, что даром это не пройдет, знали, что у Сергея Моисеева есть брат Никита Моисеев.
В первые годы я очень не любил и боялся ходить в школу. Отец получил разрешение, чтобы я ходил туда не каждый день. Моя мачеха, которая работала в той же школе учительницей, занималась со мной дома (а бабушка проверяла уроки). Моя непосредственная школьная учительница Зинаида Алексеевна время от времени проверяла меня и, как мне помнится, была довольна моими успехами. Отметок тогда не ставили, и я спокойно переходил из класса в класс.
В пятом классе я перешел в школу второй ступени, как тогда назывались классы с пятого по седьмой. Школа была маленькая, всего три класса по двадцать-тридцать человек, и преподаватели были хорошие, да и я уже адаптировался и в школу начал ходить с охотой. Она размещалась в красивейшей даче, расположенной высоко над рекой. До революции это была дача знаменитого Гучкова. Когда я уже начал учиться в шестом классе, то наша «гучковка», как мы звали свою школу, сгорела. Сначала мы с каким-то радостным недоумением бродили по пепелищу. Ну а потом (на Сходне другой школы не было) пришлось ездить в Москву. Я поступил тогда в школу № 7, что в Скорняжном переулке на Домниковке. Мне было тогда двенадцать лет…
Времена стали стремительно меняться. Начиналась эра пятилеток и коллективизации. Прежде всего, изменилась дорога – та самая Николаевская, или Октябрьская, дорога, честь которой поддерживали все старые железнодорожники. Кстати, их становилось все меньше и меньше, а вскоре и вовсе уже почти не стало. Исчезли патриархальность и неторопливость, о которых я писал. А поезда стали ходить медленнее, и их опоздания стали постепенно обычным явлением. Часто стали отменять пригородные поезда, как и сейчас электрички. Их приходилось долго ждать, и мы никогда не были уверены, что приедем вовремя к началу занятий. Поезда стали переполненными, появилось множество мешочников, началось воровство, драки, хулиганство.
В стране начинался голод. Ввели карточки. По карточкам давали двести граммов мокрого непропеченного хлеба. Жить стало трудно и голодно. Немного выручал огород. Кроме того, мы собирали много грибов, тогда они еще были в сходненских лесах, и я хорошо знал места, где они растут. Мы их сушили, солили. После смерти деда я остался единственным «мужчиной в доме». Надо было носить воду, колоть и пилить дрова на всю зиму – все это легло на мои плечи. Стало трудно с керосином – электричества на Сходне тогда еще не было. Керосин приходилось возить из Москвы тайком, так как возить горючее в поездах запрещали. Мы основательно поизносились. Денег-то на покупку одежды не было. Бабушка и мачеха все время что-то перешивали из старого мне и брату – мы росли, не считаясь с обстоятельствами. Я продолжал учиться на Домниковке. Тогда нуждающимся школьникам давали ордера на покупку дешевой, а то и бесплатной, одежды. Хотя я и относился к числу самых нуждающихся, мне никогда ордеров не давали: буржуй и сын репрессированного.
В тридцать втором году мне исполнилось пятнадцать лет, и я подал заявление с просьбой принять меня в комсомол. Однако собрание в приеме мне отказало. Но жестоко травмировало и удивило даже не то, что меня не приняли, к этому я был как-то готов, а то, как вели себя на собрании мои одноклассники. Мне казалось, что все они мои приятели и хорошо ко мне относятся. Я исправно составлял для многих шпаргалки, помогал отстающим, играл за сборную школы в волейбол, – а тут вдруг единодушный протест и обидные слова. Особенно рьяно выступала Рахиль Склянская, племянница известного большевика, соратника Ленина, занимавшего тогда высокий пост в партии. Через несколько лет Склянский был расстрелян. Судьба Рахили мне неизвестна. Но тогда, под аплодисменты зала, она сказала в мой адрес и в адрес моей семьи столько обидных и несправедливых слов, что я не выдержал и под конец собрания расплакался, несмотря на свой пятнадцатилетний возраст и ощущение себя взрослым мужчиной. Меня увел к себе домой Мишка Лисенков, сын преподавателя математики одного из московских вузов. Его отец напоил меня чаем, внимательно выслушал наш рассказ, а потом положил мне руку на плечо и сказал: «Держись, Никита. Сегодня надо уметь терпеть. Даст Бог, времена однажды переменятся».
В нашем классе был еще один изгой – князь Шаховской. Длинный, нелепый и очень молчаливый, он учился более чем посредственно. Я однажды был у них, пил чай в семье Шаховских. Его отец, тихий богобоязненный старик, – таким он мне во всяком случае показался – работал где-то бухгалтером. Он был «лишенцем», то есть официально лишенным каких-либо избирательных прав. Говорили, что до революции отец моего Шаховского был блестящим гвардейским офицером. Как-то мне в это не очень верилось…
Шаховской был старше меня на год, и его еще в прошлом году не приняли в комсомол. Он был изгой и держался как изгой: всех сторонился. А я не мог так держаться. Потому мне и казалось, что у него был какой-то психический сдвиг. Перед самой войной, когда я уже кончал университет, однажды встретил его у Никитских Ворот. Я возвращался тогда с концерта в консерватории. Он шел, держа на плече лестницу. Оказывается, князь Шаховской работал ночным монтером. Вот так складываются судьбы.
Через несколько лет я еще раз попытался вступить в члены комсомола. Это было уже на втором или третьем курсе университета. Собрание было настроено благодушно, и я, наверное, был бы принят в комсомол, если бы не замдекана Ледяев. Он мне задал только один вопрос: «А, наверное, ваш отец, профессор Моисеев, был из дворян?» Что я мог ответить на его вопрос? Я мог только подтвердить его подозрения. После этого он пожал плечами и сказал, обращаясь к собранию: «Это, конечно, ваше дело. Пусть Моисеев учится, коли уж мы ему позволили учиться, но зачем принимать в комсомол?» На этом тогда все и кончилось. Я так никогда комсомольцем и не стал.
Кружок Гельфанда
Со стороны могло показаться, что я в своих попытках стать комсомольцем все время старался прорваться в какое-то запретное место, старался пробиться в люди и делать карьеру, а меня какая-то сила, восстанавливая справедливость, все время отбрасывала назад. Такая сила и вправду существовала, и она меня действительно не пускала, – это был порядок советской державы, это было советское общество, которое меня и в самом деле отторгало. Но я не думал об этой силе. Я не отдавал, на мое счастье, себе отчета в том положении, которое я занимал по отношению к этому обществу. Я просто делал то, что мне казалось необходимым в данный момент. Я чувствовал себя обыкновенным человеком, им я и хотел быть – быть как все, я стремился слиться с обществом. Все были комсомольцами – почему я один, как белая ворона! Вот я и «рвался в комсомол». Я не думал о сути этой организации, для меня не существовало идеологии. Я просто не хотел быть человеком второго сорта. Вот и весь сказ! У каждого изгоя превалирует стремление быть как все, не отличаться от других, стушеваться, как говорил Достоевский.
Наверное, такое стремление во многом определяло мое поведение. Я был просто мальчишкой и хотел к людям, а меня не пускали. И я даже уже было смирился и стал привыкать чувствовать себя человеком второго сорта. О том, что я именно такой, что я не имею тех прав, которыми пользуются другие, мне прямо так и сказал за два-три года до описанного случая все тот же Ледяев. (Об этом я еще расскажу.) Мне очень хотелось учиться. И я очень боялся, что мне этого не дадут делать. Я хорошо учился в школе, но уверенности в будущем у меня не было.
Несмотря на то, что в двадцать четвертом году я терпеть не мог арифметику, в тридцать пятом я решил поступать на мехмат, причем на математическое отделение, а не на астрономическое, как мне хотелось еще в детстве. Но такая смена приоритетов произошла довольно случайно. Как и многое, что с нами происходит.
История моего поступления в университет – это пример проявления самой острой недоброжелательности общества к людям моей судьбы, которую я испытал еще мальчишкой. Эта история могла окончиться для меня катастрофой, могла полностью исковеркать мою жизнь. Лишь доброжелательство двух человек, нарушивших к тому же правила приема в МГУ, плюс бешеная работа в течение нескольких месяцев позволили мне войти в студенческий мир. Эта история заслуживает того, чтобы рассказать о ней более подробно.
Когда я учился в десятом классе, Академия наук и Московский университет организовали первую в стране математическую олимпиаду. А для будущих участников олимпиады в Математическом институте имени Стеклова – знаменитой в те времена Стекловке – был организован школьный математический кружок. Руководил им Израиль Моисеевич Гельфанд – выдающийся математик, будущий академик, а тогда всего лишь доцент мехмата. Он сыграл в моей жизни огромную роль, изменившую в одночасье всю мою судьбу. Но об этом позже.
В нашей седьмой школе математику преподавала Ульяна Ивановна Логинова – человек большой математической одаренности, внимательный и добрый учитель. Математика у нас была поставлена хорошо, и более того: вокруг Ульяны Ивановны образовалась группа учеников, изучавших предмет более глубоко и проявлявших определенные способности к математике. Звездой первой величины был Моня Биргер. Я думаю, что он сделал бы хорошую научную карьеру, если бы не погиб на фронте в самом начале войны. Были и другие очень сильные ученики. Та же Рахиль Склянская, Яшка Варшавский, Женя Шокин… Все они записались в математический кружок Гельфанда.
Ульяна Ивановна посоветовала и мне начать посещать этот кружок. Но я чувствовал себя в математике не очень прочно и полагал, что для такого кружка совсем не подготовлен. Во всяком случае, гораздо хуже, чем наши первые ученики. Да к тому же на носу был лыжный сезон, а меня включили в юношескую сборную Москвы. Об этом я и сказал нашей учительнице. А она меня в ответ обругала и добавила: «Ты бы мог учиться не хуже их, если бы меньше ходил на лыжах и больше занимался». И Ульяна Ивановна настояла на том, чтобы я тоже стал ходить на занятия в Стекловку, а занятия спортом отложил до лучших времен. «И вообще, тебе пришло время серьезно подумать о будущем, у тебя за спиной никого нет», – она мне не раз читала подобные нравоучения.
Стекловский кружок оказался по-настоящему интересным. Теперь я могу уже профессионально сказать: он был блестяще поставлен. И это заслуга не только Гельфанда. С кружковцами работали несколько молодых талантливых математиков. Они решали с нами нестандартные задачи, демонстрировали на этих примерах удивительные возможности математического изобретательства, читали нам лекции. Да и собрались в этом кружке незаурядные молодые люди. Здесь я подружился с Юрой Гермейером и Борисом Шабатом – будущими профессорами Московского университета, будущим профессором Ленинградского университета Володей Рохлиным, Олегом Сорокиным – удивительно способным юношей, погибшим на фронте уже в сорок первом году, и многими другими. Кружок работал по воскресеньям, и для него приходилось жертвовать воскресными тренировками – той зимой я твердо решил следовать заветам Ульяны Ивановны.
Весной тридцать пятого состоялась олимпиада. Конкурс первого тура из нашей школы успешно преодолели только два человека: Моня Биргер и я. Второй же тур прошел я один. Моня Биргер сам потом удивлялся, как это он не решил одну относительно простую задачу. Но соревнование есть соревнование. На третьем туре я чуть было не сорвался, но все-таки прошел. В результате и Гермейер, и Шабат, и я сделались лауреатами олимпиады и получили право не сдавать математику на вступительных экзаменах на математическое отделение мехмата МГУ. Это и решило все: я выбрал математическое отделение мехмата МГУ и начал готовиться к экзаменам и уже видел себя студентом. Однако меня поджидал страшный удар, который на некоторое время привел меня в состояние оцепенения и безнадежности.
Я сдал все экзамены. Без особого блеска, но и без троек. По моим расчетам, я должен был поступить без каких-либо трудностей: уровень экзаменующихся был не очень высокий, лишь немногие сдали экзамены по-настоящему хорошо; Гермейер и Шабат сдали почти так же, как и я. Только Олег Сорокин сдал на все пятерки. Основная масса экзаменующихся сдала значительно хуже меня. И тем не менее я принят не был!
Во время экзаменов я подружился с Семеном Шапиро. В Москве он был в первый раз в жизни, приехал поступать в университет из какого-то маленького белорусского городка. Он был добрый и тихий человек. Его подготовка оставляла желать лучшего, и Гермейер и я ему старательно помогали. Он получил много троек (тогда сдавали семь или даже восемь экзаменов), в том числе и тройку по математике. И тем не менее, был зачислен в число студентов.
Когда я убедился, что меня нет ни в списках зачисленных, ни в списках кандидатов – были и такие, – меня охватило отчаяние. Я не знал, что мне делать и как вообще жить дальше. Опять чья-то жестокая рука мне преградила дорогу. Семен переживал со мной мое несчастье, утешал как мог и потащил к отвечавшему за прием заместителю декана Ледяеву.
Куда девалась тихая сдержанность Семена Шапиро. Он начал громко и очень темпераментно объяснять, какая произошла несправедливость, он думает, что допущена ошибка, и надо, пока не поздно, ее исправить. Ледяев его прервал. Он повернулся в мою сторону и сухо сказал: «Чего вы хотите, Моисеев? Посмотрите на себя и на него, – он показал пальцем на Семена, – подумайте, кого должно принять в университет рабоче-крестьянское правительство, на кого оно должно тратить деньги? Неужели вам это непонятно?»
Моя судьба была решена.
Бабушка была в отчаянии.
Я все же становлюсь студентом
Осень тридцать пятого и зима тридцать шестого были самым критическим периодом моей жизни. Я уже не говорю о моральной подавленности. Что делать? Куда идти? Я не мог сидеть на шее у мачехи и бабушки, которые зарабатывали гроши. Общество отторгало меня, отбрасывало, и я чувствовал это всем своим существом. Я погрузился в какой-то транс. Меня охватило отчаяние и ощущение беспомощности, некому было мне помочь или даже дать разумный совет. Я был готов, на что угодно – законтрактоваться куда-нибудь на Север или ловить рыбу в Охотском море. Но где-то внутри у меня жил еще здравый смысл и хватило мужества не наделать глупостей. И в результате, как я теперь вижу, мне удалось принять самое правильное решение.
Я поступил в Педагогический институт и переехал со Сходни в студенческое общежитие. Самое главное – я стал получать стипендию. Это был, конечно, сверхскудный, но все же прожиточный минимум. И вместе с ним я обрел известную самостоятельность и получил небольшой тайм-аут. Появилось время осмотреться и подумать.
Сам институт произвел на меня весьма тяжелое, я бы даже сказал угнетающее впечатление. Студенты в своей массе очень напоминали мне моих одноклассников по сходненской ШКМ и совсем не были похожи на тех умных и образованных молодых людей, с которыми я общался последний год в математическом кружке Стекловского института и вместе с которыми хотел учиться в университете. А преподаватели в пединституте – они, вероятно, были опытными учителями и знали, как надо готовить учителей для школ того времени, но как они были мало похожи на тех молодых математиков, которые нам читали лекции в кружке Гельфанда и которых мы с энтузиазмом слушали по воскресеньям!
Одним словом, учиться в этом институте мне не хотелось, да я и не учился. Лишь иногда ходил не лекции. В ту зиму мне было еще восемнадцать лет, и по возрасту я имел право выступать на соревнованиях по лыжам за юношеские команды. Что и делал не без успеха. Кроме того, эти спортивные увлечения меня основательно подкармливали: я был включен в сборную юношескую команду Москвы по лыжам и получал бесплатные талончики на обед – для меня это было очень важно. В тот год в составе команды я ездил на первенство Союза в Кавголово.
Команда в целом выступила отлично: по всем статьям она была первой. Сам же я выступил средне. Только в составе эстафетной гонки я оказался в числе чемпионов Союза по разряду юниоров, как теперь говорят. Мне было не до занятий в пединституте, и зимнюю сессию я не сдавал вовсе. Все шло к тому, что я брошу институт и уйду в профессиональный спорт. Например, поступлю в Институт физической культуры, куда меня звали и где даже не надо было сдавать экзаменов. Но судьбе было угодно распорядиться по-другому. Она мне иногда и улыбалась. Или, во всяком случае, предоставляла неожиданные возможности.