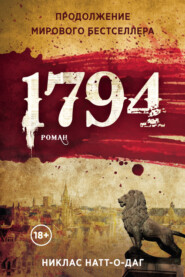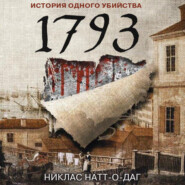По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
1795
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Никакая борьба не имеет смысла. Мир лучше не станет.
– Но хоть как-то оправдать потери! Отомстить за изувеченную судьбу чистого, влюбленного мальчика!
Эмиль потянул Карделя за руку. С тем же успехом он мог бы попытаться сдвинуть с места двухметровую каменную статую.
Кардель закашлялся и с трудом, хриплым, прерывающимся шепотом выдавил:
– А вам-то какого рожна взбрело мне помогать? У меня был выбор: вы или она. Я выбрал ее. – Он вырвал руку.
– Знаю. И знаю, почему.
– Хотел помочь – и сжег ее детей… И не только ее… сто детишек. Сто…
Эмиль покосился на пожарище. Там, у холма, меньше часа назад он видел девушку.
Никого.
– На вас только часть вины, на другую часть претендую я. Но я не могу повлиять на ваше решение. Уж кто-кто, но никак не я. Но… помните тот день, когда вы вывели меня из тяжелого запоя? Вы дали мне свободу выбора. Помните? Остались сидеть на набережной и ждали, вернусь я или нет. Теперь моя очередь. Но если решите последовать за мной, дайте слово. Даже поклянитесь. Впереди битва, в которой мы обязаны победить.
Наступило молчание. Эмиль Винге, затаив дыхание, ждал ответа. С неба по-прежнему, хотя все реже и реже, слетали серые мучнистые мотыльки пепла.
– Да. Даю слово, – вяло пробормотал Кардель. – Обязаны победить.
– Любой ценой?
– Любой.
– Тогда пошли. – Он потянул Карделя за собой.
На этот раз успешно. Пальт покачнулся и с трудом сделал первый неверный шаг. Эмиль подхватил его под руку. Карделя заметно качало. По другую сторону холма – дорога в Город между мостами.
На вершине Кардель внезапно остановился. Бессильно повисшая рука внезапно окаменела. Преодолевая боль, он с трудом поднял ее и преградил Эмилю дорогу.
– Дорога в ад, – произнес он с трудом. – Думаю, вы и сами понимаете. И вы собираетесь переться туда с инвалидом, который вас уже однажды предал?
– Вам тоже не позавидуешь по части напарника, Жан Мишель. – Смешок Винге был больше похож на стон. – Не забудьте: я постоянно советуюсь с мертвецами и не всегда отличаю поэзию от реальности. Попробуйте предложить другой расклад. То, что было нашим желанием, может стать приговором. Но… куда денешься? Теперь нами движет уже не надежда, а долг.
– И что ж… останемся друзьями, пока мы вместе?
Эмиль покачал головой. Он совершенно не умел врать.
– Нет, Жан Мишель. Друзьями нам не стать никогда. У меня только одна просьба: сначала разберитесь с девушкой. Пока вы это не сделаете, толку от вас не будет. А потом приходите.
– А вы? Вы-то с чем будете разбираться?
– Разбираться? Ну, хорошо… первым делом пойду к Исаку Блуму и сделаю все, чтобы продлить наш мандат. Это будет нелегко, если вспомнить, как мы расстались. И начну понемногу вынюхивать дичь. Будьте готовы к охотничьему сезону, Жан Мишель.
Кардель высвободил руку и двинулся вперед. Каждый шаг сопровождался сдавленным стоном.
Эмиль в последний раз оглянулся на дымящиеся развалины. Не только прекрасная усадьба, не только десятки детских жизней принесены в жертву – он и сам чего-то лишился. Сколько Винге себя помнил, в душе его всегда горело пламя гнева. Беспричинного, как он теперь понимал. Но то, что раньше скорее напоминало огонь свечи, ныне превратилось в полыхающий костер. И чем полнее осознавал он свою беспомощность, тем сильнее этот костер разгорался. Он чувствовал себя плотвичкой в грубой рыбацкой сети, бабочкой под толстым стеклянным колпаком. То, что произошло, – уже произошло, что сделано – то сделано, ничто не вернуть, но цепи ответственности и вины порвать невозможно. Раньше он помогал Карделю по собственной воле, а теперь… теперь это навязчивая идея. Idеe ?xe. Он обязан сделать все, что от него зависит.
Иначе Город между мостами так и останется его пожизненной клеткой.
Ярость и страх неразлучны, но, наверное, страх все же сильнее. Инстинкт самосохранения заложен в душу раньше и глубже. Напрасно он пытается себя утешить. Никуда не денешься: он лицом к лицу с минотавром. Он решился проникнуть в самое сердце лабиринта, он слышал предсмертные крики детей. Что может быть хуже? Или предстоит что-то еще более жуткое?
Часть первая
Охотничьи псы
Весна и лето 1795
Охотничьи псы
Сияет все, поскольку все горит,
И что ж? Пожар погас, он больше не страшит,
Истаял прочь в сиреневом дымке.
Осталась пепла горсть у каждого в руке.
Карл Густав аф Леопольд, 1795
1
Осень перешла в зиму, потом и зима уступила место весне.
Слухи – возможно, и слухи. Или сплетни, но для сплетен чересчур уж нравоучительного свойства. Страшная сказка для взрослых. Якобы поселилось в Городе между мостами чудище, бродит по ночам в переулках, и не дай бог грешнику с ним повстречаться. О внешности свидетели отзываются по-разному. Рост высокий – тут-то, положим, сходятся все. Лицо… даже и лицом назвать нельзя. Не человек – это точно. Какие-то остатки волос есть, но, можно сказать, лысый. Другие знают побольше, сами видели: вместо руки – черный коготь. Повстречался с ним – конец. Никакой надежды. Откуда взялся – тоже неизвестно. Поговаривают странное: дескать, тот самый, никто другой, именно он сжег детский дом в Хорнсбергете. Подпалил, не рассчитал и сам сгорел. Неслыханное преступление, даже в преисподнюю не пустили. Вот и бродит там, где жил когда-то. Искупает грехи. Но обиженным судьбой бояться нечего – на этом сходятся все.
Двор идет под уклон. Франца Грю это не беспокоит, но только пока он трезв. Если выпил – беда. Как ни пытается пройти по прямой к отхожему месту – не получается. Кидает из стороны в сторону. И каждый раз одно и то же: чертова крапива тут же находит дыры в чулках, как будто у нее и другого дела нет. И мстит он ей каждый раз одинаково: спускает портки и мочится – черт с ним, с мушиным царством в покосившемся сортире. К вечеру сильно похолодало, но он не чувствует холода. Поднатужился, выдавил последние капли. Годы берут свое – позывы все чаще, а результаты все скромнее. А может, и не чаще. Нет, все же чаще – крапива еще мокрая после предыдущего посещения. Да с чего бы ей сохнуть в такой холод. Стряхнул последние капли, опустил рубаху и натянул штаны. Огляделся. Каменные домишки уже разваливаются, хотя им всего-то несколько десятков лет. Заложены после большого пожара в квартале Мария, даже расчищать ничего не пришлось. В прогалах между домами кое-где видна ртутно поблескивающая вода Рыцарского залива. А за самыми дальними хижинами – Город между мостами. Как он не утонет под тяжестью дворцов, которые понастроили богатеи! Прогуливаются целыми днями, лопочут по-французски, а у него не хватает на бутылку приличного пойла. Нормального пойла, не кислятины, от которой сводит челюсти. Он представил, как вода залива поднимается все выше, лижет каменные финтифлюшки на стенах, плещется на застеленных коврами лестницах, как коричневая флотилия дерьма из затопленных сортиров, покачиваясь на волнах Меларена, подбирается к позолоте решетчатых окон. Как захлебываются грязной жижей выряженные ведьмы в съехавших набок париках, как вопят их кавалеры, повисшие на ветвистых рогах хрустальных люстр. И хорошо бы потопу этим не ограничиться. Потоп – значит, потоп, никаких скидок. Милости прошу, водичка, и к нашему холму тоже. Только не зарывайся – до моего порога, и ни на дюйм выше. Хей до[2 - Hej d? (шв.) – прощайте.], бродяги, бляди и попрошайки. И богачи заодно.
Вдохнул с удовольствием, зачарованный представившейся картиной, а выдох принес разочарование.
Пустые мечты.
Хотя бы мельницы остановить. От их натужного воя и скрипа голова разламывается. И все равно – лучше, чем в доме. Мелкота шастает туда-сюда, он так и не научился их различать. Погонишься за одним, он шасть за угол, а там… то ли этот, то ли другой – хрен разберешь. Ну и дашь затрещину первому попавшемуся, другим в назидание.
Пошел в спальню. Ведьма где-то шляется, и слава богу – можно спокойно допить, что осталось, без нытья: кто за квартиру будет платить, где деньги на хозяйство… Пошла бы подальше.
Что же такого было в его жизни? Почему все не так? Слова оправдательной речи складываются с трудом. Надо бы как-нибудь попробовать на трезвую голову, а то мысли путаются. Он же может все объяснить. Работал с утра до ночи, трудился, как пасторский сын перед домашним опросом. Кто бы оценил… кабы оценили, и жизнь пошла бы по-другому. Пил бы рейнское из хрустального графина, жрал бы изюм и вафли. С красоткой на коленях. И месть, месть – отомстил бы всем, кто лишил его заслуженного счастья, всем врагам и недоброжелателям. Будет прихлебывать золотистое вино, глотать устриц и смотреть, как их руки-ноги наматываются на спицы дубового колеса.
Стук в дверь. Черт бы их всех подрал… Не стал открывать – все равно ничего хорошего ждать не приходится. Пусть стучат… и вздрогнул так, что чуть не свалился на пол: дверь слетела с петель, брызнули щепки. Кто-то, он даже не успел сообразить кто, схватил его за шиворот и поволок на двор. Треснулся лбом о порог… спасибо, что пьяный. Тело как ватное – иначе бы переломал ребра, а то и хребет. Получил несколько пинков ногой в зад и оказался в той самой мокрой крапиве.
Франц Грю закрыл глаза: уж не приснилось ли? Подождал немного: а вдруг и вправду сон, мало ли что приснится спьяну? Сейчас исчезнет его мучитель, как его и не было, и он проснется в своей койке. В худшем случае на полу. Но тут услышал звук, знакомый, как собственный голос: хлопок пробки, как раз той самой пробки, которой была заткнута та самая бутылка, из которой… там же еще полно! Он вскочил. Но не успел сделать даже шага на подгибающихся ногах, как пришлось увертываться: бутылка просвистела мимо его уха, ударилась о стену дома и оглушительно звонко рассыпалась на осколки. Наверное, с таким звуком и миру придет конец, подумал было, но мысль додумать не успел: чья-то рука схватила за волосы и поволокла по земле. Сколько синяков будет – не сосчитать.
Он поднял голову – кто-то огромный, с широченными плечами. Жизнь выработала у Франца Грю чувство опасности: он быстро сообразил – худшее впереди. От этого типа просто пышет яростью, аж дрожит, как якорная цепь. Чего же он такого натворил, что заслужил такое? Решил начать с мелких провинностей – может, удастся выторговать помилование.
– Знаю, знаю, – сказал жалобно. – Стены тонкие, говорят, храплю. Сильно…
– Заткнись.
Франц лихорадочно перебирал свои грехи, выбрал первый пришедший на ум.
– Но хоть как-то оправдать потери! Отомстить за изувеченную судьбу чистого, влюбленного мальчика!
Эмиль потянул Карделя за руку. С тем же успехом он мог бы попытаться сдвинуть с места двухметровую каменную статую.
Кардель закашлялся и с трудом, хриплым, прерывающимся шепотом выдавил:
– А вам-то какого рожна взбрело мне помогать? У меня был выбор: вы или она. Я выбрал ее. – Он вырвал руку.
– Знаю. И знаю, почему.
– Хотел помочь – и сжег ее детей… И не только ее… сто детишек. Сто…
Эмиль покосился на пожарище. Там, у холма, меньше часа назад он видел девушку.
Никого.
– На вас только часть вины, на другую часть претендую я. Но я не могу повлиять на ваше решение. Уж кто-кто, но никак не я. Но… помните тот день, когда вы вывели меня из тяжелого запоя? Вы дали мне свободу выбора. Помните? Остались сидеть на набережной и ждали, вернусь я или нет. Теперь моя очередь. Но если решите последовать за мной, дайте слово. Даже поклянитесь. Впереди битва, в которой мы обязаны победить.
Наступило молчание. Эмиль Винге, затаив дыхание, ждал ответа. С неба по-прежнему, хотя все реже и реже, слетали серые мучнистые мотыльки пепла.
– Да. Даю слово, – вяло пробормотал Кардель. – Обязаны победить.
– Любой ценой?
– Любой.
– Тогда пошли. – Он потянул Карделя за собой.
На этот раз успешно. Пальт покачнулся и с трудом сделал первый неверный шаг. Эмиль подхватил его под руку. Карделя заметно качало. По другую сторону холма – дорога в Город между мостами.
На вершине Кардель внезапно остановился. Бессильно повисшая рука внезапно окаменела. Преодолевая боль, он с трудом поднял ее и преградил Эмилю дорогу.
– Дорога в ад, – произнес он с трудом. – Думаю, вы и сами понимаете. И вы собираетесь переться туда с инвалидом, который вас уже однажды предал?
– Вам тоже не позавидуешь по части напарника, Жан Мишель. – Смешок Винге был больше похож на стон. – Не забудьте: я постоянно советуюсь с мертвецами и не всегда отличаю поэзию от реальности. Попробуйте предложить другой расклад. То, что было нашим желанием, может стать приговором. Но… куда денешься? Теперь нами движет уже не надежда, а долг.
– И что ж… останемся друзьями, пока мы вместе?
Эмиль покачал головой. Он совершенно не умел врать.
– Нет, Жан Мишель. Друзьями нам не стать никогда. У меня только одна просьба: сначала разберитесь с девушкой. Пока вы это не сделаете, толку от вас не будет. А потом приходите.
– А вы? Вы-то с чем будете разбираться?
– Разбираться? Ну, хорошо… первым делом пойду к Исаку Блуму и сделаю все, чтобы продлить наш мандат. Это будет нелегко, если вспомнить, как мы расстались. И начну понемногу вынюхивать дичь. Будьте готовы к охотничьему сезону, Жан Мишель.
Кардель высвободил руку и двинулся вперед. Каждый шаг сопровождался сдавленным стоном.
Эмиль в последний раз оглянулся на дымящиеся развалины. Не только прекрасная усадьба, не только десятки детских жизней принесены в жертву – он и сам чего-то лишился. Сколько Винге себя помнил, в душе его всегда горело пламя гнева. Беспричинного, как он теперь понимал. Но то, что раньше скорее напоминало огонь свечи, ныне превратилось в полыхающий костер. И чем полнее осознавал он свою беспомощность, тем сильнее этот костер разгорался. Он чувствовал себя плотвичкой в грубой рыбацкой сети, бабочкой под толстым стеклянным колпаком. То, что произошло, – уже произошло, что сделано – то сделано, ничто не вернуть, но цепи ответственности и вины порвать невозможно. Раньше он помогал Карделю по собственной воле, а теперь… теперь это навязчивая идея. Idеe ?xe. Он обязан сделать все, что от него зависит.
Иначе Город между мостами так и останется его пожизненной клеткой.
Ярость и страх неразлучны, но, наверное, страх все же сильнее. Инстинкт самосохранения заложен в душу раньше и глубже. Напрасно он пытается себя утешить. Никуда не денешься: он лицом к лицу с минотавром. Он решился проникнуть в самое сердце лабиринта, он слышал предсмертные крики детей. Что может быть хуже? Или предстоит что-то еще более жуткое?
Часть первая
Охотничьи псы
Весна и лето 1795
Охотничьи псы
Сияет все, поскольку все горит,
И что ж? Пожар погас, он больше не страшит,
Истаял прочь в сиреневом дымке.
Осталась пепла горсть у каждого в руке.
Карл Густав аф Леопольд, 1795
1
Осень перешла в зиму, потом и зима уступила место весне.
Слухи – возможно, и слухи. Или сплетни, но для сплетен чересчур уж нравоучительного свойства. Страшная сказка для взрослых. Якобы поселилось в Городе между мостами чудище, бродит по ночам в переулках, и не дай бог грешнику с ним повстречаться. О внешности свидетели отзываются по-разному. Рост высокий – тут-то, положим, сходятся все. Лицо… даже и лицом назвать нельзя. Не человек – это точно. Какие-то остатки волос есть, но, можно сказать, лысый. Другие знают побольше, сами видели: вместо руки – черный коготь. Повстречался с ним – конец. Никакой надежды. Откуда взялся – тоже неизвестно. Поговаривают странное: дескать, тот самый, никто другой, именно он сжег детский дом в Хорнсбергете. Подпалил, не рассчитал и сам сгорел. Неслыханное преступление, даже в преисподнюю не пустили. Вот и бродит там, где жил когда-то. Искупает грехи. Но обиженным судьбой бояться нечего – на этом сходятся все.
Двор идет под уклон. Франца Грю это не беспокоит, но только пока он трезв. Если выпил – беда. Как ни пытается пройти по прямой к отхожему месту – не получается. Кидает из стороны в сторону. И каждый раз одно и то же: чертова крапива тут же находит дыры в чулках, как будто у нее и другого дела нет. И мстит он ей каждый раз одинаково: спускает портки и мочится – черт с ним, с мушиным царством в покосившемся сортире. К вечеру сильно похолодало, но он не чувствует холода. Поднатужился, выдавил последние капли. Годы берут свое – позывы все чаще, а результаты все скромнее. А может, и не чаще. Нет, все же чаще – крапива еще мокрая после предыдущего посещения. Да с чего бы ей сохнуть в такой холод. Стряхнул последние капли, опустил рубаху и натянул штаны. Огляделся. Каменные домишки уже разваливаются, хотя им всего-то несколько десятков лет. Заложены после большого пожара в квартале Мария, даже расчищать ничего не пришлось. В прогалах между домами кое-где видна ртутно поблескивающая вода Рыцарского залива. А за самыми дальними хижинами – Город между мостами. Как он не утонет под тяжестью дворцов, которые понастроили богатеи! Прогуливаются целыми днями, лопочут по-французски, а у него не хватает на бутылку приличного пойла. Нормального пойла, не кислятины, от которой сводит челюсти. Он представил, как вода залива поднимается все выше, лижет каменные финтифлюшки на стенах, плещется на застеленных коврами лестницах, как коричневая флотилия дерьма из затопленных сортиров, покачиваясь на волнах Меларена, подбирается к позолоте решетчатых окон. Как захлебываются грязной жижей выряженные ведьмы в съехавших набок париках, как вопят их кавалеры, повисшие на ветвистых рогах хрустальных люстр. И хорошо бы потопу этим не ограничиться. Потоп – значит, потоп, никаких скидок. Милости прошу, водичка, и к нашему холму тоже. Только не зарывайся – до моего порога, и ни на дюйм выше. Хей до[2 - Hej d? (шв.) – прощайте.], бродяги, бляди и попрошайки. И богачи заодно.
Вдохнул с удовольствием, зачарованный представившейся картиной, а выдох принес разочарование.
Пустые мечты.
Хотя бы мельницы остановить. От их натужного воя и скрипа голова разламывается. И все равно – лучше, чем в доме. Мелкота шастает туда-сюда, он так и не научился их различать. Погонишься за одним, он шасть за угол, а там… то ли этот, то ли другой – хрен разберешь. Ну и дашь затрещину первому попавшемуся, другим в назидание.
Пошел в спальню. Ведьма где-то шляется, и слава богу – можно спокойно допить, что осталось, без нытья: кто за квартиру будет платить, где деньги на хозяйство… Пошла бы подальше.
Что же такого было в его жизни? Почему все не так? Слова оправдательной речи складываются с трудом. Надо бы как-нибудь попробовать на трезвую голову, а то мысли путаются. Он же может все объяснить. Работал с утра до ночи, трудился, как пасторский сын перед домашним опросом. Кто бы оценил… кабы оценили, и жизнь пошла бы по-другому. Пил бы рейнское из хрустального графина, жрал бы изюм и вафли. С красоткой на коленях. И месть, месть – отомстил бы всем, кто лишил его заслуженного счастья, всем врагам и недоброжелателям. Будет прихлебывать золотистое вино, глотать устриц и смотреть, как их руки-ноги наматываются на спицы дубового колеса.
Стук в дверь. Черт бы их всех подрал… Не стал открывать – все равно ничего хорошего ждать не приходится. Пусть стучат… и вздрогнул так, что чуть не свалился на пол: дверь слетела с петель, брызнули щепки. Кто-то, он даже не успел сообразить кто, схватил его за шиворот и поволок на двор. Треснулся лбом о порог… спасибо, что пьяный. Тело как ватное – иначе бы переломал ребра, а то и хребет. Получил несколько пинков ногой в зад и оказался в той самой мокрой крапиве.
Франц Грю закрыл глаза: уж не приснилось ли? Подождал немного: а вдруг и вправду сон, мало ли что приснится спьяну? Сейчас исчезнет его мучитель, как его и не было, и он проснется в своей койке. В худшем случае на полу. Но тут услышал звук, знакомый, как собственный голос: хлопок пробки, как раз той самой пробки, которой была заткнута та самая бутылка, из которой… там же еще полно! Он вскочил. Но не успел сделать даже шага на подгибающихся ногах, как пришлось увертываться: бутылка просвистела мимо его уха, ударилась о стену дома и оглушительно звонко рассыпалась на осколки. Наверное, с таким звуком и миру придет конец, подумал было, но мысль додумать не успел: чья-то рука схватила за волосы и поволокла по земле. Сколько синяков будет – не сосчитать.
Он поднял голову – кто-то огромный, с широченными плечами. Жизнь выработала у Франца Грю чувство опасности: он быстро сообразил – худшее впереди. От этого типа просто пышет яростью, аж дрожит, как якорная цепь. Чего же он такого натворил, что заслужил такое? Решил начать с мелких провинностей – может, удастся выторговать помилование.
– Знаю, знаю, – сказал жалобно. – Стены тонкие, говорят, храплю. Сильно…
– Заткнись.
Франц лихорадочно перебирал свои грехи, выбрал первый пришедший на ум.