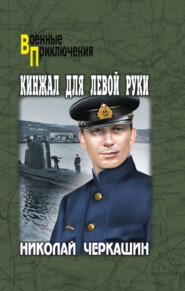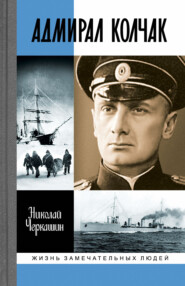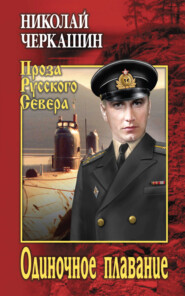По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лес простреленных касок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава третья
ЧП на улице ожешко
Иерархов прочитал книжку Васильева всю – начал с первого стихотворения и уже не смог оторваться. Он не нашел в ней ничего антисоветского, подрывного, за что бы стоило расстрелять. Более того, он пришел в восторг от поэтического слога Васильева, его образности, его стиля. А главное, многие строки поэта отзывались, словно струны струнам. И каждая строка казалась о ней – о Галине…
Сшей ты, ради бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твое яростное тело
С ядрами грудей позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог.
Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступни, до ноготков люблю,
За ночь обескрылевшие плечи,
Взор, и рассудительные речи…
В Московском университете умели прививать вкус к хорошей литературе, и Иерархов был одним из завсегдатаев литературной студии при филфаке. Одно время даже хотел перейти с юридического на филологический, чтобы изучать восточную поэзию, но так и не перевелся. «А перевелся бы, так не прозябал бы нынче в Гродно», – корил он себя теперь. Это было главной причиной его упаднического настроения, его каждодневного самоедства. И тут произошло нечто похожее на выброс протуберанца из глубин солнечного шара. Галина!
Кто бы мог подумать, что она здесь, в Гродно, более того, служит в том самом дивизионном суде, в который назначили и его?! Инок не сразу поверил глазам, когда увидел свою несостоявшуюся невесту, самую красивую девушку юрфака, свою первую и горькую любовь. Он вспыхнул, она вспыхнула, и вспышка эта не осталась незамеченной для всех присутствовавших. Впрочем, из «всех» были только секретарь суда Вероника Емышева да уборщица баба Клава, которой ни до чего не было дела, кроме чистоты и порядка в служебных помещениях. Другое дело Емышева – старая дева, чтобы не сказать старая судебная шушера, особа пренеприятная, завистливая, желчная, первый кандидат на скамью дворовых кумушек у подъезда. Уж от нее-то ничего не укрылось. А собственно, они ни от кого и не скрывали, что были знакомы раньше, что очень обрадовались этой встрече… Всё по-настоящему сокровенное осталось за стенами военного суда.
Галина была и мила, и пригожа, редкое сочетание кроткого нрава и истинной красоты. Она как бы стеснялась своей красоты, испытывала за нее неловкость. И это очень льстило мужчинам, почти каждый считал, что это именно он ввел красавицу в смущение, что это перед ним она опускает глаза под сенью длинных ресниц. Галина с каждым была одинаково приветлива, любезна, скромна, и это подкупало ее собеседников, поклонников, начальников… Но с ним, с Иерарховым, она была самой собой, не таила своей красоты, стремилась быть еще краше.
Она хранила его письма. И вот теперь – надо же такому быть! – они снова рядом, в одной упряжке, даром что в служебно-судебной, а не супружеско-семейной.
В тот же день они, выйдя вместе из здания военного суда, отправились побродить в речной низине Городничанки, в Швейцарский сад. Галина в тот вечер никуда не спешила: муж, как всегда, был в командировке, уехал в Белосток, дети под надежным доглядом Ванды.
Всё было почти так, как в день их первого робкого и страстного соития: май, Москва, Нескучный сад, облака цветущей сирени и еще каких-то кустистых цветов. Ее холодные пальцы в его горячей ладони. Они говорили ни о чем и шли неведомо куда, так казалось тогда… А пришли к дверям его квартиры на Пушкинской набережной. По великому счастью, родители в тот субботний вечер уехали на дачу, и у них была бездна времени друг для друга – почти сутки до воскресного полудня. Они оба предчувствовали, что их двухлетнее знакомство, дружба, первая любовь вот-вот перельется в новое качество, станет чем-то иным – очень взрослым, настоящим, восхитительным…
Возможно, всё это начиналось и продолжилось затем почти так же, как у многих друзей-сокурсников (Галина и Иннокентий чуть поотстали от них), но им казалось, что каждое деяние этих весенних сумерек – будь то совместно приготовленный ужин (яичница с колбасой), чаепитие на подоконнике, любование в отцовский бинокль на Москву-реку – всё было наполнено каким-то особенным, почти магическим смыслом. Всё это было предвестием тревожного чуда, предвосхищением новой грани жизни, их общей, совместной жизни, в которой никого, кроме них, не было и быть не должно. И она не отвела, как всегда, его руки во время затянувшихся поцелуев, когда они предерзко стали расстегивать молнию на спинке платья. И платье, синее в белый горошек, вдруг само собой, как бы нечаянно, словно никто этого не ожидал, упало к ее ногам, как падает в театре занавес… Вместе с платьем упал и флер ее неприступности.
А дальше… Дальше всё было смутно и горячечно, поспешно и страстно. Рано или поздно в объятиях всякой влюбленной пары наступает тот момент, когда мужская рука рискнет скользнуть вниз. Не размыкая губ в поцелуе, она позволила его пальцам ощутить раздвоенность ее лобка, а потом вдруг резко вывернулась из его цепких объятий.
– Ты уверен, что ты этого хочешь?!
– Да! – едва выдохнул он. И она в ответ с нежной укоризной:
– Сумасшедший!..
И всё, и дальше всё было очень по-взрослому.
И вот теперь они так же, как тогда из Нескучного сада, только теперь – из Швейцарского, сами собой ненароком пришли к массивной дубовой двери его отеля, Иннокентий нажал на бронзовую защелку в виде человеческой руки, сжимающей яйцо, и они вошли под низкий свод сумрачного коридора, прошли мимо стойки портье, который куда-то отлучился, и оказались перед его дверью с номером 11, оттиснутым на конской коже. И длинный ключ с затейливой бородкой бесшумно вошел в скважину замка, и дверь без скрипа отворилась и пропустила их в комнату, потому что все вещи вокруг них вступили в некий бессловесный заговор: теперь все они – и эта дверь с зеркалом на внутренней стороне, и бронзовая лампа-тюльпан над изголовьем постели, и сама постель, застланная синим бархатным покрывалом, – все они всячески потакали им на пути к сокровенному уединению. Ни один чужой, недобрый взгляд не заметил их прихода в бывшую келью-камеру, ставшую приютом Иерархова на безрадостной чужбине.
Всё свершилось с тем же душевным трепетом и без малейшего сожаления, как и в тот первый раз в доме на Пушкинской набережной. Как будто и не было ни семи лет разлуки, ни ее замужества, ни его возмужания на ниве военной юстиции.
Он хотел ее проводить.
– Не надо. Здесь недалеко. Я одна. Так будет лучше…
И ушла легкой беззвучной поступью.
…Дома все спали. Галина присела на край широкой детской кровати, где Оля и Эля спали вместе. Убрала под одеяла высунувшиеся ножки и долго сидела, любуясь ими, ведя с ними безмолвный разговор: «Милые мои, не тревожьтесь, я вас никогда не оставлю, что бы ни произошло в моей жизни. Я всегда буду рядом с вами…»
Потом она ушла в ванную комнату, приняла душ. Вода была чуть теплая, летняя, и ей казалось, что она, обнаженная, стоит под июльским дождиком, от которого душа превращается в букет летних цветов, вбирающих в себя капли, слетевшие с неба…
* * *
Иерархов глянул на часы: пора было возвращаться в комендатуру. Дальнейшее патрулирование прошло благополучно, без происшествий и эксцессов. Еще немного, и он сдаст пистолет, вернется в свой номер, заварит кофейку покрепче и завалится с книжкой.
Они шли по улице Ожешко мимо здания университета. Смеркалось. И тут из-за афишной тумбы, что стояла у входа в храм знаний, выскочил высокий парень в студенческой фуражке. В вытянутых руках он держал старинный – едва ли не кремневый! – должно быть, очень тяжелый пистолет. Щелкнул взведенный курок, кремень высек искру, бабахнул оглушительный выстрел. У Пустельги слетела с головы кубанка, пробитая свинцовой пулей размером с желудь. Стрелок тут же кинулся заряжать свой пистоль заново, но Иерархов, выхватив ТТ, бросился к нему.
– Не стреляйте, товарищ капитан! – крикнул Пустельга и сбил с ног студента. – Ты в кого, падла, метил?! – Вцепился он в горло, замотанное бело-красным шарфом. – Ты же в меня, гад, целил!
– Не душить! Брать живым! – остановил его Иерархов.
Перекошенное лицо студента было страшноватым: правый глаз косил, рот хватал воздух, и, когда косой глаз сверкал пустым белком, а рот зиял щербатиной передних зубов, он и вовсе казался обезумевшим демоном. Налетчику стянули руки тренчиком и отвели в комендатуру. Капитан-танкист Семенов с удивлением рассматривал пистолет наполеоновских времен:
– Из какого музея стырил?
– Это пистолет моего деда.
– Фамилия, имя, отчество?
– Деда?
– Нет, твои.
– Бартош Гловацкий[5 - Бартош Гловацкий – польский крестьянин, участник восстания Костюшко 1794 года. Прославился в битве при селе Раславицы 4 апреля 1794 года, когда он захватил пушки русской армии и получил чин хорунжего краковских гренадеров. Бартош Гловацкий был смертельно ранен 6 июня 1794 года в сражении возле села Щекоцины. Его имя является одним из символов польской государственности.].
– Зачем стрелял? На кого покушался?
Студент злобно сверкнул косым взглядом. В уголках губ запеклась пена.
– Никогда казакам не ходить по польской земле! – выдохнул он, затравленно озираясь.
– Это почему же? – спросил Иерархов.
– Слишком много зла принесли моему народу!
– Где оружие взял?
– Этот пистолет мне вручил сам пан Тадеуш.
– Какой еще Тадеуш?
– Косцюшко.
– А с Наполеоном, голубчик, вы, часом, не знакомы?