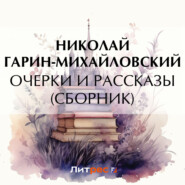По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Студенты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Надеюсь, ты не завидуешь? – спросил Карташев, смутившись и не найдясь, что сказать.
– Мой друг… преимущество глупости в том, что ей никогда не завидуют.
Карташев обиделся.
– В чем же проявляется моя глупость?
– Человек, который не проявляет ума, тем самым проявляет свою глупость.
– Ну, а ты чем проявляешь свой ум?
– Тем, что переношу терпеливо глупость.
– Свою?
– Все равно, мой друг, не будем говорить о таких пустяках.
– Не я начал, ты…
– Еще бы… Начинают всегда старшие, а младшие им подражают.
– Ну, уж тебе я не подражаю.
– Мы, может быть, оставим этот разговор и пойдем в партер?
– Как хочешь.
– Так мил и великодушен… comme une vache espagnole…[21 - как испанская корова… (франц.)]
– А ты остришь, как и подобает такому шуту, как ты.
– Ты сегодня в ударе.
– А ты нет.
– При этом мы оба, конечно, правы, потому что оба врем.
– Ах, как смешно, – пожалуйста, пощекочи меня.
– Мой друг, стыдно…
– С тобой мне ничего не стыдно, – покраснел Карташев.
Шацкий сделал пренебрежительную гримасу.
– Ты груб, как солдатское сукно.
– Я тебя серьезно прошу, – вспыхнул и запальчиво заговорил Карташев, – прекратить этот дурацкий разговор, иначе я сейчас же уеду и навсегда прекращу с тобой всякое знакомство.
– Обиделся наконец, – фыркнул Шацкий.
– Пристал, как оса.
– Ну, бог с тобой, – мир…
Карташев нехотя протянул свою руку.
– Ну, Артюша, миленький… А хочешь, я тебя познакомлю с итальяночкой?! Ну, слава богу, прояснился… Нет, серьезно, если хочешь, скажи слово – и она твоя. Я повезу вас в свой загородный дом, устрою вас там, и мы с Nicolas станем вас посещать…
Приятели вместе с публикой вошли в длинную, на сарай похожую залу театра и уселись в первых рядах. Взвилась занавесь, заиграл оркестр из пятнадцати плохих музыкантов, раздался звонок, и, как в цирке, одна за другой, один за другим выскакивали на авансцену и актрисы и актеры. Они пели шансонетки с сальным содержанием, танцевали канкан и говорили разные пошлости. Все это смягчалось французским языком, красивыми личиками актрис, их декольтированными руками и плечами и какой-то патриархальной простотой. Одна поет, а другая, очередная, стоит сбоку и что-то телеграфирует кому-то в ложу. Собьется с такта поющая, добродушно рассмеется сама, добродушно рассмеется публика, дирижер рассмеется, и начинают сначала!
– Твоя, – сказал Шацкий громко, когда итальянка подошла к рампе.
– Тише, – ответил Карташев, вспыхнув до ушей.
Взгляд итальянки упал на Карташева, и легкая приветливая улыбка скользнула по ее губам.
– Видел! – вскрикнул Шацкий.
– Тише, нас выведут…
Карташев замер от восторга.
В антракте Шацкий спросил:
– Кстати, знаешь, что ей сорок лет?
– Ты врешь, но если бы ей было и шестьдесят, я симпатизировал бы ей еще больше…
– Это легко сделать: подожди двадцать лет.
– Она вовсе не потому мне нравится, что она молода, красива и поет у Берга на подмостках. Напротив – это отталкивает, и мне ее еще больше жаль, потому что я уверен, что нужда заставляет ее… Разве пойдет кто-нибудь охотно на такую унизительную роль? Нужда их всех заставляет, но ее жаль больше других, потому что она милое, прелестное создание, ее мягкая, ласковая доброта так и говорит в ее глазах, так и просит, чтоб целовать, целовать их…
– О-го!.. одним словом, ты, как все влюбленные, потерял сразу и совершенно голову и с удовольствием взял бы итальянку себе в горничные.
– Дурак ты, и больше ничего! это богиня… я молился бы на нее на коленях.
– Ну, а что бы ты сказал, если бы увидал свою богиню на коленях гусара?
– Этого не может быть, не было и никогда не будет.
– Никогда?
– Ну, что ты спрашиваешь таким тоном, точно знаешь что? Все равно я тебе не поверю и только буду очень невысокого мнения о твоей собственной порядочности.
– Нет, я и не желаю сказать ничего. Я ее не видел, но из этого еще ничего не следует. С этого момента я буду следить за ней a la Рокамболь… Постой, вот отличный способ убедиться… Останемся до конца спектакля и выследим, с кем она поедет.
– Согласен.
– Мой друг… преимущество глупости в том, что ей никогда не завидуют.
Карташев обиделся.
– В чем же проявляется моя глупость?
– Человек, который не проявляет ума, тем самым проявляет свою глупость.
– Ну, а ты чем проявляешь свой ум?
– Тем, что переношу терпеливо глупость.
– Свою?
– Все равно, мой друг, не будем говорить о таких пустяках.
– Не я начал, ты…
– Еще бы… Начинают всегда старшие, а младшие им подражают.
– Ну, уж тебе я не подражаю.
– Мы, может быть, оставим этот разговор и пойдем в партер?
– Как хочешь.
– Так мил и великодушен… comme une vache espagnole…[21 - как испанская корова… (франц.)]
– А ты остришь, как и подобает такому шуту, как ты.
– Ты сегодня в ударе.
– А ты нет.
– При этом мы оба, конечно, правы, потому что оба врем.
– Ах, как смешно, – пожалуйста, пощекочи меня.
– Мой друг, стыдно…
– С тобой мне ничего не стыдно, – покраснел Карташев.
Шацкий сделал пренебрежительную гримасу.
– Ты груб, как солдатское сукно.
– Я тебя серьезно прошу, – вспыхнул и запальчиво заговорил Карташев, – прекратить этот дурацкий разговор, иначе я сейчас же уеду и навсегда прекращу с тобой всякое знакомство.
– Обиделся наконец, – фыркнул Шацкий.
– Пристал, как оса.
– Ну, бог с тобой, – мир…
Карташев нехотя протянул свою руку.
– Ну, Артюша, миленький… А хочешь, я тебя познакомлю с итальяночкой?! Ну, слава богу, прояснился… Нет, серьезно, если хочешь, скажи слово – и она твоя. Я повезу вас в свой загородный дом, устрою вас там, и мы с Nicolas станем вас посещать…
Приятели вместе с публикой вошли в длинную, на сарай похожую залу театра и уселись в первых рядах. Взвилась занавесь, заиграл оркестр из пятнадцати плохих музыкантов, раздался звонок, и, как в цирке, одна за другой, один за другим выскакивали на авансцену и актрисы и актеры. Они пели шансонетки с сальным содержанием, танцевали канкан и говорили разные пошлости. Все это смягчалось французским языком, красивыми личиками актрис, их декольтированными руками и плечами и какой-то патриархальной простотой. Одна поет, а другая, очередная, стоит сбоку и что-то телеграфирует кому-то в ложу. Собьется с такта поющая, добродушно рассмеется сама, добродушно рассмеется публика, дирижер рассмеется, и начинают сначала!
– Твоя, – сказал Шацкий громко, когда итальянка подошла к рампе.
– Тише, – ответил Карташев, вспыхнув до ушей.
Взгляд итальянки упал на Карташева, и легкая приветливая улыбка скользнула по ее губам.
– Видел! – вскрикнул Шацкий.
– Тише, нас выведут…
Карташев замер от восторга.
В антракте Шацкий спросил:
– Кстати, знаешь, что ей сорок лет?
– Ты врешь, но если бы ей было и шестьдесят, я симпатизировал бы ей еще больше…
– Это легко сделать: подожди двадцать лет.
– Она вовсе не потому мне нравится, что она молода, красива и поет у Берга на подмостках. Напротив – это отталкивает, и мне ее еще больше жаль, потому что я уверен, что нужда заставляет ее… Разве пойдет кто-нибудь охотно на такую унизительную роль? Нужда их всех заставляет, но ее жаль больше других, потому что она милое, прелестное создание, ее мягкая, ласковая доброта так и говорит в ее глазах, так и просит, чтоб целовать, целовать их…
– О-го!.. одним словом, ты, как все влюбленные, потерял сразу и совершенно голову и с удовольствием взял бы итальянку себе в горничные.
– Дурак ты, и больше ничего! это богиня… я молился бы на нее на коленях.
– Ну, а что бы ты сказал, если бы увидал свою богиню на коленях гусара?
– Этого не может быть, не было и никогда не будет.
– Никогда?
– Ну, что ты спрашиваешь таким тоном, точно знаешь что? Все равно я тебе не поверю и только буду очень невысокого мнения о твоей собственной порядочности.
– Нет, я и не желаю сказать ничего. Я ее не видел, но из этого еще ничего не следует. С этого момента я буду следить за ней a la Рокамболь… Постой, вот отличный способ убедиться… Останемся до конца спектакля и выследим, с кем она поедет.
– Согласен.