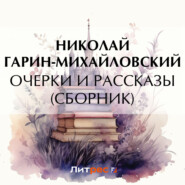По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вокруг света
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Китайцам готовится их кухня, и преобладающее в ней – во всех видах рис. Когда погода хорошая, китайцы группами сидят на палубе и в большинстве случаев играют в какую-то, вроде костей, игру. Так же азартно играют они и здесь, как везде.
Сегодня наш последний обед на пароходе: обед исключительный по количеству и разнообразию блюд.
Все довольны, хорошо настроены, все благодарят администрацию парохода и пьют за здоровье славных моряков-англичан.
Правда, они два раза делали водяную тревогу, но если бы сделали и четыре раза, вряд ли кто был бы в претензии.
Администрация парохода, – все англичане, – как будто и не возились с пассажирами, но в конце концов чувствуется в каждой мелочи, что все делалось исключительно в интересах всех. Ни одного столкновения, ни одного повода к неудовольствию. Больше месяца мы провели вместе, а время пролетело так, что, кажется, и недели не прошло.
В последний вечер мы дольше обыкновенного сидим в столовой. Фрезер меня заставляет рассказать содержание только что задуманной тогда повести «Клотильда».[2 - Напечатано в журнале «Начало». (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)]. Когда я кончил рассказывать (я рассказывал по-французски), Фрезер говорит:
– Я не знаю, как у вас выйдет на бумаге, но если бы вышло так, как вы рассказали нам, это был бы шедевр.
Я сижу и думаю, что Фрезер угадал мой недостаток: я говорю лучше, чем пишу.
Америка…
Наш громадный пароход «Gaelig» стоит у пристани, и, глядя сверху, видишь там внизу, как в колодце, узкую полоску открытой набережной, крыши пакгаузов, крытых платформ.
Видневшийся в утреннем тумане город, мыс тюленей, громадные, на оранжереи похожие, прачечные – все теперь исчезло. Мы уперлись с одной стороны в гору, закрывающую город, а с других сторон окружены, как лесом, мачтами таких же гигантов, как наш «Gaelig».
Запах пеньки, смолы, моря. Какая-то деловая проза и скука. Надо сходить с парохода, делать что-то в таможне.
Мы спустились туда вниз, в колодезь. Прошли, подняли головы, в последний раз увидели там, наверху, часть борта нашего «Gaelig'a» и исчезли в темном громадном сарае, в первое мгновение произведшем на меня впечатление крытого двора громадной корчмы.
Вот и наши вещи. Мы отпираем сундуки, ящики, и, несмотря на то, что я показываю свой билет до Петербурга, с меня взыскивают пошлину, и очень большую, за все японские безделушки: сумма пошлины равняется стоимости вещей.
Все это быстро, коротко, деловито.
– Оль райт (очень хорошо)! Можете брать свои вещи.
Мы в городе.
Американский город так не похож на наш европейский, так в нем отсутствует вчерашний день, разнообразие, так полон он разного рода техническими чудесами, весь каменный, закованный в железо и сталь, что на первое время теряешь способность воспринимать и удивляться.
Вот мчится по улице электрический трамвай; там, под вторым этажом, несется паровой; такой же – с другой стороны; еще один – под улицей.
Вот дом в 27 этажей; почему не в 57? Наш отель «Палас» в 17. Двор его больше любой площади, но и то и другое могло бы быть еще больше.
По подъемной машине мы поднимаемся в какой-то наш этаж.
С нами дама, и мы все без шляп и все стоим: это Америка, и мы уже знаем, что женщине здесь всегда, везде и во всем первое место. Двенадцатилетняя девочка может свободно путешествовать днем и ночью из конца в конец своей страны под покровительством всех мужчин ее родины.
Мы в отведенных нам номерах. Яркая чистота комнат, светлая ясеневая мебель, зеркала, широкие кровати, камины…
Внесли вещи, и мы, Н., Б. и я, торопливо разбираем их, чтобы, переодевшись, идти завтракать, осматривать город, получить по переводам. Стук в дверь, и перед нами стоит высокий широкоплечий молодой человек, с открытым веселым лицом…
Он называет мою фамилию. Я выступаю, кланяюсь. Я отвратительно коверкаю английский язык, он – французский; нам помогают Н. и Б. Он интервьюер газеты «On Call». Он узнал, что я русский писатель и пришел познакомиться со мною и моими друзьями. Откуда я еду? Куда? Названия моих сочинений?
– «Гимназисты»?
На мгновение он задумывается, но уже встряхивает головой:
– О, oui, je comprends[3 - О, да, понимаю (франц.).], – он энергично размахивает руками. – «Les gymnastes» («Гимнасты»)?
Мы смеемся и объясняем ему.
Он быстро заглядывает в свою книжку, просит наши портреты, – их у нас нет, – кланяется и уходит.
Мы кончаем наш туалет и тоже уходим.
Мы берем чичероне – худенького, тощего, с остатками приглаженных волос на голове, француза, двадцать лет живущего в Сан-Франциско.
Он попал сюда случайно, без знакомых, без связей, женился здесь и теперь живет, получая 12 тысяч долларов в год (24 тысячи рублей) за свое комиссионерство.
– На наши деньги жалование министра, – говорю я.
– Здесь в Америке это среднее жалование, – отвечает он.
Мы идем по улице с домами в десятки этажей, корпус которых – железо, облицовка – камень; и таких гигантов домов, закованных в железо и камень, в перспективе улицы столько, сколько хватает глаза, а в них множество громадных магазинов, лавок, контор, ресторанов.
Вот еще отель в 17 этажей. Никогда, ни на мгновение, ни днем, ни ночью, ни в будни, ни в праздники вот уже двадцать четыре года не запирающийся отель. В нем лучший ресторан. Здесь весь торговый мир в одиннадцать часов утра пьет свой кок-мартин (стаканчик напитка, приготовляемого из разных специй с вишней на дне; сквозь ароматную горечь чувствуется и некоторая сладость, – это вместо нашей рюмки водки); множество кабинетов, подъемных лестниц, непрерывная вереница входящих, выходящих, деловые свидания, дамы друг с другом, кавалер с дамой, целое общество, собравшееся пикником, – всех поглощает этот громадный отель, все исчезают за его таинственными волнующимися портьерами.
Вечером мы в театре.
Перед театром мы заходим в наш отель. В своих номерах мы находим множество визитных карточек, просунутых под дверь. На карточках фамилия их владельцев, их фотография, их специальность и адрес. Многого мы не понимаем, и наш чичероне объясняет скрытый для нас смысл. На одной из карточек физиономия в цилиндре представительного господина, – он предлагает к нашим услугам содержимый им дом с неприличными увеселениями. Наш чичероне начинает сообщать нам интересные, по его мнению, подробности.
После этого сообщения одинаково впечатление гадливости и от изображенного на карточке господина, владельца предлагаемого увеселительного заведения, и от нашего чичероне.
По дороге в театр я делюсь впечатлениями с Н., который деловито говорит:
– Что вы хотите? Это его специальность: в каждом месте, куда он приведет нас, он получит свой процент.
Большой театр сгорел в Сан-Франциско, а с ним сгорела опера, и мы едем в оперетку, уплатив кебу (извозчику) два доллара за один конец (четыре рубля).
Оперетку неуклюже, но весело разыгрывают американцы, и публика хохочет и довольна. Непосредственность публики, ее оживление, битком набитый театр далеко оставляют за собою безжизненную игру в пустом наполовину театре у нас. Бросается в глаза пуританизм в постановке, избегают скабрезностей, канканов, но хохочут громко, от души всякой политической остроте или остроте на злобу дня.
Театр кончен, мы идем по залитым огнями улицам с таким движением, как и днем: Сан-Франциско – центр с постоянным приливом населения всего океанского побережья, никогда не спит.
На другой день мы в гостях у Фрезера в его клубе.
V. Американец об Америке
Клуб Фрезера – очень красивое снаружи и очень уютное внутри здание: общие комнаты, комната для еды, для игр, для гимнастики, для занятий, великолепная библиотека.
Таких клубов множество, каждый американец – член какого-нибудь клуба и любит его не меньше своей Америки.
Вот стол у окна, за которым занимается Фрезер. Комфортабельный, уютный уголок, из зеркального окна которого открывается далекий вид на красивую улицу с громадными домами, трамваями и железною дорогою вдоль вторых этажей.