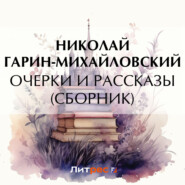По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вокруг света
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Французы здесь такие скромные, маленькие. Неудачи с Фашодой в полном разгаре, и все они, легко падающие духом, ходят печальные и пришибленные.
И Н. стал какой-то грустный и задумчивый. Кажется; причиной этому и его личные дела.
Мы были с ним в опере, заплатив по двенадцати рублей за двадцать четвертый ряд кресел. Все мужчины во фраках, а дамы декольте. Из театра дамы и кавалеры поехали, по здешнему обыкновению, в ресторан ужинать и пить чай.
Там лучше можно было рассмотреть их роскошные туалеты, их белоснежные, хорошо вымытые шеи и руки, их румяные, здоровые и красивые лица. Наконец, их завидный аппетит, с каким они ели громадные, сочные от крови бифштексы. Их прекрасные белые зубы ярко сверкали, и энергично работали их челюсти.
– Что вы хотите, – меланхолично устало объяснял мне маленький Н., – ведь это все дочери тех мясников, свиней которых мы видели с вами в Чикаго. У них много денег, но вчерашнего дня у них нет. Они так же необразованны и невоспитанны, как их свиньи: я ведь их хорошо знаю, – у нас в Париже они в моде, и считается дозволенным жениться человеку из Сен-Жерменского отеля на такой… Прикрываясь оригинальностью и модой, эти господа женитьбой поправляют дела. А как падки американцы до титулов!..
Н. презрительно свистнул и продолжал:
– И ничего пошлее нет этой нью-йоркской аристократии – ни вкуса, ни оригинальности: что это за костюмы, что за опера? Какая-то солдатская выправка, каждое движение заученное, – тяжело пахнет потом…
И все «оль райт».
И Н. со звуком, напоминающим лай бульдога, повторяет, опустив голову: «All right».
В театре меня поразила дисциплина толпы после окончания спектакля.
Верхнее платье выдавали из одного окошечка, за которым возились всего два человека. Когда хлынула вся эта громадная толпа в вестибюль, я подумал, что и ждать придется очень долго и давка будет.
Но и платье свое я получил гораздо скорее, чем у себя на родине, где десятки капельдинеров, и давки никакой не было. Без всяких полицейских толпа так педантично соблюдала права друг друга, что и в голову не приходило ринуться впереди других. Такой же порядок царил и при разъезде. Чувствовалась в этой толпе дисциплина культуры. Я поделился своими мыслями с Н.
– На этот счет они молодцы, – согласился Н. – В их толпе не может быть паники нашей толпы, они привыкли к опасностям, сильны, находчивы, всегда в сборе. Я, проездом в Японию, попал в прошлом году в театр здесь. Вдруг раздался какой-то странный шум, публика подняла головы, кто-то крикнул: «Огонь!» В одно мгновение все были на ногах, но никто не двигался. В следующее мгновение уже все аплодировали, успокаивая друг друга, и один за другим под эти аплодисменты, без всякой давки, соблюдая очередь, стали выходить. Но в это время на сцене появился какой-то господин, что-то сказал, и все опять сели на свои места, и спектакль продолжался; никакого пожара не оказалось.
Нам подают счет нашего ужина: одиннадцать долларов. Завтрак, обед, ужин, номер, кеб, театр, мелкие расходы – и почти ста рублей нет в день. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что Нью-Йорк – самое дорогое в мире место.
Да, уже здесь рантьеру из Европы делать нечего, и надо очень и очень много свободных денег, чтобы путешествовать с удобствами по Америке. Это не Франция, Швейцария, Италия, где франк и лира почти то же, что здесь доллар.
VIII. В Атлантическом океане
Свистит уныло холодный ветер. Скрывается в тумане громадный, как этот туман, Нью-Йорк со своими шестью миллионами жителей, со своим семидесятиверстным пространством, со своими узкими и высокими до неба домами, со всей своей роскошью и чудесами техники.
Неимоверных размеров, многоэтажный пароход «Лукания», самый большой в мире, с ходом до пятидесяти верст в час, уже полным ходом выбирается в открытый океан.
Мрачно, тихо, торжественно.
Там, на пристани, еще виднеется группа провожающих, но что до них? Все это уже отрезано, все это уже осталось назади и уже в прошлом, но еще рельефнее встает в памяти вся новая, как с иголки, богатая Америка.
В отдельности все там и не поражает, может быть, но совокупность впечатлений сламывает и заставляет признать, что действительно эта страна – царство богатства и техники, единственных в мире. Господство на мировом рынке этой страны, законодательство и власть ее в экономической области становится и понятнее и неизбежнее. Можно, конечно, с гордым видом отворачиваться и говорить: «Что техника, что богатства?» Но ведь миром руководит не тот, кто скажет так. Можно говорить, что Америка – страна рекламы, что в Америке столько машин, что она сама не что иное, как одна большая машина, машина, которая делает свою неумолимую работу, как бойни в Чикаго; что в Америке много денег, но мало поэзии, мало искусства, нет вчерашнего дня; что американец – человек без тени, которая не успела еще вырасти; что вся сущность Америки в туго набитых карманах выбившихся в люди мясников; что даже в искусстве их – техника все того же мясника, который одна за другой колет свиней с спокойствием и верностью машины, и так и слышится после каждого взмаха, верного и спокойного, любимое в Америке: «All right». Будь это певец, мясник, дама. Он заколол, тот взял ноту, принял позу, та вымыла шею, руки, грудь, съела кровяной бифштекс, надела великолепное декольте…
И несомненно, известная ремесленность чувствуется и шокирует, скучно за прошлым, и мало философии у этих деловых людей. Но все это наживное и второстепенное в сравнении с тем, что уже есть; и то, что есть, красноречиво говорит, что и остальное так же пышно и быстро расцветет, как уже расцвели здесь общественная жизнь, свобода женщин и мужчин, как расцвели техника и экономическое благосостояние этой великой страны.
Все быстрее идет вперед наш громадный пароход, Вот назади скрывается уже в дымке тумана громадная, манящая к себе статуя Свободы.
Прощай, Америка! Буду счастлив, если удастся еще раз увидеть тебя!
Шумит и бушует Атлантический океан: декабрь – самое бурное время его.
Легкие зелено-бутылочные волны его с белыми гребнями торопливо, беззвучно, одна за другой убегают в мглистую, пеной покрытую даль.
Злее налетит вихрь, сорвет верхушки волн и обдаст брызгами сверху донизу наш пароход. Несмотря на размеры (12 тысяч тонн вместимости), нашу «Луканию» качает: если бы не эта качка, то потерялось бы и впечатление парохода. Это скорее многоэтажная гостиница, и моя каюта, например, ни одной из своих сторон не соприкасается с бортом корабля.
Чем дальше, тем качка сильнее. Однажды мы сидели в курительной на четвертом, самом верхнем, этаже. Туда никогда не достигали раньше волны. И вдруг – это произошло мгновенно – вместо пола мы увидели там внизу бездну и весь сразу открывшийся перед нами бешено мечущийся, мглистый, весь в пене горизонт океана.
В открытую дверь к нам уже хлынул этот океан, зеленый, растрепанный старик, и ужаснее всего было то, что наша «Лукания», легши набок, точно очарованная, раздумывала: подниматься ли ей назад. Продолжалось это, вероятно, несколько мгновений, но я и, вероятно, многие пережили такое ощущение, как будто мы уже окунулись в эти легкие зелено-прозрачные волны. И весь тот день налетали эти волны, разбивались, как выстрелы пушек, удары о борт нашей «Лукании». Не было и тени того величия, с каким Тихий катит свои синие густо-плавкие волны.
Меня не укачивало, но и удовольствия никакого я не испытывал от этой непрерывной качки. Особенно ночью. Сна почти нет, потому что от качки постоянно ездишь туда и сюда по койке. И пока едешь от полу – еще ничего, а когда наклоняет к полу, надо задерживаться, а иначе упадешь. Эти четыре ночи без сна взвинтили мою нервную систему до очень болезненного раздражения.
Пассажиров сравнительно мало было – около семисот человек, и неинтересные. Большинство – англичане, да и сам пароход принадлежал английской компании.
Мой спутник из Нью-Йорка и мой сосед за столом – англичанин лет тридцати пяти, здоровый и румяный, сообщил мне, что, вероятно, приехав, мы уже услышим об объявленной французам войне.
– Эта война неизбежна, – говорил он, глотая шампанское, – у французов должны быть отняты их колонии, потому что они не годятся для этого дела… Латинские расы обречены на вымирание и должны уступить место нам, американцам, немцам и даже японцам. Испания не хотела сознать это и поплатилась: такая же судьба ждет и французов, – их флот через две недели после войны не будет существовать.
Англичанин говорил со мною по-французски. Он обратился ко всему столу и то же сказал по-английски. Ему сочувственно закивали головами все и, перебивая друг друга, горячо заговорили на тему о необходимости и неизбежности войны. И всю дорогу все говорили о том же постоянно, горячо и настойчиво. Несколько французов, ехавших с нами, сторонились и держались угрюмым особняком.
– О, это выродившаяся нация, – говорили англичане, – чтобы убедиться в этом, достаточно привести процесс Дрейфуса. Мировое правосудие в руках каких-то капитанов. Это – позор…
– Вы думаете, – кричал отчаянно другой, – они примут вызов? Они пойдут на все уступки и никогда не посмеют драться с нами.
– Весьма вероятно: это люди прошлого, их песенка спета, – это сплошь теперь только мелочные лавочники, которые умеют думать только о себе…
Грозный океан был уже назади, мы проплыли и зимой зеленую Ирландию, плыли теперь по гладкой, как зеркало, поверхности моря, к вечеру мы подойдем к Ливерпулю, а раздражение против французов все росло и росло.
Раздражение неприятное, тяжелое.
Вообще все это общество, несмотря на то, что между ними были и ученые и люди пера, производило сильное впечатление самодовольства до пошлости, чем-то обиженных людей. Это были хозяева, ни на мгновение не забывающие, что все это, начиная с парохода, кончая последней безделушкой, – их, принадлежит им и им не надо идти ни к кому и ни у кого ничего не надо просить, – все лучшее в мире у них. Они дадут и другим, но дадут заносчиво, зная хорошо цену того, что дадут.
Эти люди энергичны и жадны к жизни. Они чистятся, переодеваются и моются несколько раз в день, всякими способами укрепляют свое тело, едят свои громадные, кровью пропитанные бифштексы с аппетитом, не уступающим дикарям. Поэзии нет в этом обществе. Интересы коммерческие, узконациональные.
Знамя, под которым двигалась некогда политика, – религия, теперь заменено другим: промышленность, национализм. Промышленность – кровь организма, кровь, английского организма, немецкого, каждого в своем национальном мундире.
Перед самым приходом в Ливерпуль, за обедом, мой сосед по столу сказал мне:
– Вероятно, будет и с вами война у нас, мы вам готовим большой счет. Вы, конечно, друзей своих французов поддержите?
Другой сосед мой, старичок, лукаво подмигнул и сказал, рассмеявшись:
– Теперь, пожалуй, и не поддержат.
– Почему?
– У французов деньги взяты уже: политика ведь дело коммерческое.
– Война с русскими будет не легкая для вас, – заметил я, – потому что русские соединяют в себе свойства и диких и культурных наций. Вооружением мы, вероятно, не уступим вам, а как нация менее культурная, мы храбрее вас. У нас есть одна дикая песня, припев которой лично для меня отвратителен, но характерен, по-моему:
Жизнь наша копе-е-ейка…