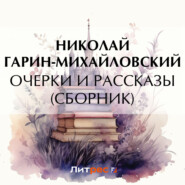По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вокруг света
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Граф жил один. Дочь его была замужем за таким же фермером, как он, и жила с мужем и тремя детьми верстах в шестидесяти. Муж ее – бывший работник графа. Сам граф много лет тому назад начал свою карьеру здесь в Америке тоже с рабочего.
– Каждый рабочий делается фермером?
Наивность своего вопроса я сообразил, когда уже задал его.
– Разве каждый подмастерье, каждый приказчик открывает свой магазин и делается мастером, купцом? Каждый моряк – капитаном? Для всего нужно свое призвание, а для земледельца больше, чем для других. Земледелие не только ремесло, но и искусство, потому что требует, кроме знания, любви, потому что только любовь не считает жертв. А если начать их считать, кто же останется здесь?
На вопрос мой, как велик средний размер здешних хозяйств, граф ответил:
– От пятидесяти до ста десятин.
– То же, значит, что и в той части Китая, где я был, – сказал я. – И такое хозяйство устойчиво, хорошо сводит концы с концами?
– Как у кого, – лучше все-таки, чем большие хозяйства. Два тут было на больших акционерных началах, и оба лопнули.
– Почему?
– Чужими руками хотели разбогатеть, а земля не любит этого и умеет разбирать, где чужие, где свои руки.
Мы обошли с графом его хозяйство. Везде образцовый порядок, но ничего нового я лично не встретил: те же рядовые сеялки, сенокосилки, жатвенные машины.
– Сколько у вас работников?
– Для поля три человека, один для двора и один для откорма скота.
В Китае на такое количество земли потребовалось бы человек шестьдесят, а здесь во всем труд человека заменен машинами, и благодаря этому один может обрабатывать тридцать десятин.
У нас в России, если б даже всю землю, удобную для пашни (250 миллионов десятин), разделить на 100 миллионов нашего сельского населения, то на душу пришлось бы всего 2? десятины. Другими словами, и в идеальном случае даже, заработок одного американца пришлось бы разделить на двенадцать русских ртов.
В деле же перевозки, по количеству железных дорог, одну порцию здешнюю пришлось бы делить уже на сотни русских ртов.
Вывод из сказанного слишком ясен, чтобы распространяться о нем, и к тому же все это давно известно.
А как обставлены здесь торговля, сбыт сельскохозяйственных продуктов – хлеба, скота!
Среднее удаление сельскохозяйственной фермы от пункта сбыта 7-8 верст.
На каждом таком пункте прием хлеба с элеватором, с выдачей 75 процентов ссуды, с заменой громоздкого хлебного товара квитанцией, которая свободно поместится в любом вашем жилетном кармане.
Квитанций, которую вы можете перевозить в любой конец мира и продать там хлеб в любой наивыгоднейший для вас момент, точно зная в каждый данный момент всю наличность хлеба в стране, регулируя этим посевы того или другого хлеба.
Этим путем завладели американцы мировым рынком, благодаря этому они и хозяева его и сбывают всегда свой хлеб по наивысшим ценам.
И как умеют они компенсировать все новыми и новыми приспособлениями все убытки от перепроизводства. Уже теперь доставка из любого пункта Америки в любой Европы не превышает 22 копейки за пуд.
Я вспоминаю довод одного государственного человека у нас против того, что для успешной конкуренции нам необходимо делать то же, что делает Америка.
– Ну, тогда еще больше только собьем цену, – ответил он.
Далеко бы ушли люди, руководствуясь такой своеобразной, выгодной только для конкурентов логикой.
А приспособления при перевозке и хранении фруктов, мяса, рыбы, птиц, масла! Вагоны-холодильники, склады, ледники… Общество таких вагонов и складов дает и теперь 50 процентов дивиденда, а начало с 400 процентов. Начало с 200 вагонов и нескольких складов, а теперь у них 80 тысяч вагонов и склады везде.
Как приспособляются, как торопятся приспособиться железные дороги к жизни! Попробовали бы заправилы дорог здесь разыгрывать из себя таких невменяемых, таких не желающих считаться с требованиями окружающей их жизни, таких даже не понимающих совершенно этой жизни, каковы наши заправилы. Здесь это было бы, впрочем, немыслимо, так же, как если бы приказчик стал палкой разгонять своих покупателей или стал бы для своего удовлетворения гноить товары своего хозяина. А мы гноим товары, пропускаем все сроки доставки, и если и вынуждают нас платиться за это, то ведь не из своего же кармана платим, хотя в этом и кроется одна из главнейших причин, почему наши дороги и так плохо и так убыточно работают, почему вся наша торговля несет такие убытки, почему, между прочим, теряем все больше и больше заграничные рынки.
Мы переходим с графом в отделение для откорма скота.
Откорм здесь – это целая наука, и не в теории, а на практике определено и проверено точно, в какое именно количество сала и мяса должен превратиться каждый съедаемый фунт пищи. Можно откармливать так, что животное будет откладывать свой жир поверх мяса; можно слоями распределить жир. Всю роль в распределении этого жира играет сахар. Если, например, желают жиром равномерно пропитать мясо, начинают откорм с сахара и т. д.
Мы возвращаемся в дом, и граф показывает мне образцы семян. Я слышу о сельскохозяйственных обществах, клубах, образцовых фермах и агрономических станциях.
Словом, о чем бы ни зашла речь, видишь и слышишь не одного человека, а сплоченный союз целой группы, тесно связанной между собою одною и тою же общею целью. И все это при полной индивидуальной свободе.
Так, конечно, можно работать, или, впрочем, только так и можно работать.
Я еду назад в Сан-Франциско, мысленно полемизируя с идеалистами своей родины.
Вот сущность моей полемики.
Всей высоты своей культуры Америка достигла только совершенно свободным, ничем не стесняемым трудом.
Кажется, так логична эта свобода и равноправие труда, в силу которых следует признать за крестьянами такое же право выбирать себе любой вид труда, каким пользуется и пишущий эти строки. И если я не хочу пахать землю, хочу быть моряком, не хочу сидеть в общине, а хочу продать свой участок и писать, то и всякий другой в государстве должен иметь такие же права. В этом только залог успеха, залог прогресса. Все остальное – застой, где нет места живой душе, где тина и горькое непросыпное пьянство все того же раба, с той только разницей, что цепь прикована уже не к барину, а к земле. Но прикована все тем же барином во имя красивых звуков, манящих к себе идеалиста-барина, совершенно не знающего и не желающего знать, а следовательно, и не могущего постигнуть весь размер проистекающего от этого зла.
VII. Из конца в конец Америки
Прощай, Сан-Франциско.
Мы мчимся со скоростью 90 верст в час через всю Америку в Нью-Йорк. Шесть дней пути, но как облегчен переезд!
Вагоны, о которых мы и понятия не имеем по роскоши и удобствам. С моей точки зрения, прямо безумная роскошь. Штофная мебель, атлас, шелк, бронзы, инкрустации, хрусталь. Библиотека, читальная, курильная, парикмахерская, разговорная, вагон-столовая. Громадный вагон, каждое утро сменяющийся новым, с новым рестораном, новой кухней, новыми блюдами.
Я вспоминаю наш бедный сибирский поезд, все с тем же воздухом, закусками и блюдами от Москвы и до Иркутска, – от испарений одного пива противно войти в наш вагон-столовую. Мой компаньон Н. уже начал знакомство с окружающим нас обществом.
Две барышни. Одна – доктор философии и писательница, другая акушерка.
Н. начал знакомство обменом книг.
Доктор философии – хорошо осведомленная в литературе особа. Она владеет французским и немецким языками, свободно читает на них книги, но говорит отвратительно. Тем не менее мы понимаем друг друга, прибегая иногда и к английскому языку.
Она очень любит русскую литературу и находит, что русские женщины похожи на американок.
Французскую литературу и пустую французскую женщину она не уважает.
Я читал в дороге «Quo Vadis?» Сенкевича в английском переводе.
Она полюбопытствовала и с гримасой отдала назад мне книгу:
– Я люблю Сенкевича «Семью Поланецких», «Без догмата», потому что эти романы реальны, – я люблю все реальное, a «Quo Vadis» я не люблю, потому что это все фантазия, его выдумка, ничего общего с действительностью не имеющая: написал своих же поляков. Я не люблю таких романов.