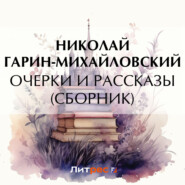По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Студенты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, конечно, – озабоченно согласился Корнев, вытер ноготь и опять начал его грызть.
Корнев искоса незаметно всматривался в Иванова; этот маленький, тщедушный человек с копной волос на голове, с какими-то особенными, немного косыми глазами, которыми он умеет так смотреть и проникать в душу, так покорять себе, – страшная сила. Кто мог думать, кто угадал бы это там, в гимназии, когда два лентяя, Иванов и Карташев, так любовно сидели сзади всех рядом друг с другом? Теперь даже и неловко говорить с ним о Карташеве.
– Моисеенко, когда я знал его, – произнес нерешительно Корнев, – не совсем разделял взгляды вашего кружка…
– Он и теперь их не разделяет.
– В таком случае я не понимаю его.
Иванов заглянул в глаза Корневу и ответил тихо:
– Что ж тут непонятного? важна точка приложения данного момента… у каждого поколения она одна… ведь и вы ее не отрицаете?
– Да… но принципиальная цель…
Корнев замолчал. Иванов ждал продолжения.
– Я все-таки сомневаюсь, – смутившись, как бы извиняясь, неестественно вдруг кончил Корнев.
– Только одно сомнение, и ничего, никаких других чувств нет?
– То есть как? Я думаю, одно только сомнение…
Корнев еще более смутился.
– Я так думаю, по крайней мере… но может быть…
Он вдруг побледнел, лицо его перекосилось, и он через силу проговорил:
– Что ж? может быть, и страх – вы думаете?
Иванов молчал.
Корнев поднял плечи, развел руками и смущенно, стараясь смотреть твердо, смотрел на Иванова.
– Во всяком случае, я всегда…
– Такого случая при данных обстоятельствах, – грустно перебил Иванов, – и быть не может.
Какая-то пренебрежительная, едва уловимая нота чувствовалась в голосе Иванова во все время визита Корнева…
Корнев, с брошюрками в кармане, выйдя на улицу, вздохнул облегченно и побрел к себе. Теперь, перед самим собой же, он спрашивал себя: что удерживает его действительно? Он смущенно покосился на шмыгнувшую в подворотню собаку и огорченно, без ответа, пошел дальше. И «maximum sufficit», и все удовлетворение слетело с его души так, точно вдруг потушили все огни в ярко освещенной зале.
– О-хо-хо-хо, – громко, потягиваясь тоскливо, пустил Корнев, когда вошел, раздевшись в передней, в свою комнату.
Он чувствовал хоть то облегчение, что он теперь один у себя в комнате и никто его не видит.
Он лег на кровать.
Вошла Аннушка в новой кофте, для покупки которой ходила в Апраксин. Модные отвороты кофты безобразно торчали, Аннушка выглядывала из своей узкой кофты, как притиснутый удав. Она, громадная, с усилием перегибала шею и осматривала себя, поворачиваясь перед Корневым.
Корнев сосредоточенно грыз ногти, не замечая Аннушки.
Аннушка, идя с Апраксина, была очень довольна покупкой, но теперь на нее напали вдруг сомнения.
– То-то надо бы и другие еще примерить, – озабоченно говорила она, – а я так, какую дали.
В передней раздался звонок. Аннушка бросилась отворять. Вошел Карташев.
– А-а! – точно проснувшись, приветствовал, вставая, Корнев.
– Спал?
– Нет… – нехотя ответил Корнев. – Что новенького?
– Целый скандал, Васька, – я писателем стал.
– Вот как…
– То есть какой там к черту писатель… Писал, писал, потом под стол бросил… А потом решил тебе все-таки прочесть.
– Интересно.
– Плохо.
– Посмотрим… Ну, что ж, читай.
– Так сразу?
– Чего же?
Карташев с волнением развернул сверток, сел и начал читать.
Корнев слушал, думал о своей встрече с Ивановым и иногда вскользь, рассеянно говорил:
– Это недурно.
Карташев кончил.
– Ну?
Корнев неохотно оторвался от своих мыслей, посмотрел, развел руками и сказал:
– Мой друг… Несомненно живо… Я, собственно, видишь ты…
Он опять остановился.
– Видишь… – опять лениво начал Корнев. – Писатель… Ведь это страшно подумать, чем должен быть писатель… если он не хочет быть, конечно, только бумагомарателем. Как мне представляется писатель-беллетрист. Ты беллетрист, конечно… Это человек, который, так сказать, разобрался уже в сумбуре жизни… осмыслил себе все и стал выше толпы… Этой толпе он осмысливает ее собственные действия в художественных образах… Он говорит: вот вы кто и вот почему… Твой же герой, – ты сам, конечно, – среди общей грязи умудряется остаться чистеньким… Но других пересолил, себя обелил, – надул сам себя, но кого другого надул? И если ты можешь остаться чистеньким, то о чем же речь, – все прекрасно, значит, в этом лучшем из миров. Если бы ты имел мужество вскрыть действительно свое нутро, смог бы осмыслить его себе и другим… Скажи, Тёмка, что ты или я можем осмыслить другим? Мы, стукающиеся сами лбами в какой-то темноте друг о друга! Мы, люди несистематичного образования, мы в сущности нищие, подбирающие какие-то случайно, нечаянно попадающиеся нам под ноги крохи; мы, наконец, даже без опыта жизни, когда притом девяносто девять из ста, что и этот опыт окончательно пройдет бесцельно вследствие отсутствия какого бы то ни было философского обоснования…
Корнев искоса незаметно всматривался в Иванова; этот маленький, тщедушный человек с копной волос на голове, с какими-то особенными, немного косыми глазами, которыми он умеет так смотреть и проникать в душу, так покорять себе, – страшная сила. Кто мог думать, кто угадал бы это там, в гимназии, когда два лентяя, Иванов и Карташев, так любовно сидели сзади всех рядом друг с другом? Теперь даже и неловко говорить с ним о Карташеве.
– Моисеенко, когда я знал его, – произнес нерешительно Корнев, – не совсем разделял взгляды вашего кружка…
– Он и теперь их не разделяет.
– В таком случае я не понимаю его.
Иванов заглянул в глаза Корневу и ответил тихо:
– Что ж тут непонятного? важна точка приложения данного момента… у каждого поколения она одна… ведь и вы ее не отрицаете?
– Да… но принципиальная цель…
Корнев замолчал. Иванов ждал продолжения.
– Я все-таки сомневаюсь, – смутившись, как бы извиняясь, неестественно вдруг кончил Корнев.
– Только одно сомнение, и ничего, никаких других чувств нет?
– То есть как? Я думаю, одно только сомнение…
Корнев еще более смутился.
– Я так думаю, по крайней мере… но может быть…
Он вдруг побледнел, лицо его перекосилось, и он через силу проговорил:
– Что ж? может быть, и страх – вы думаете?
Иванов молчал.
Корнев поднял плечи, развел руками и смущенно, стараясь смотреть твердо, смотрел на Иванова.
– Во всяком случае, я всегда…
– Такого случая при данных обстоятельствах, – грустно перебил Иванов, – и быть не может.
Какая-то пренебрежительная, едва уловимая нота чувствовалась в голосе Иванова во все время визита Корнева…
Корнев, с брошюрками в кармане, выйдя на улицу, вздохнул облегченно и побрел к себе. Теперь, перед самим собой же, он спрашивал себя: что удерживает его действительно? Он смущенно покосился на шмыгнувшую в подворотню собаку и огорченно, без ответа, пошел дальше. И «maximum sufficit», и все удовлетворение слетело с его души так, точно вдруг потушили все огни в ярко освещенной зале.
– О-хо-хо-хо, – громко, потягиваясь тоскливо, пустил Корнев, когда вошел, раздевшись в передней, в свою комнату.
Он чувствовал хоть то облегчение, что он теперь один у себя в комнате и никто его не видит.
Он лег на кровать.
Вошла Аннушка в новой кофте, для покупки которой ходила в Апраксин. Модные отвороты кофты безобразно торчали, Аннушка выглядывала из своей узкой кофты, как притиснутый удав. Она, громадная, с усилием перегибала шею и осматривала себя, поворачиваясь перед Корневым.
Корнев сосредоточенно грыз ногти, не замечая Аннушки.
Аннушка, идя с Апраксина, была очень довольна покупкой, но теперь на нее напали вдруг сомнения.
– То-то надо бы и другие еще примерить, – озабоченно говорила она, – а я так, какую дали.
В передней раздался звонок. Аннушка бросилась отворять. Вошел Карташев.
– А-а! – точно проснувшись, приветствовал, вставая, Корнев.
– Спал?
– Нет… – нехотя ответил Корнев. – Что новенького?
– Целый скандал, Васька, – я писателем стал.
– Вот как…
– То есть какой там к черту писатель… Писал, писал, потом под стол бросил… А потом решил тебе все-таки прочесть.
– Интересно.
– Плохо.
– Посмотрим… Ну, что ж, читай.
– Так сразу?
– Чего же?
Карташев с волнением развернул сверток, сел и начал читать.
Корнев слушал, думал о своей встрече с Ивановым и иногда вскользь, рассеянно говорил:
– Это недурно.
Карташев кончил.
– Ну?
Корнев неохотно оторвался от своих мыслей, посмотрел, развел руками и сказал:
– Мой друг… Несомненно живо… Я, собственно, видишь ты…
Он опять остановился.
– Видишь… – опять лениво начал Корнев. – Писатель… Ведь это страшно подумать, чем должен быть писатель… если он не хочет быть, конечно, только бумагомарателем. Как мне представляется писатель-беллетрист. Ты беллетрист, конечно… Это человек, который, так сказать, разобрался уже в сумбуре жизни… осмыслил себе все и стал выше толпы… Этой толпе он осмысливает ее собственные действия в художественных образах… Он говорит: вот вы кто и вот почему… Твой же герой, – ты сам, конечно, – среди общей грязи умудряется остаться чистеньким… Но других пересолил, себя обелил, – надул сам себя, но кого другого надул? И если ты можешь остаться чистеньким, то о чем же речь, – все прекрасно, значит, в этом лучшем из миров. Если бы ты имел мужество вскрыть действительно свое нутро, смог бы осмыслить его себе и другим… Скажи, Тёмка, что ты или я можем осмыслить другим? Мы, стукающиеся сами лбами в какой-то темноте друг о друга! Мы, люди несистематичного образования, мы в сущности нищие, подбирающие какие-то случайно, нечаянно попадающиеся нам под ноги крохи; мы, наконец, даже без опыта жизни, когда притом девяносто девять из ста, что и этот опыт окончательно пройдет бесцельно вследствие отсутствия какого бы то ни было философского обоснования…