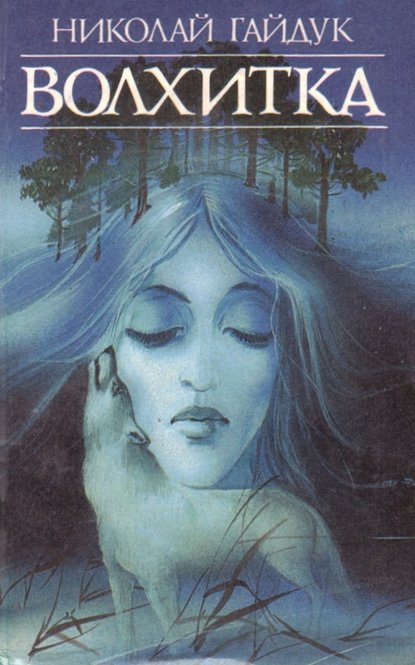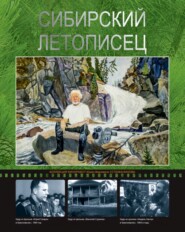По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волхитка
Год написания книги
1991
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– То-то и оно, Панок. Ты бы раньше об этом подумал. – Старший вздохнул и сплюнул. – А ловко ты его подсёк. Ты начал, ты и доводи работу до конца. Волоки его к обрыву – сбрасывай.
– А лошадь с санями куда?
– Под мунда… – Старший матюкнулся. – Лошадь в vxo стреляй. Тоже свалим в обрыв. До весны никто тут не появится, а потом половодье следы подотрет. Шито-крыто всё будет, братан, не боись.
– А сани?.. Тоже в ухо стрелять?
– Ты не скалься! – гневно прикрикнул старший. – А то как врежу по зубам! Ты не его убил, дурак! Ты клад убил! Кто нам расскажет, где он закопал?
Разбойники немного помолчали. Подумали.
– Петюня Чистоплюйцев! Вот кто нам скажет! А? – неожиданно воскликнул младший. – Тот проныра знает всё на свете. Скажем, это… закопали, а где – забыли. Помоги, мол…
– Держи карман шире. Так он тебе и поверил. Он только прикидывается тупым, а на самом деле – умнее многих.
И опять помолчали.
– Афонька, – тихо сказал младший, – а ты видел у Петюни фамильный самородок? Вот такое золотьё! Больше мово кулака! За пазухой таскает. Не вру, ей-богу!
– Будет он тебе за пазухой таскать эдакое богатство… Ладно, хватит языком молотить. Иди, стреляй кобылу!
– Не ори. Её сначала надо к обрыву подвести, а уж потом… А дохлую тащить – пупок развяжется.
– Соображаешь, когда захочешь, – похвалил Афонька. – Что? Не идёт, паскуда? Чует смертушку. Погоди, я сейчас подмогу.
Захрустела кедровая ветка, сломалась. Послышались хлопки по лошажьим ляжкам, по крупу.
– Пошла, пошла, скотина! Я из тебя повыколочу пыль!
7
Красноватый морок дрожал перед глазами, когда Емельян Прокопович с трудом поднял ресницы. Потом глаза окрепли, но ненадолго. Синий кусок небосвода, сосняки над обрывом, снега – всё расплывалось перед мутным слабеющим взором.
Проморгавшись, он увидел зелёную былинку и луговой засохший бледно-розовый цветок над головой. Сено в розвальнях запахло вдруг необычайно крепко, по-летнему. Закружилась голова и из последних сил заволновалось сердце. И всколыхнулись в глубине души воспоминания. Летние угарные покосы; молодые, немятые, сине-зеленые в вечерних сумерках стога. Свечевые белоствольные березы на краю поляны, прячущей малиновый закат. Тихая пустынная дорога. И среди покосов по дороге женщина идёт – вся в белом! – с железною сверкающей косою на плече. А навстречу ей, как будто к матери, из лугов торопится мальчишка, лицом очень похожий на Чистякова Емельку…
«Смерть, – подумал он. – Смерть!.. Или Волхитка идёт? Или Богоматерь Беловодская за моею грешною душой?..»
Последним утухающим сознанием Емельян Прокопович воспринял тоскливое, жалобное ржание в морозном воздухе и сухой короткий выстрел, расколовший мирозданье.
Сознание пропало, но в следующий миг мастер увидел землю с высоты: увидел сани и своё безжизненное тело на санях; серебряно сверкающую нитку зимника, натянутую с берега на берег; потом увидел облака над перевалом, ледяные пики беловодских гор; потом Земля представилась величиной в орех и пропала где-то в безбрежной синеве…
8
Два этих разбойника с большой дороги – братья. Старший, наиболее отчаянный – Афанасий, Афоня или Ахламоня, так его прозвали. А младший, трусоватый – Панкрат или Панок. Это были родственники треклятого Кикимора Кикимордовича.
Несколько дней, пока снежок не потрусил, они старательно бродили по следам Чистякова. Как-то разнюхали дорогу на Ревущие Быки, заглянули в пещеру, но не сумели что-либо сыскать: слишком глубоко был запечатан клад.
– Он, конечно, на него наложил заклятие, – сказал Панок. – Чёрта с два доберёшься.
– Ключ-траву найдём, так доберёмся, – уверенно ответил Ахламоня. – А пока поехали…
В беловодском городке кладоискатели продали крупную горошину красного яхонта, поделили денежку и решили дожидаться лета. В ночь на Ивана Купалу надо будет в таёжной глухомани отыскать волшебную ключ-траву и с нею забраться в пещеру. Ключ-трава любые клады распечатает в земле и под водою, это знает каждый на нашей беловодской стороне. Только очень трудно тот ключ обнаружить в тайге. А ещё труднее будет унести: нечисть непременно подкараулит. Но уж если посчастливится кому, тот станет жить, как говорили деды на Руси, – по колено в золоте, по локоть в серебре.
Именно так мечтали братья жить.
Только у Панкрата, младшего, «дыра в горсти», что ни найдет – потеряет. А старший, Ахламоня, многого мог бы добиться в жизни: крепкая хватка, смекалка и целеустремленная душа.
Разбогатеть хотел Афоня-Ахламоня, мечтал стать хорошим пузатым купцом. В Китай ходить с товарами по тракту, в Персию, Индию… А что? Не боги горшки обжигают. Почему бы и нет? Может быть, даже он где-нибудь там, за горами, за морем купит себе жену-персиянку (Ахламоня знал подобных обладателей и завидовал им нескончаемой завистью).
Мало того! Мечтал Ахламоня корабль купить. Настоящий, огромный. Бригантину или, чёрт их знает, как их там зовут – корвет какой-нибудь, или какого-нибудь «летучего голодранца», так он шутил. Но шутки шутками, а он мечтал всерьёз. Хотел иметь свою законную посудину. Своих головорезов – отчаянную, дерзкую команду, которая будет готова за своего хозяина «мачты грызть и жевать паруса», коль прикажут. Полные трюмы всякого добра будут у него. Оружия полно – на всякий случай. Гуляй, братва! Плыви на все четыре стороны! Стой, Афанасий Батькович, на капитанском мостике, покуривай трубку в виде человеческого черепа, над которым вьются волосья дыма. А рядом с тобой – персиянка, вино и виноград на бриллиантовом подносе, и говорящий какой-нибудь попугайчик, расфуфыренный как семицветная радуга… А почему бы и нет?!
Всякий раз, бывая в беловодском городке, Ахламоня приходил на пристань, построенную из вековечных лиственниц, которые в воде становятся крепче железа. На пристани – таинственная жизнь, овеянная ветром великих странствий, опасностей и приключений. Здесь можно услышать говор на любых заморских языках. Ахламоня часами шатался по пристани, иногда сидел на деревянной какой-нибудь тумбе или чугунной кнехте, на которую калачами были намотаны канаты, державшие корабль на привязи. Глаза его скользили по названиям судов, по мачтам, по флагам. Огонёк азарта вспыхивал в зрачках отчаянного Ахламони – мечтал, прикидывал, какой из этих кораблей он бы купил себе, если бы карманы были набиты золотом.
Время от времени, жутковато поскрипывая вёслами, в бухту заворачивала какая-нибудь тёмная угрюмая галера под флагами каких-нибудь рыцарей Мальтийского ордена. И Ахламоня отчего-то вздрагивал, как может вздрагивать только человек с нечистой совестью. Отворачиваясь от галеры, Ахламоня покидал причалы и невольно думал: мечта его может осуществиться, только шиворот-навыворот. Будет «свой» корабль у него. Однажды поймают, в железо оденут, обуют – и пойдет он по морям и океанам в компании разнесчастных этих «рыцарей» – галерников.
Однако получилось по-другому. Не он пошёл к галерникам, а наоборот: галерник сам к нему явился – как в страшном сне.
Глава восьмая. Гроза на галерах. Мемуары матроса
Мы все галерники, ладони жжёт весло
И весело наигрывает флейта!..
Анатолий Корчуганов
1
В сказочную дымку, в лазоревый туман ушли и уже не вернутся те времена, когда из океанов и морей в нашу бухту на Летунь-реке, в наш беловодский захолустный городок – это теперь захолустный – спешили корабли из самых разных, самых дальних стран. «Все флаги в гости будут к нам…» – это ведь именно к нам. Про нас это написано, ей-богу. Это здесь у нас тогда вся радуга цвела – из животрепещущих флагов. Царские и королевские, гражданские и военные; с жёлтыми и синими крестами, с ярким шелковым солнцем, с белоснежными звёздами и серебряным месяцем… Голубые, красные и белые – всякие разные флаги и вымпелы полоскал тут безмятежный тёплый бриз. И встречался даже тут Весёлый Роджер, веселей которого не было на флоте – пиратский чёрный флаг с человеческим черепом с перекрещенными костями. И такие гости были, что уж тут скрывать, гости нежданные, гости незваные, они заходили сюда только в крайнем случае, когда сильно пострадали во время шторма. И многовесёльную мрачную галеру с каторжанами, прикованными к вёслам, тоже можно было встретить иногда возле этих берегов – галеру под флагом воинственных рыцарей Мальтийского ордена. И трёхмачтовый корвет с пороховыми грузами в трюмах ворочал беловодскую волну. Наш вольный ветер косыми парусами ловила бригантина с деревянною резною девкою-русалкой на носу, под бушпритом. Грозный многопушечный фрегат горой возвышался за островом в голубой лагуне, чинил борта, раздолбленные пулями и раскуроченные вражеским ядром. На тиховодах качался, подремывал смиренный пакетбот, шедший куда-то в Московию, но врасплох настигнутый свирепым штормом и в лоскуты порастрепавший паруса над морем…
Славная была армада. Знатная. Эх! Вода ей пухом!
Уплыли корабли в небытиё. Пришвартовались к мемуарам и всяким разным воспоминаниям, которые после стаканчика рома так хорошо рисуются перед глазами; ведь неспроста же ром считается, или считался когда-то, напитком не только моряков, но и писателей. Вот этот ром, однако, и подтолкнул меня маленечко того… повспоминать, заняться мемуаристикой.
И вот сейчас я вижу, как никогда, – ясно, отчётливо – как будто сквозь магический кристалл мне открываются вековечные дали, где бродил не только я, но и мои друзья, и деды наши, мореходы, и даже прадеды; не все они землю пахали, кто-то пахал и моря.
2
Беловодская бухта – уютная, горами хорошо отгородившаяся от сильного ветра, ломающего крылья на подлёте; ветер скулит в деревьях, посвистывает в гранитных скалах, на одной из которых притулилось нечто вроде маяка, малиново мигающего впотьмах.
Иные корабли кидали якоря на середине беловодской бухты, на рейде. Иные швартовались – под загрузку и разгрузку – у причальной лиственничной стенки.
Моряки, дружно таская поклажу на крепких широких плечах – из трюма или в трюм, – по пояс обнаженные, до черноты загорелые, обливались потом и пыхтели… А на верхнем мостике стоял, как Господь Бог, степенный важный капитан, облаченный в белоснежные одежды, с вертлявой обезьянкой на руках, с трубкою во рту, дымящей заморским запашистым табаком, либо крутым российским горлодёром, достающим до пяток… Волевая, угрюмая, ветрами всех морей и океанов обветренная рожа капитана не зря получила весёлое прозвище – Рожа Ветров. Суровый капитан был, но справедливый. Языком трепать помногу он не хотел и потому обзавёлся говорящим пёстрым попугаем, который помогал ему в работе…
Вот и сейчас, глядя на Рожу Ветров и замечая недовольство, попугай распоряжался капитанским голосом, сидя на фальшборте:
– Давай, давай! Р-р-работай! Черти полосатые!
Рожа Ветров ухмыльнулся, довольный.