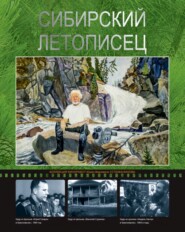По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зачем звезда герою. Приговорённый к подвигу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Задницу так в старину называли, сынок. А теперь называется ж…
Лейтенант, ухмыляясь, остановился у железной двери, зловеще зазвякал ключами.
– Не знаю, что там было, – сказал с лёгким сочувствием, – а посидеть придётся.
– Сидеть – не лежать. Надоело в больничке, все бока отвалял. А главное, что это… – Солдатеич пощёлкал пальцами, подыскивая нужные слова. – Обстановка прояснилась на передовой. Хотя, конечно, в этой новой обстановке мало хорошего, но это всё же лучше, чем неизвестность. Да, сынок?
– Да уж чего хорошего…
– И это тоже верно. А что там, на Москве, слыхать? Какие новости? Долго этот флаг болтаться будет над страной? Серо-буро-малиновый с прокисью.
– Что? Не нравится?
– Нет. Я бы снял его к чёрту! – разоткровенничался арестант. – Я, сынок, уже снимал. Было дело в сорок пятом. Над Рейхстагом.
Прежде чем двери закрыть на замок, лейтенант негромко посоветовал:
– Батя, только ты про знамя больше никому не говори. А то сильно долго тут гостить придётся.
– Да-а, гостиница у вас не ахти какая, – согласился арестант, оглядывая мрачные стены, кое-где отмеченные росчерком землетрясения. – Но всё же это не Бухенвальд. Не Освенцим. Переживу как-нибудь. Только ты бы, сынок, подсобил мне рекогносцировку навести.
– Это как же я смогу? Чем подсоблю?
– Ну, дал бы мне газетки почитать, ночку скоротать. – Солдатеич кулаком постучал по стене каземата. – У меня клаустрофобия, сынок. Тошно мне в таком вот в замкнутом пространстве. Так что ты бы уважил.
– Хорошо. Попробую. Но это нарушение.
– Дак всё теперь нарушилось. Страну свалили с ног. – Ни говори, отец. Такая буча.
В газетах, какие достались ему, было много шелухи и пустопорожней болтовни. Ворох газет представлялся похожим на большую навозную кучу, в которой иногда встречалось жемчужное зерно.
«Вам, господа, нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия» – читал Стародубцев слова Столыпина, сказанные в начале ХХ века. Интересно, а когда же начались эти потрясения души? Первая глубокая трещина – как после динамита под скалой – в душе народа возникла, наверно, в ту пору, когда народовольцы взорвали царя Александра Второго. Так, наверно, да? А дальше было проще. Клин забили в трещину – располовинили могучий монолит. Забурлила, закипела революция. Потом Гражданская война со звоном и стоном взрывала душу. Потом придумали другую землетряску – раскулачивание; многомиллионное уничтожение крестьян. Рассказачивание – самых смелых и гордых смешали с грязью. И дальше, дальше, дальше – трясли, крушили, били душу русского народа, в мелкую крошку толкли. Озверевшая толпа накинулась на Бога – небеса на землю стаскивать пошли. Иконы рубили, языки вырывали колоколам, ещё вчера малиновым стозвоном ласкающие Русь. Монастыри, как вражеские крепости, динамитом в воздух поднимали. Ну, а потом уже война с германцами сотрясала землю, крушила и доламывала, дожигала то сокровенное, что уцелело в душе и сердце русского народа. Война год за годом утюжила танками, бомбами рвала, секла пулемётами Вермахта и пулемётами советских заградительных отрядов. И что же после этого осталось на том месте, где была душа? Душа была – как поле, широко цветущее весной. А теперь – всё кругом заброшено, зачертополошено.
2
Ветер деревья хватал за грудки и встряхивал так, что листва, опалённая полночной прохладой, охапками шарахалась наземь. Ветер голосил в ветвях и в колючей проволоке за углом милиции, откуда Стародубцев вышел в раноутренний час. Глядя на грязь под ногами, на золотые пятаки листвы, постоял в невесёлых раздумках. «Ладно хоть Белоцерковский распорядился одёжку мою привезти из больницы, а то пошёл бы как недотыка…»
Петухи неподалёку растрезвонились, по старинке пытаясь нечистую силу прогнать, только теперь у них, увы, не получалось. Кругом было так много всевозможной нечисти – бульдозером не разгребёшь. Какие-то поганые ларьки стояли на каждом шагу. С похмелья помятые разбойные рожи то и дело встречались. Овраги и ямы на пути попадались, разрушенный или полусгоревший дом – следы землетрясения.
Куда идти? Что делать? Он не знал. У него было такое ощущение, будто прошло несколько лет, пока он валялся в больнице, в «тюряге» сидел. В голове такой сумбур – с ума сойдёшь.
Он закурил, задумался и даже не заметил, как налетевший ветер за несколько затяжек выкурил папиросу – только искры полетели в синеватый сумрак.
Сначала он хотел пойти, отыскать приятеля, живущего в райцентре, поговорить по поводу того, что происходит, но вспомнил приказ полковника: не бродить по районному центру, а сразу же ехать домой. Да и зачем тут бродить, что искать, когда нервы на взводе? Найдёшь приключений на афедрон.
Сгоряча забывая о своей хромоте, Степан Солдатеич вознамерился пешком дойти до Миролюбихи. Вышел за околицу, и тут нога заныла. Он завернул в перелесок, крепкий посох выломал. Но и посох был плохим помощником – ступня огнём горела. Однако Солдатеич упрямо шёл и шёл, стиснув зубы, и думал: «Дорогу осилит идущий!»
И вскоре ему повезло. На попутке он с ветерком добрался до Миролюбихи, отказавшись ехать в кабине. Во-первых, потому что клаустрофобия начинала тревожить, а во-вторых, просто не хотелось разговаривать с шофёром – тошнёхонько было.
В Миролюбихе показалось ещё холодней, чем в райцентре. Промозгло. Ветрено. Будто предзимье уже наступало на горло.
Низколобое небо, космато заволосатевшее, склонилось над крышами. Облака и тучи рваными закрайками цеплялись за деревья и скворечники на длинных шестах. «Чёртов столб» винтом крутился возле автостанции – убегал куда-то на задворки и возвращался, вздымая обрывки газет, окурки, фантики и всякую другую дребедень, в большом количестве скопившуюся по углам и в самом центре площади. Никогда ещё так грязно в этом месте не было. Так замусорено, так захламлено и так заплёвано бывает только в доме, откуда хозяева съехали.
Угрюмо глядя под ноги, где рваными знамёнами лежали осенние листья, Стародубцев обходил густой кисель грязюки, мутно-сизые лужи, кое-где застеклённые полночной стужей. Заблудился в каком-то кривоколенном проулке. Попал в тупик – полынь, сухая жалица. Постоял, растерянно зыркая по сторонам. Невдалеке приметил магазин – дверь гостеприимно растарабарили.
Он зашёл, поллитровку хотел прикупить. И тут его жена перехватила. Возле прилавка было пусто, и вдруг – на тебе…
– Стёпочка! – Глаза у неё широко расплескались на бледном лице. – Я там, в районе, в коридоре, караулила тебя, а ты ушёл, уехал, даже не заметила.
– Меня Белоцерковский чёрным ходом выпустил, – отворачиваясь от прилавка, тихо сказал Солдатеич. – Он хоть и поляк, но русский офицер. Настоящий полковник. С умом.
– Он-то, может, и с умом, а вот ты…
– Ну, хватит! – перебил Стародубцев, исподлобья поводя глазами. – Люди смотрят!
– Да как же хватит, Стёпочка? Тебя ж ни на минуту одного нельзя оставить! Какую клизьму ты хотел кому-то сделать?
– Что ты орёшь-то на всю деревню? – Он отодвинул бутылку, будто гранату, с которой уже сорвали чеку. – Забери! – раздражённо сказал продавщице: – Сто лет не пил, а ты мне суёшь зачем-то…
Остаток пути до избы Стародубцев топал как будто под конвоем – жена шагала сзади, на пятки наступала. Улица, где шли они, знакомый переулок – всё это странно как-то изменилось за то время, пока лежал в больнице. А точнее сказать: за то время, когда старый уклад по стране с грохотом обрушился, а новый на ноги ещё не встал.
От старого миропорядка ещё остались звонкие призывы на стенах казённых зданий – «наша цель…», «наша дорога…» «наша гордость…» А новый строй в ДК, в кинотеатре уже торопился правду-матку рассказать насчёт золота партии и насчёт немецкого шпиона, который на деньги масонов приехал в запломбированном вагоне, чтобы Россию зажечь огнём революции.
И снова багряные листья, шелковисто шуршавшие под сапогами, показались рваными знамёнами. И возникло вдруг такое ощущение, точно он сейчас идёт по территории, захваченной врагом. Ощущение это – забытое, давнее, унизительно-щемящее, – залегло на дно души с тех давних пор, как он прошёл по Украине, по Белоруссии, откуда пришлось выковыривать фрицев, стреляющих из каждой подворотни, из каждой белой мазанки, облизанной чёрным языком пожарища.
– Стёпушка! – окликнула жена. – Ты куда? Остановившись, он незрячими глазами уставился на калитку, мимо которой едва не протопал. И опять показалось ему, будто бы прошло несколько лет с той поры, когда покинул дом.
Запрокинув голову, он отрешенно постоял во дворе. Журавлиный клин тянулся к югу – серые крестики на синем фоне. И вдруг ему стало тоскливо – до боли, до стона. И вспомнились обрывки песни: «Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый – быть может, это место для меня…»
Дома показалось ему неуютно и холодновастенько, несмотря на то, что Доля прибралась и часом раньше печку подживила. Неуютно было, прежде всего, в душе. А в голове всё никак не могла угнездиться, не могла поместиться невероятная новость по поводу развала Советского Союза. Как это так? Вчера ещё был – необъятный такой, а сегодня – следа не найти.
Эта новость голову разламывала – настолько была велика. Он и так и сяк пытался эту новость приладить к себе, как-то свыкнуться, сжиться с тем, что произошло. Только ни черта не получилось. Это было нечто запредельное…
Доля Донатовна, тревожно посматривая на мужа, всё пыталась его уложить, всё какие-то капельки предлагала принять. Но Стародубцев наотрез отказывался.
– Належался! Напринимался! – сквозь зубы рычал. – Почему мне сразу не сказала?
– Да как же я могла, когда…
– Надо было сказать. Я бы поехал в Москву. Я бы им, сволочам…
«Вот потому и не говорила!» – вздыхая, думала жена, позвякивая посудой – на стол готовила.
– Садись, поешь.
Он посмотрел на потолок и помрачнел. – А где ключи от вышки?
– От чердака? Зачем тебе?