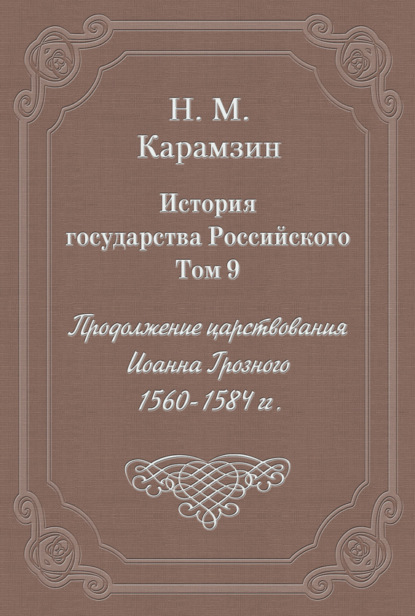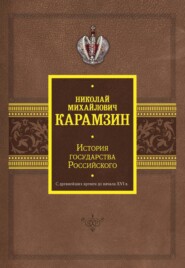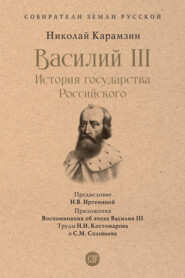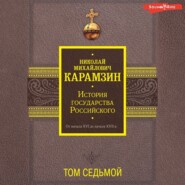По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История государства Российского. Том 9. Продолжение царствования Иоанна Грозного. 1560-1584 гг.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
История государства Российского. Том 9. Продолжение царствования Иоанна Грозного. 1560-1584 гг.
Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского #9
Двенадцатитомная «История государства Российского», написанию которой Карамзин посвятил последние 22 года своей жизни, охватывает период с древнейших времен до начала XVII века и является не только значительным историческим трудом, но и прекрасным литературным произведением. Карамзин внес много нового в понимание общего хода русской истории и в оценки отдельных исторических событий, раскрыл при помощи психологического анализа идейные и моральные мотивы действий исторических личностей. Полагая, что история человечества есть история всемирного прогресса, основу которого составляет борьба разума с заблуждением, просвещения – с невежеством. Карамзин видел задачу историка в том, чтобы наставлять людей в их общественной деятельности.
Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского. Том 9. Продолжение царствования Иоанна Грозного. 1560—1584 гг.
Глава I
Продолжение царствования Иоанна Грозного. г. 1560-1564
Перемена в Иоанне. Клевета на Адашева и Сильвестра. Суд. Заточение Сильвестра. Смерть Адашева. Начало злу. Новые любимцы. Первые казни. Война Ливонская. Великодушие Беля. Взятие Феллина. Слово Царя Казанского. Конец Ордена. Переговоры с Швециею. Война с Литвою. Второй брак Иоаннов. Взятие Полоцка. Рождение Царевича Василия. Торжество Иоанново. Смерть Царевича. Дела Крымские. Замысл Султана. Происшествия в Ливонии. Перемирие с Швециею. Злонравие супруги Иоанновой. Кончина Князя Юрия. Пострижение Иоанновой невестки и матери Князя Владимира. Кончина Макария. Сочинение Житий Святых и Степенной книги. Заведение типографии. Издание Библии в Остроге. Полоцкая Архиепископия. Белый Клобук Митрополитов. Посвящение Афанасия в Митрополиты.
Приступаем к описанию ужасной перемены в душе Царя и в судьбе Царства.
И Россияне современные и чужеземцы, бывшие тогда в Москве, изображают сего юного, тридцатилетнего Венценосца как пример Монархов благочестивых, мудрых, ревностных к славе и счастию Государства. Так изъясняются первые: «Обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым пред Богом. И в храме и в молитве уединенной, и в Совете Боярском и среди народа у него одно чувство: да властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным Помазанникам! Суд нелицемерный, безопасность каждого и общая, целость порученных ему государств, торжество Веры, свобода Христиан есть всегдашняя дума его. Обремененный делами, он не знает иных утех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязанность; не хочет обыкновенных прохлад Царских. Ласковый к Вельможам и народу – любя, награждая всех по достоинству – щедростию искореняя бедность, а зло примером добра, сей Богом урожденный Царь желает в день Страшного Суда услышать глас Милости: ты ecu Царь правды! и ответствовать с умилением: се аз и люди, яже дал ми ecu ты!» Не менее хвалят его и наблюдатели иноземные, Англичане, приезжавшие в Россию для торговли.
«Иоанн, – пишут они, – затмил своих предков и могуществом и добродетелию; имеет многих врагов, и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, Ногаи ужасаются Русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив; любит разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце, и, несмотря на то, умеет быть повелительным; скажет Боярину: иди! и Боярин бежит, изъявит досаду Вельможе и Вельможа в отчаянии: скрывается, тоскует в уединении, отпускает волосы в знак горести, пока Царь не объявит ему прощения. Одним словом, нет народа в Европе, более Россиян преданного своему Государю, коего они равно и страшатся и любят. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать, Иоанн во все входит, все решит; не скучает делами и не веселится ни звериною ловлею, ни музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями: как служить Богу, и как истреблять врагов России!»
Вероятно ли, чтобы Государь любимый, обожаемый, мог с такой высоты блага, счастия, славы, низвергнуться в бездну ужасов тиранства? Но свидетельства добра и зла равно убедительны, неопровержимы; остается только представить сей удивительный феномен в его постепенных изменениях.
История не решит вопроса о нравственной свободе человека; но предполагая оную в суждении своем о делах и характерах, изъясняет те и другие во-первых природными свойствами людей, во-вторых обстоятельствами или впечатлениями предметов, действующих на душу. Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом еще более острым, нежели твердым или основательным. Худое воспитание, испортив в нем естественные склонности, оставило ему способ к исправлению в одной Вере: ибо самые дерзкие развратители Царей не дерзали тогда касаться сего святого чувства. Друзья отечества и блага в обстоятельствах чрезвычайных умели ее спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце; исхитили юношу из сетей неги, и с помощью набожной, кроткой Анастасии увлекли на путь добродетели. Несчастные следствия Иоанновой болезни расстроили сей прекрасный союз, ослабили власть дружества, изготовили перемену. Государь возмужал: страсти зреют вместе с умом, и самолюбие действует еще сильнее в летах совершенных. Пусть доверенность Иоаннова к разуму бывших наставников не умалилась; но доверенность его к самому себе увеличилась: благодарный им за мудрые советы, Государь престал чувствовать необходимость в дальнейшем руководстве, и тем более чувствовал тягость принуждения, когда они, не изменяя старому обыкновению, говорили смело, решительно во всех случаях и не думали угождать его человеческой слабости. Такое прямодушие казалось ему непристойною грубостию, оскорбительною для Монарха. Например, Адашев и Сильвестр не одобряли войны Ливонской, утверждая, что надобно прежде всего искоренить неверных, злых врагов России и Христа; что Ливонцы хотя и не Греческого исповедания, однако ж Христиане и для нас не опасны; что Бог благословляет только войны справедливые, нужные для целости и свободы Государств. Двор был наполнен людьми преданными сим двум любимцам; но братья Анастасии не любили их, также и многие обыкновенные завистники, не терпящие никого выше себя. Последние не дремали, угадывали расположение Иоаннова сердца и внушали ему, что Сильвестр и Лдашев суть хитрые лицемеры: проповедуя Небесную добродетель, хотят мирских выгод; стоят высоко пред троном и не дают народу видеть Царя, желая присвоить себе успехи, славу его Царствования и в то же время препятствуют сим успехам, советуя Государю быть умеренным в счастии: ибо внутренне страшатся оных, думая, что избыток славы может дать ему справедливое чувство величия, опасное для их властолюбия. Они говорили: «кто сии люди, дерзающие предписывать законы Царю великому и мудрому, не только в делах государственных, но и в домашних, семейственных, в самом образе жизни; дерзающие указывать ему, как обходиться с супругою, сколько пить и есть в меру?» ибо Сильвестр, наставник Иоанновой совести, всегда требовал от него воздержания, умеренности в физических наслаждениях, к коим юный Монарх имел сильную склонность. Иоанн не унимал злословия, ибо уже скучал излишно строгими нравоучениями своих любимцев и хотел свободы; не мыслил оставить добродетели: желал единственно избавиться от учителей и доказать, что может без них обойтися. Бывали минуты, в которые природная его пылкость изливалась в словах нескромных, в угрозах. Пишут, что скоро по завоевании Казани он, в гневе на одного Воеводу, сказал Вельможам: «теперь уже не боюсь вас!» Но великодушие, оказанное им после болезни, совершенно успокоило сердца. Тринадцать цветущих лет жизни, проведенных в ревностном исполнении святых Царских обязанностей, свидетельствовали, казалось, неизменную верность в любви ко благу. Хотя Государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменялся заметно в правилах. Благочиние Царствовало в Кремлевском дворце, усердие и смелая откровенность в Думе. Только в делах двусмысленных, где истина или добро не были очевидны, Иоанн любил противоречить советникам. Так было до весны 1560 года.
В сие время холодность Государева к Адашеву и к Сильвестру столь явно обнаружилась, что они увидели необходимость удалиться от Двора. Первый, занимав дотоле важнейшее место в Думе, и всегда употребляемый в переговорах с Европейскими Державами, хотел еще служить Царю иным способом: принял сан Воеводы и поехал в Ливонию; а Сильвестр, от чистого сердца дав Государю благословение, заключился в одном пустынном монастыре. Друзья их осиротели, неприятели восторжествовали; славили мудрость Царя и говорили: «ныне ты уже истинный Самодержец, помазанник Божий, един управляешь землею; открыл свои очи и зришь свободно на все Царство!» Но сверженные любимцы казались им еще страшными. Вопреки известной Государевой немилости, Адашева честили в войске; самые граждане Ливонские изъявляли отменное к нему уважение: все покорялось его уму и добродетели. Не менее и Сильвестр, уже Монах смиренный, блистал добродетелями Христианскими в пустыне: Иноки с удивлением видели в нем пример благочестия, любви, кротости.
Царь мог узнать о том, раскаяться, возвратить изгнанников: надлежало довершить удар и сделать Государя столь несправедливым, столь виновным против сих мужей, чтобы он уже не мог и мыслить об искреннем мире с ними. Кончина Царицы подала к тому случай.
Иоанн был растерзан горестию: все вокруг его проливали слезы, или от истинной жалости, или в угодность Царю печальному – и в сих-то слезах явилась гнусная клевета под личиною усердия, любви, будто бы приведенной в ужас открытием неслыханного злодейства. «Государь! – сказали Иоанну: – ты в отчаянии, Россия также, а два изверга торжествуют: добродетельную Царицу извели Сильвестр и Адашев, ее враги тайные и чародеи: ибо они без чародейства не могли бы так долго владеть умом твоим». Представили доказательства, которые не убеждали и самых легковерных, но Государь знал, что Анастасия со времени его болезни не любила ни Сильвестра, ни Адашева; думал, что они также не любили ее, и принял клевету, может быть желая оправдать свою к ним немилость, если не верными уликами в их злодействе, то хотя подозрением. Сведав о сем доносе, изгнанники писали к Царю, требуя суда и очной ставки с обвинителями. Последнего не хотели враги их, представляя ему, что они как василиски ядовиты, могут одним взором снова очаровать его, и любимые народом, войском, всеми гражданами, произвести мятеж; что страх сомкнет уста доносителям. Государь велел судить обвиняемых заочно: Митрополит, Епископы, Бояре, многие иные духовные и светские чиновники собралися для того во дворце. В числе судей были и коварные Монахи, Вассиан Беский, Мисаил Сукин, главные злодеи Сильвестровы. Читали не одно, но многие обвинения, изъясняемые самим Иоанном в письме к Князю Андрею Курбскому. «Ради спасения души моей, – пишет Царь, – приближил я к себе Иерея Сильвестра, надеясь, что он по своему сану и разуму будет мне споспешником во благе; но сей лукавый лицемер, обольстив меня сладкоречием, думал единственно о мирской власти и сдружился с Адашевым, чтобы управлять Царством без Царя, ими презираемого. Они снова вселили дух своевольства в Бояр; раздали единомышленникам города и волости; сажали, кого хотели, в Думу; заняли все места своими угодниками. Я был невольником на троне. Могу ли описать претерпенное мною в сии дни уничижения и стыда? Как пленника влекут Царя с горстию воинов сквозь опасную землю неприятельскую (Казанскую) и не щадят ни здравия, ни жизни его; вымышляют детские страшила, чтобы привести в ужас мою душу; велят мне быть выше естества человеческого, запрещают ездить по Святым Обителям, не дозволяют карать Немцев… К сим беззакониям присоединяется измена: когда я страдал в тяжкой болезни, они, забыв верность и клятву, в упоении самовластия хотели, мимо сына моего, взять себе иного Царя, и не тронутые, не исправленные нашим великодушием, в жестокости сердец своих чем платили нам за оное? новыми оскорблениями: ненавидели, злословили Царицу Анастасию и во всем доброхотствовали Князю Владимиру Андреевичу. Итак, удивительно ли, что я решился наконец не быть младенцем в летах мужества и свергнуть иго, возложенное на Царство лукавым Попом и неблагодарным слугою Алексием?» и проч. Заметим, что Иоанн не обвиняет их в смерти Анастасии, и тем свидетельствует нелепую ложь сего доноса. Все иные упреки отчасти сомнительны, отчасти безрассудны в устах тридцатилетнего Самодержца, который признанием своей бывшей неволи открывает тайну своей жалкой слабости. Адашев и Сильвестр могли как люди ослепиться честолюбием; но Государь сим нескромным обвинением уступил им славу прекраснейшего в истории Царствования. Увидим, как он без них властвовал; и если не Иоанн, но любимцы его от 1547 до 1560 года управляли Россиею: то для счастия подданных и Царя надлежало бы сим добродетельным мужам не оставлять государственного кормила: лучше неволею творить добро, нежели волею зло. Но гораздо вероятнее, что Иоанн, желая винить их, клевещет на самого себя; гораздо вероятнее, что он искренно любил благо, узнав его прелесть, и наконец, увлеченный страстями, только обузданными, не искорененными, изменил правилам великодушия, сообщенным ему мудрыми наставниками: ибо легче перемениться, нежели так долго принуждать себя – и кому? Государю самовластному, который одним словом всегда мог расторгнуть сию мнимую цепь неволи. Адашев, как советник не одобряя войны Ливонской, служил Иоанну как подданный, как Министр и воин усердным орудием для успехов ее: следственно Государь повелевал и, вопреки его жалобам, не был рабом любимцев.
Выслушав бумагу о преступлениях Адашева и Сильвестра, некоторые из судей объявили, что сии злодеи уличены и достойны казни; другие, потупив глаза, безмолвствовали. Тут старец, Митрополит Макарий, близостию смерти и саном Первосвятительства утверждаемый в обязанности говорить истину, сказал Царю, что надобно призвать и выслушать судимых. Все добросовестные Вельможи согласились с сим мнением; но сонм губителей, по выражению Курбского, возопил против оного, доказывая, что люди, осуждаемые чувством Государя велемудрого, милостивого, не могут представить никакого законного оправдания; что их присутствие и козни опасны, что спокойствие Царя и отечества требует немедленного решения в сем важном деле. Итак, решили, что обвиняемые виновны. Надлежало только определить казнь, и Государь, еще желая иметь вид милосердия, умерил оную: послали Сильвестра на дикий остров Белого моря, в уединенную Обитель Соловецкую, и велели Адашеву жить в новопокоренном Феллине, коего взятию он способствовал тогда своим умом и распоряжениями; но твердость и спокойствие сего мужа досаждали злобным гонителям: его заключили в Дерпте, где он чрез два месяца умер горячкою, к радости своих неприятелей, которые сказали Царю, что обличенный изменник отравил себя ядом… Муж незабвенный в нашей Истории, краса века и человечества, по вероятному сказанию его друзей, ибо сей знаменитый временщик явился вместе с добродетелию Царя и погиб с нею… Феномен удивительный в тогдашних обстоятельствах России, изъясняемый единственно неизмеримою силою искреннего благолюбия, коего Божественное вдохновение озаряет ум естественный в самой тьме невежества, и вернее Науки, вернее ученой мудрости руководствует людей к великому. – Обязанный милости Иоанновой некоторым избытком, Адашев знал одну роскошь благодеяния: питал нищих, держал в своем доме десять прокаженных, и собственными руками обмывал их, усердно исполняя долг Христианина и всегда памятуя бедность человечества.
Отселе начало злу, и таким образом, уже не было двух главных действователей благословенного Иоаннова Царствования; но друзья их, мысли и правила оставались: надлежало, истребив Адашера, истребить и дух его, опасный для клеветников добродетели, противный самому Государю в сих новых обстоятельствах. Требовали клятвы от всех Бояр и знатных людей не держаться стороны удаленных, наказанных изменников и быть верными Государю. Присягнули, одни с радостию, другие с печалию, угадывая следствия, которые и открылись немедленно. Все, что прежде считалось достоинством и способом угождать Царю, сделалось предосудительно, напоминая Адашева и Сильвестра. Говорили Иоанну: «Всегда ли плакать тебе о супруге? Найдешь другую, равно прелестную; но можешь неумеренностию в скорби повредить своему здравию бесценному. Бог и народ требуют, чтобы ты в земной горести искал и земного утешения». Иоанн искренно любил супругу, но имел легкость во нраве, несогласную с глубокими впечатлениями горести. Он без гнева внимал утешителям – и чрез восемь дней по кончине Анастасии Митрополит, Святители, Бояре торжественно предложили ему искать невесты: законы пристойности были тогда не строги. Раздав по церквам и для бедных несколько тысяч рублей в память усопшей, послав богатую милостыню в Иерусалим, в Грецию, Государь 18 Августа (1560 г.) объявил, что намерен жениться на сестре Короля Польского.
С сего времени умолк плач во дворце. Начали забавлять Царя, сперва беседою приятною, шутками, а скоро и светлыми пирами; напоминали друг другу, что вино радует сердце; смеялись над старым обычаем умеренности; называли постничество лицемерием. Дворец уже казался тесным для сих шумных сборищ: юных Царевичей, брата Иоаннова Юрия и Казанского Царя Александра, перевели в особенные домы. Ежедневно вымышлялись новые потехи, игрища, на коих трезвость, самая важность, самая пристойность считались непристойностию. Еще многие Бояре, сановники не могли вдруг перемениться в обычаях; сидели за светлою трапезою, с лицом туманным, уклонялись от чаши, не пили и вздыхали: их осмеивали, унижали: лили им вино на голову. Между новыми любимцами Государевыми отличались Боярин Алексей Басманов, сын его, Кравчий Федор, Князь Афанасий Вяземский, Василий Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, готовые на все для удовлетворения своему честолюбию. Прежде они под личиною благонравия терялись в толпе обыкновенных Царедворцев, но тогда выступили вперед и, по симпатии зла, вкрались в душу Иоанна, приятные ему какою-то легкостию ума, искусственною веселостию, хвастливым усердием исполнять, предупреждать его волю как Божественную, без всякого соображения с иными правилами, которые обуздывают и благих Царей и благих слуг Царских, первых в их желаниях, вторых в исполнении оных. Старые друзья Иоанновы изъявляли любовь к Государю и к добродетели: новые только к Государю, и казались тем любезнее. Они сговорились с двумя или с тремя Монахами, заслужившими доверенность Иоаннову, людьми хитрыми, лукавыми, коим надлежало снисходительным учением ободрять робкую совесть Царя и своим присутствием как бы оправдывать бесчиние шумных пиров его. Курбский в особенности именует здесь Чудовского Архимандрита Левкия, главного угодника придворного. Порок ведет к пороку: женолюбивый Иоанн, разгорячаемый вином, забыл целомудрие, и в ожидании новой супруги для вечной, единственной любви, искал временных предметов в удовлетворение грубым вожделениям чувственным. Мнимая, прозрачная завеса тайны не скрывает слабостей Венценосца: люди с изумлением спрашивали друг у друга, каким гибельным наитием Государь, дотоле пример воздержания и чистоты душевной, мог унизиться до распутства?
Сие без сомнения великое зло произвело еще ужаснейшее. Развратники, указывая Царю на печальные лица важных Бояр, шептали: «Вот твои недоброхоты! Вопреки данной ими присяге, они живут Адашевским обычаем, сеют вредные слухи, волнуют умы, хотят прежнего своевольства». Такие ядовитые наветы растравляли Иоанново сердце, уже беспокойное в чувстве своих пороков; взор его мутился; из уст вырывались слова грозные. Обвиняя Бояр в злых намерениях, в вероломстве, в упорной привязанности к ненавистной памяти мнимых изменников, он решился быть строгим, и сделался мучителем, коему равного едва ли найдем в самых Тацитовых летописях!.. Не вдруг конечно рассвирепела душа, некогда благолюбивая: успехи добра и зла бывают постепенны; но Летописцы не могли проникнуть в ее внутренность; не могли видеть в ней борения совести с мятежными страстями: видели только дела ужасные, и называют тиранство Иоанново чуждою бурею, как бы из недр Ада посланною возмутить, истерзать Россию. Оно началося гонением всех ближних Адашева: их лишали собственности, ссылали в места дальние. Народ жалел о невинных, проклиная ласкателей, новых советников Царских; а Царь злобился и хотел мерами жестокими унять дерзость. Жена знатная, именем Мария, славилась в Москве Христианскими добродетелями и дружбою Адашева: сказали, что она ненавидит и мыслит чародейством извести Царя: ее казнили вместе с пятью сыновьями; а скоро и многих иных, обвиняемых в том же: знаменитого воинскими подвигами Окольничего, Данила Адашева, брата Алексеева, с двенадцатилетним сыном – трех Сатиных, коих сестра была за Алексием, и родственника его, Ивана Шишкина, с женою и детьми. Князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, сын Воеводы, умершего пленником в Литве, погиб за нескромное слово. Оскорбленный надменностию юного любимца Государева Федора Басманова, Князь Дмитрий сказал ему: «Мы служим Царю трудами полезными, а ты гнусными делами содомскими!» Басманов принес жалобу Иоанну, который в исступлении гнева, за обедом, вонзил несчастному Князю нож в сердце; другие пишут, что он велел задушить его. Боярин, Князь Михайло Репнин также был жертвою великодушной смелости. Видя во дворце непристойное игрище, где Царь, упоенный крепким медом, плясал с своими любимцами в масках, сей Вельможа заплакал от горести. Иоанн хотел надеть на него маску: Репнин вырвал ее, растоптал ногами и сказал: «Государю ли быть скоморохом? По крайней мере я, Боярин и Советник Думы, не могу безумствовать». Царь выгнал его и через несколько дней велел умертвить, стоящего в святом храме, на молитве; кровь сего добродетельного мужа обагрила помост церковный. Угождая несчастному расположению души Иоанновой, явились толпы доносителей. Подслушивали тихие разговоры в семействах, между друзьями; смотрели на лица, угадывали тайну мыслей, и гнусные клеветники не боялись выдумывать преступлений, ибо доносы нравились Государю и судия не требовал улик верных. Так, без вины, без суда, убили Князя Юрия Кашина, члена Думы, и брата его; Князя Дмитрия Курлятева, друга Адашевых, неволею постригли и скоро умертвили со всем семейством; первостепенного Вельможу, знатного слугу Государева, победителя Казанцев, Князя Михайла Воротынского, с женою, с сыном и с дочерью сослали на Белоозеро. Ужас Крымцев, Воевода, Боярин Иван Шереметев был ввержен в душную темницу, истерзан, окован тяжкими цепями. Царь пришел к нему и хладнокровно спросил: «где казна твоя? Ты слыл богачом». Государь! – отвечал полумертвый страдалец. – Я руками нищих переслал ее к моему Христу Спасителю. Выпущенный из темницы, он еще несколько лет присутствовал в Думе; наконец укрылся от мира в пустыне Белозерской, но не укрылся от гонения: Иоанн писал к тамошним Монахам, что они излишно честят сего бывшего Вельможу, как бы в досаду Царю. Брат его, Никита Шереметев, также Думный Советник и Воевода, израненный в битвах за отечество, был удавлен.
Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стенали жертвы; но… тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим! Нет исправления для мучителя, всегда более и более подозрительного, более и более свирепого; кровопийство не утоляет, но усиливает жажду крови: оно делается лютейшею из страстей, неизъяснимою для ума, ибо есть безумие, казнь народов и самого тирана. – Любопытно видеть, как сей Государь, до конца жизни усердный чтитель Христианского Закона, хотел соглашать его Божественное учение с своею неслыханною жестокостию: то оправдывал оную в виде правосудия, утверждая, что все ее мученики были изменники, чародеи, враги Христа и России; то смиренно винился пред Богом и людьми, называл себя гнусным убийцею невинных, приказывал молиться за них в святых храмах, но утешался надеждою, что искреннее раскаяние будет ему спасением, и что он, сложив с себя земное величие, в мирной обители Св. Кирилла Белозерского со временем будет примерным Иноком! Так писал Иоанн к Князю Андрею Курбскому и к начальникам любимых им монастырей, во свидетельство, что глас неумолимой совести тревожил мутный сон души его, готовя ее к незапному, страшному пробуждению в могиле!
Оставим до времени ужасы тиранства, чтобы следовать за течением государственных дел, в коих природный ум Иоаннов еще был виден как луч света посреди облаков темных.
Успехи наши в войне Ливонской заключились ударом сильным, решительным. Государь (в 1560 году) послал в Дерпт еще новую рать, 60000 конницы и пехоты, 40 осадных пушек и 50 полевых, с знатнейшими Воеводами, Князьями Иваном Мстиславским и Петром Шуйским, чтобы непременно взять Феллин, главную защиту Ливонии, где заключился бывший Магистр Фирстенберг. Полки Московские шли медленно берегом реки Эмбаха; тяжелый снаряд огнестрельный везли на судах; а Воевода Князь Барбашин с 12000 легких всадников спешил занять дорогу к морю: ибо носился слух, что Фирстенберг отправляет для безопасности богатую казну в Габзаль. Утомив коней, Барбашин отдыхал верстах в пяти от Эрмиса, и в жаркий полдень, когда воины его спали в тени. сделалась тревога: 500 Немецких всадников и столько же пехоты, под начальством храброго Ландмаршала Филиппа Беля с криком и воплем устремились из леса к нашему тихому стану, оберегаемому малочисленною стражею. Россияне хотя и знали о близости неприятеля, но думали, что он не вступит в битву с их превосходною силою. Внезапность дала ему только минутную выгоду: после первого замешательства Россияне остановили, стеснили Немцев, и всех до единого истребили, взяв в плен 11 Коммандоров и 120 Рыцарей, в числе коих находился и главный предводитель. Утрата столь многих чиновников, особенно Ландмаршала, называемого последним, ревностным защитником, последнею надеждою Ливонии, была величайшим бедствием для Ордена. Представленный Воеводам Московским, сей знаменитый муж не изменился в своей душевной твердости; не таил внутренней скорби, но взирал на них с гордым величием; ответствовал на все вопросы искренно, спокойно, смело. Курбский, хваля его характер, ум, красноречие, повествует следующее:
«Стараясь приветливостию смягчить жестокую долю сего необыкновенного человека, мы за обедом ласково беседовали с ним об истории Ливонского Ордена. Когда, – сказал он, – усердие к истинной Вере, добродетель, благочестие, обитали в сердцах наших: тогда Господь явно помогал нам; не боялись мы ни Россиян, ни Литовских Князей. Вы слыхали о той славной, достопамятной битве с грозным Витовтом, в коей легли шесть Магистров Орденских, один за другим избранных для предводительства: – таковы были древние Рыцари; таковы и новейшие, с коими имел войну дед нынешнего Царя Московского Иоанн Великий и которые столь мужественно сражались с вашим славным Воеводою Даниилом. Когда же мы отступили от Бога, испровергли уставы истинной Веры, прияли новую, изобретенную умом человеческим в угодность страстям, когда забыли чистоту нравов, вдались в гнусное сластолюбие, необузданно устремились на широкий путь разврата: тогда Бог предал Орден в руки ваши. Грады красные, твердыни высокие, палаты и дворы светлые, созданные нашими предками, – сады и винограды, ими насажденные, без труда вам достались. Но что говорю о Россиянах! По крайней мере вы брали мечом: другие (Поляки) меча не обнажали, а брали, лукаво обещая нам дружбу, защиту, вспоможение. Вот их дружба: стоим пред вами в узах, и милое отечество гибнет!.. Нет, не думайте, чтобы вы доблестию победили нас: Бог вами казнит грешников! Тут он залился слезами, отер их и с лицом светлым примолвил: но я благодарю Всевышнего и в оковах: сладостно терпеть за отечество, и не боюся смерти!– Воеводы Российские слушали его с любопытством, с сердечным умилением и, послав в Москву вместе со всеми пленниками, убедительно писали к государю, чтобы он изъявил милосердие к сему добродетельному витязю, который, будучи столь уважаем в Ливонии, мог оказать нам великие услуги и склонить Магистра к покорности. Но Иоанн уже любил тогда жестокость: призвав его к себе, начал говорить с ним гневно. Великодушный пленник ответствовал, что Ливония стоит за честь, за свободу и гнушается рабством; что мы ведем войну как лютые варвары и кровопийцы. Иоанн велел отсечь ему голову» – за противное слово (говорит Летописец) и за вероломное нарушение перемирия. Невольно удивляясь смелой твердости Беля, Иоанн послал остановить казнь; но она между тем совершилась.
Полководцы наши, осадив Феллин, разбили пушками стены и в одну ночь зажгли город в разных местах. Тогда воины Немецкие объявили Фирстенбергу, что надобно вступить в переговоры. Тщетно сей знаменитый старец убеждал их нс изменять чести и долгу, предлагая им все свои сокровища, золото и серебро в награду за мужество: наемники не хотели верной смерти, ибо ни откуда не могли ждать помощи. Фирстенберг требовал, чтобы Россияне выпустили его с казною: Совет Боярский не принял сего условия, ответствуя, что Государь для чести желает иметь Магистра пленником, а из великодушия обещает ему милость. Выпустили только воинов Немецких (21 Августа); но узнав, что они разломали сундуки Фирстенберговы и похитили многие драгоценности, свезенные Ливонским Дворянством в Феллин, Князь Мстиславский велел отнять у них все взятое ими беззаконно, даже и собственность, так что сии несчастные пришли нагие в Ригу, где Кетлер повесил их как изменников. Заняв город, Россияне удивились малодушию Немцев, которые могли бы долго противиться величайшим усилиям осаждающих, имея в нем три каменные крепости с глубокими рвами, 450 пушек и множество всяких запасов. «Такая робость неприятелей (говорили они) есть милость Божия к Царю православному». Когда пленники Феллинские прибыли в Москву, Иоанн велел показать их народу и водить из улицы в улицу. Пишут, что Царь Казанский, находясь в числе любопытных зрителей сего торжества, плюнул на одного Немецкого сановника, сказав ему: «За дело вам, безумцам! Вы научили Русских владеть оружием: погубили нас и самих себя!» – Государь принял Фирстенберга весьма благосклонно; исполнил все обещания Воевод и дал ему Костромское местечко Любим во владение, где он и кончил дни свои, жалуясь на Судьбу, но искренно хваля милосердие Иоанново. Падение Феллина предвестило совершенное падение Ордена. Города Тарваст, Руя, Верполь и многие укрепленные замки сдалися. Князь Андрей Курбский разбил нового Орденского Ландмаршала близ Вольмара, и сведав, что легкие отряды Литовские приближаются к Вендену, встретил их как неприятелей, обратил в бегство, выгнал из пределов Ливонии. Воевода Яковлев, опустошив приморскую часть Эстонии, захватил множество скота и богатства, ибо знатнейшие жители Гаррии укрывались там с своим имением. Он шел мимо Ревеля: смелые граждане, числом менее тысячи, сделали вылазку и были жертвою нашей превосходной силы; легли на месте или отдалися в плен. Вероятно, что Россияне могли бы овладеть тогда и Ревелем; но главный Воевода, Князь Мстиславский, на пути к нему хотел без Государева повеления взять крепкий, окруженный вязкими ржавцами Вейсенштейн: стоял под ним шесть недель, не отважился на приступ, издержал все запасы и должен был осенью возвратиться в Россию.
В сие время Ливония уже перестала мыслить о сохранении независимости: изнуренная бесполезными усилиями, она искала только лучшего властелина, чтобы спасти бедные остатки свои от плена и меча Россиян. Фридерик, Король датский, хотел Эстонии и купил для своего брата, Магнуса, Епископство Эзельское: сей юный Принц, осужденный быть удивительным игралищем Судьбы, весною 1560 года прибыл в Габзаль с лестными обещаниями для Рыцарства. Король Шведский не показывал властолюбивых замыслов на Орденские земли, но боясь успехов России, дал знать Магистру, что он готов снабдить Ревель воинскими запасами; что тамошние жители, в случае осады, могут прислать жен и детей в Финляндию; что Швеция, забывая неверность Ордена, искренно ему благоприятствует и никогда не согласится на его уничтожение. Так думал старец Густав Ваза, умерший в конце 1560 года. Новый Король Эрик действовал решительнее: представил чинам Эстонским с одной стороны неминуемую гибель, с другой защиту, спасение, и без великого труда убедил их объявить себя подданными Швеции, к досаде Магистра, который находился в тайных переговорах с Сигизмундом. Сие важное происшествие ускорило развязку драмы. Видя, что ветхое здание Ордена рушится, Кетлер, Архиепископ Рижский и депутаты Ливонии спешили в Вильну, где 28 Ноября 1561 года, в присутствии Короля и Вельмож Литовских, навеки уничтожилось бытие знаменитого Братства меченосцев, в силу торжественного, клятвою утвержденного договора, по коему Сигизмунд-Август был признан Государем Ливонии – с условием не изменять ни Веры ее, ни законов, ни прав гражданских – а Кетлер наследственным Герцогом Курляндии, вассалом, или подручником Королевским. В сей достопамятной грамоте сказано, что «Ливония, терзаемая лютейшим из врагов, не может спастися без тесного соединения с Королевством Польским; что Сигизмунд обязан вступиться за Христиан, утесняемых варварами; что он изгонит Россиян и внесет войну в собственную их землю: ибо лучше питаться кровию неприятеля, нежели питать его своею». Возвратясь в Ригу, Кетлер всенародно сложил с себя достоинство Магистра, крест и мантию: Рыцари также, проливая слезы. Присягнув в верности к Королю, он вручил его наместнику, Князю Николаю Радзивилу, печать Ордена, грамоты Императоров и ключи городские; а Радзивил, именем Короля, дал ему сан Ливонского правителя. – Таким образом, земли Орденские разделились на пять частей: Нарва, Дерпт, Аллентакен, некоторые уезды Ервенские, Вирландские и все места соседственные с Россиею были завоеваны Иоанном; Швеция взяла Гаррию, Ревель и половину Вирландии; Магнус владел Эзелем; Готгард Кетлер Курляндиею и Семигалиею; Сигизмунд южною Ливониею. Каждый из сих Владетелей старался приобрести любовь новых подданных: ибо сам Иоанн, ужасный в виде неприятеля, изъявлял милость народу и Дворянству в областях завоеванных. Но конец Ордена еще не мог быть концом бедствий для стесненной Ливонии, где четыре Северные Державы находились в опасном совместничестве друг с другом и где каждая из них желала распространить свое господство.
В то время, когда Шведское войско уже вступало в Ревель, Эрик предлагал нам мир и дружбу, но с условием относиться во всем к самому Царю, не к наместникам новогородским, и выключить из прежнего договора важную статью, коею Густав Ваза обязывался не помогать ни Литве, ни Ордену. Чиновники Шведские в переговорах с Московскими Боярами сказали им в угрозу: «Император, Король Сигизмунд и Фридерик Датский убеждают Государя нашего вместе с ними воевать Россию. Послы их в Стокгольме: Эрик не дал им решительного ответа, ибо ждет вашего». Бояре объявили, что Россия семь веков следует одной системе политической и не изменяет старых своих обычаев. «В Швеции, – говорили они, – было много Владетелей до Эрика: который же не сносился с Новымгородом? Густав Ваза, не хотев того, видел ужасное опустошение земли своей и смирился. Густав славился мудростию, а Эрик еще неизвестен. Легко начать злое дело, но трудно исправить его. Иоанн захотел – и взял два Царства: что сделал наш Король новый? Или снова утвердите грамоту отца его, или вы еще не доедете до Стокгольма, а война уже запылает – и не скоро угаснет ее пламя. Вы пугаете нас Литвою, Цесарем, Даниею: будьте друзьями всех Царей и Королей: не устрашимся». Сия твердость принудила Шведов возобновить старый договор. Хотя Иоанн не мог без досады сведать о происшедшем в Эстонии; хотя чиновники Новогородские, посланные в Стокгольм с мирною грамотою, жаловались Царю, что Эрик принял их весьма грубо (и даже предлагал им есть мясо в постные дни); хотя они дали знать Королю, что мы не будем равнодушными зрителями его властолюбия: однако ж мир состоялся, ибо Царь не хотел умножать числа врагов своих до времени, чтобы управиться с главным, то есть, с Литвою.
Мы говорили о сватовстве Иоанновом: он не сомневался в успехе его и весьма ошибся, к прискорбию своего самолюбия. Послы наши, отправленные в Вильну, торжественно говорили Сигизмунду о мире, а тайно о желании Царя быть ему зятем. Им надлежало выбрать или большую сестру Королевскую, Анну, или меньшую, Екатерину, смотря по их красоте, здоровью и дородству. Они избрали Екатерину. Сигизмунд ответствовал, что для сего нужно согласие Императора, Князя Брауншвейгского и Короля Венгерского, ее покровителей и родственников; что приданое невесты, хранимое в Польской казне, состоит из цепей, запон, платья и золота, всего на 100000 червонных; что хотя и не следовало бы выдать меньшую сестру прежде большой, но он не противится сему браку с условием, чтобы Екатерина осталась в Римском Законе. Послы желали представиться невесте: им дозволили видеть ее в церкви и вручили портреты обеих сестер. – Но Сигизмунд, уверенный в необходимости войны за Ливонию, считал бесполезным свойство с Иоанном. Прислав в Москву Маршалка Шимковича будто бы для договора о мире и сватовстве, он требовал Новагорода, Пскова, земли Северской, Смоленска! Посол уехал, и неприятельские действия началися тем, что Литовский Гетман Радзивил, вступив с войском в Ливонию, взял город Тарваст: осада продолжалась пять недель, а Воеводы Московские не успели дать ему помощи; собирались, готовились и не хотели слушаться друг друга, считаясь в старейшинстве между собою. Тогдашняя строгость Иоаннова не унимала зловредного местничества, и Государь, казня Вельмож за одно слово нескромное, за укорительный взгляд, за великодушную смелость, изъявлял снисхождение к сему старому обычаю. Подвиги нашего многочисленного войска состояли единственно в новом опустошении некоторых Ливонских селений. Князь Василий Глинский и Петр Серебряный ходили вслед за Радзивилом и побили его отряд близ Пернау. Литовцы, заняв важнейшие крепости, не остались в Тарвасте: Иоанн велел разорить сей город до основания.
Тогда Сигизмунд написал к Царю, что долго и бесполезно убеждав его оставить Ливонию в покое, он должен прибегнуть к оружию; что Радзивил, взяв Тарваст, выпустил оттуда Россиян; что виновник кровопролития даст ответ Богу; что мы еще можем отвратить войну, если выведем войско из бывших Орденских владений и заплатим все убытки, или Европа увидит, на чьей стороне правда и месть великодушная, на чьей лютость и стыд. Вручителю письма, Дворянину Корсаку, единоверцу нашему, Бояре объявили, что ему не будет оказано Посольской чести, ибо грамота Королевская исполнена выражений непристойных; а Царь отвечал Сигизмунду: «Ты умеешь слагать вину свою на других. Мы всегда уважали твои справедливые требования; но забыв условия предков и собственную присягу, ты вступаешься в древнее достояние России: ибо Ливония наша, была и будет. Упрекаешь меня гордостию, властолюбием; совесть моя покойна, я воевал единственно для того, чтобы даровать свободу Христианам, казнить неверных или вероломных. Не ты ли склоняешь Короля Шведского к нарушению заключенного им с Новымгородом мира? Не ты ли, говоря со мною о дружбе и сватовстве, зовешь Крымцев воевать мою землю? Грамота твоя к Хану у меня в руках: прилагаю список ее, да устыдишься… Итак, уже знаем тебя совершенно, и более знать нечего. Возлагаем надежду на Судию Небесного: он воздаст тебе по твоей злой хитрости и неправде». Тогда Иоанн, уже решительно оставив мысль быть Сигизмундовым зятем, искал себе другой невесты в землях Азиатских, по примеру наших древних Князей. Ему сказали, что один из знатнейших Черкесских Владетелей, Темгрюк, имеет прелестную дочь: Царь хотел видеть ее в Москве, полюбил и велел учить Закону. Митрополит был ее восприемником от купели, дав ей Христианское имя Мария. Брак совершился 21 Августа 1561 года; но Иоанн не переставал жалеть о Екатерине, по крайней мере досадовать, готовясь мстить Королю и за Ливонию и за отказ в сватовстве, оскорбительный для гордости жениха.
Однако ж, несмотря на взаимные угрозы, воинские действия с обеих сторон были слабы: Иоанн опасался Хана и держал полки в южной России, где предводительствовал ими Князь Владимир Андреевич; а Сигизмунд, расставив войско по крепостям в Ливонии, имел в поле только малые отряды, которые приступали к Опочке, к Невлю. Князь Петр Серебряный разбил Литовцев близ Мстиславля: Курбский выжег предместие Витебска; другие Воеводы из Смоленска ходили к Дубровне, Орше, Копысу, Шклову. Более грабили, нежели сражались. Пан Ходкевич, предводитель Сигизмундова войска в Ливонии, убеждал наших Воевод не тратить людей в бесполезных сшибках. Начались было и мирные переговоры: Вельможи Литовские писали к Митрополиту и Боярам Московским, чтобы они своим ходатайством уняли кровопролитие. Старец Макарий велел сказать им: «знаю только дела церковные; не стужайте мне государственными»; а Бояре объявили, что Иоанн согласен на мир, если Сигизмунд не будет спорить с нами ни о Ливонии, ни о титуле Царском. «Вспомните, – прибавили они, – что и самая Литва есть отчина Государей Московских! Для спокойствия обеих Держав Иоанн хотел жениться на вашей Королевне: Сигизмунд отвергнул его предложение – и для чего? Без сомнения в угодность Хану! Еще можно исправить зло; пользуйтесь временем!» Но 1563 год наступал; а Послы Королевские, ожидаемые в Москве, не являлись: уже не боясь Хана, который, вступив в южную Россию, бежал назад от города Мценска, Иоанн замыслил нанести важный удар Литве.
В начале зимы собралися полки в Можайске: сам Государь отправился туда Декабря 23; а с ним Князь Владимир Андреевич, Цари Казанские, Александр и Симеон, Царевичи Ибак, Тохтамыш, Бекбулат, Кайбула, и сверх знатнейших Воевод двенадцать Бояр Думских, 5 Окольничих, 16 Дьяков. Воинов было, как уверяют, 280000, обозных людей 80900, а пушек 200. Сие огромное, необыкновенное ополчение столь внезапно вступило в Литву, что Король, находясь в Польше, не хотел верить первой о том вести. Иоанн 31 Генваря (1563 г.) осадил Полоцк, и 7 Февраля взял укрепления внешние. Тут узнали, что 40000 Литовцев с двадцатью пушками идут от Минска: Гетман Радзивил предводительствовал ими; он дал слово Королю спасти осажденный город, но встреченный Московскими Воеводами, Князьями Юрием Репниным и Симеоном Палицким, не отважился на битву; хотел единственно тревожить Россиян и не успел ничего сделать: ибо город 15 Февраля был уже в руках Иоанновых. Тамошний начальник, именем Довойна, услужил Царю своею безрассудностию: впустил в крепость 20000 поселян и, через несколько дней выгнав их, дал случай Иоанну явить опасное в таких случаях великодушие. Сии несчастные шли на верную смерть и были приняты в Московском стане как братья: из благодарности они указали нам множество хлеба, зарытого ими в глубоких ямах, и тайно известили граждан, что Царь есть отец всех единоверных: побеждая, милует. Между тем ядра сыпались в город; стены падали, и малодушный Воевода, в угодность жителям, спешил заключить выгодный договор с неприятелем снисходительным, который обещал свободу личную, целость имения – и не сдержал слова. Полоцк славился торговлею, промышленностию, избытком: Иоанн, взяв государственную казну, взял и собственность знатных, богатых людей, Дворян, купцев: золото, серебро, драгоценные вещи; отправил в Москву Епископа, Воеводу Полоцкого, многих чиновников Королевских, шляхту и граждан; велел разорить Латинские церкви и крестить всех Жидов, а непослушных топить в Двине. Одни Королевские иноземные воины могли хвалиться великодушием победителя: им дали нарядные шубы и письменный, милостивый пропуск, в коем Иоанн с удовольствием назвал себя Великим Князем Полоцким, приказывая своим Боярам, сановникам Российским, Черкесским, Татарским, Немецким, оказывать им в пути защиту и вспоможение. Несколько дней он праздновал сие легкое, блестящее завоевание древнего Княжества России, наследия достопамятной Гориславы, знаменитого в истории наших междоусобий, и ранним подданством Литве спасенного от ига Моголов; послал всюду гонцов, чтобы Россияне изъявили благодарность Небу за свою новую славу, и писал к Первосвятителю Макарию: «се ныне исполнилось пророчество дивнаго Петра Митрополита, сказавшаго, что Москва вознесет руки свои на плеща врагов ея!»
Сигизмунд и Паны его были в страхе: многолюдный, укрепленный Полоцк считался главною твердынею Литвы, и Воеводы Московские, не теряя времени, шли на Вильну, к Мстиславлю, в Самогитию, опустошая землю невозбранно: ибо Гетман бежал назад в Минск. В сих обстоятельствах Вельможи Королевские писали к нашим Боярам, что послы их готовы ехать в Москву, если мы остановим неприятельские действия: а Царь, приказав ответствовать, что посла ни секут, ни рубят, дал Литве перемирие на шесть месяцев. Велев исправить укрепления, отслужив молебен в Софийском полоцком храме и вверив защиту города мужественному Князю Петру Шуйскому, Государь 26 февраля выступил оттуда со всем войском, распустил его в Великих Луках, спешил в столицу и встретил на пути Бояр, высланных к нему из Москвы с поздравлениями от сыновей и супруги. Мать Князя Владимира Андреевича, Евфросиния, великолепно угостила его в Уделе своего сына, в Старице. Царевич Иоанн ждал родителя в обители Св. Иосифа, Феодор в селе Крылацком. Тут был новый пир; а на другой день, 21 Марта, когда Государь ехал Крылацким полем, явился Боярин Траханиотов с вестию, что Царица родила ему сына Василия. У церкви Бориса и Глеба, на Арбате, стояло Духовенство с хоругвями и крестами: Иоанн благодарил Митрополита и Святителей за их усердные молитвы; Святители благодарили Царя за мужество и победу. Он шел в торжестве, от Арбата до соборов, среди Вельмож и народа, среди приветствий и восклицаний, точно так, как по взятии Казани… Не доставало народу единственно любви к Государю, а Государю счастия: ибо его нет для тиранов! – новорожденный Царевич жил только пять недель.
Не сомневаясь в продолжении войны с Литвою и надеясь на благоприятное действие своей знаменитой победы, Иоанн известил о том Хана; писал к нему с гордостию и с ласкою, напоминал искреннюю дружбу Менгли-Гирееву с великим Князем Иоанном, счастливую для обеих держав, и все худые успехи Крымских впадений, хотя вредных для России, но еще более для самой Тавриды, уже бедной людьми, оружием и конями; указывал на Христианские церкви в Казани, в Астрахани; хвалился усердием верных Князей Черкесских и Ногаев, сожалел о бессильной злобе Сигизмунда, наказанного стыдом, разорением земли его, и говорил: «Все Паны Королевские били челом Боярам нашим, да прекратим их бедствия. Бояре молили Князя Владимира Андреевича и вместе с ним пали к ногам моим, вещая: Государь, у вас одна Вера: на что более проливать кровь? Руки твои наполнились плена и богатства; ты взял лучший городу Сигизмунда. Недруг в слезах, и желает быть в твоей воле. Я не хотел оскорбить любезного мне брата и Вельмож добрых; мы возвратились!.. Угодно ли тебе быть моим другом?» Уже несколько лет Послы вероломного Девлет-Гирея сидели у нас в тесной неволе: их освободили в знак Государева к нему благорасположения; но Иоанн в письме своем не хотел его назвать братом, и вместо старинного челобитья приказал единственно поклон Хану. Несмотря на то, Посол Московский, Афанасий Нагой, должен был за тайну объявить Крымским Вельможам, что Царь удалил от себя Адашевых, Воеводу Шереметева и Дьяка Ивана Михайлова будто бы за их ненависть к Девлет-Гирею! Ум, ловкость нашего посла и богатые дары произвели действие: Хан склонился к миру, года два не тревожил России, и в знак своего доброжелательства открыл нам важную тайну. Мы видели, что могущественный Солиман неравнодушно смотрел на успехи Иоаннова величия и на гибель Царств Мусульманских: занимаясь другими, ближайшими опасностями и предприятиями важнейшими для его славолюбия, он медлил; наконец по внушению знатного беглеца Астраханского Князя Ярлыгаша, замыслил великое дело: соединить Дон с Волгою прокопом, основать крепость на Переволоке (там, где сии реки сближаются), другую на Волге, где ныне Царицын. Третью близ моря Каспийского, чтобы сперва утвердить безопасность своих Азовских владений, а после взять Астрахань, Казань, – стеснить, ослабить Россию. Главным орудием или действователем надлежало быть Хану: Султан велел ему идти к Астрахани, обещая прислать Доном пушки и людей, искусных в строении крепостей. Но, к счастию России, Девлет-Гирей страшился господства Турков еще более, нежели ее силы: не хотел уступить им Царств Батыевых, и стараясь доказать Султану невозможность успеха, известил Иоанна о сем опасном для нас предприятии, которое осталось тогда без исполнения. – Несмотря на дружелюбные сношения с Крымом, Государь ласкал постоянного врага Девлет-Гиреева, главу Ногайских владетелей, Исмаила, который оберегал Астрахань, уведомлял нас о вероломных замыслах ее Князей, тайных друзей Крыма, и, к сожалению Россиян, умер в 1563 году, оставив сына, Тин-Ахмата, начальником Орды Ногайской. Подобно отцу, сей Князь усердно искал Иоанновой милости.
Уже Польша, Дания и Швеция воевали за Ливонию; первые две хотели общими силами обуздать властолюбие Эрика: ибо Шведы отняли у Сигизмунда Пернау и Вейсенштеин, у датчан Леаль и Габзаль. Король Датский, Фридерик, желал союза Иоаннова: Царь утвердил с ним мир, как бы из великодушия уступив ему Эзель и Вик; но гордо отвергнул его посредничество в наших делах с Литвою, сказав: «мы сами умеем стоять за себя, и кроме Божией помощи не хотим никакой». Он велел отвести дворы купцам Датским в Новегороде и Нарве, с условием, чтобы и нашим отведены были такие же в Копенгагене и Визби, где Россияне издревле торговали. Гофмейстер Фридериков, Эллер Гарденберг, с другими чиновниками был в Москве для договора: Князь Ромодановский ездил в Данию для размена грамот. – В то же время и Шведы старались всячески улестить опасного Царя: Эрик извинялся в неучтивостях, оказанных нашим послам, и прислал шесть знатных сановников в Москву, чтобы заключить договор о Ливонии с самим Царем, а не с его Воеводами. Ответом была грубая насмешка. Иоанн велел сказать Эрику: «Когда я с двором своим переселюсь в Швецию, тогда повелевай и величайся – а не ныне! Я от тебя так далеко, как небо от земли». Шведы уступили. Государь велел Боярину Морозову, Наместнику Ливонскому, дать Королю особенное перемирие на семь лет по делам Ливонии; дозволил Эрику владеть Ревелем и всеми занятыми им городами в Эстонии, но оставил себе право, по истечении означенного срока, изгнать оттуда Шведов как хищников; то есть, Иоанн не мешал враждующим за Ливонию державам изнурять друг друга, готовый воспользоваться их ослаблением и присоединить ее к России. Увидим следствия, каких не ожидала его хитрая политика… Теперь будем говорить о внутренних происшествиях сего времени.
Второй брак Иоаннов не имел счастливых действий первого. Мария, одною красотою пленив супруга, не заменила Анастасии ни для его сердца, ни для Государства, которое уже не могло с мыслию о Царице соединять мысль о Царской добродетели. Современники пишут, что сия Княжна Черкесская, дикая нравом, жестокая душою, еще более утверждала Иоанна в злых склонностях, не умев сохранить и любви его, скоро простывшей: ибо он уже вкусил опасную прелесть непостоянства и не знал стыда. Равнодушный к Марии, Иоанн помнил Анастасию, и еще лет семь, в память ее, наделял богатою милостынею святые монастыри Афонские. Таким же образом Государь честил и память своего брата, Юрия, умершего в исходе 1563 года. Сей Князь, скудный умом, пользовался наружными знаками уважения, и неспособный ни к ратным, ни к государственным делам, только именем начальствовал в Москве, когда Царь выезжал из столицы. Но супруга его, Иулиания, считалась второю Анастасиею по своим необыкновенным достоинствам: она решилась оставить свет. Иоанн, Царица Мария, Князь Владимир Андреевич, Бояре и народ в глубоком молчании шли за нею от Кремля до Новодевичьего монастыря, где, названная во Инокинях Александрою, она хотела кончить дни свои в мире, не предвидя, что сей тронутый ее ревностным, Ангельским благочестием Царь, исполненный к ней – так казалось – любви и братской нежности, в порыве безумного гнева будет ее свирепым убийцею! Он желал, чтобы невестка его и в виде смиренной Монахини имела почести Царские: устроил ей в келиях пышный двор, дал сановников в услугу и богатые поместья во владение, как бы желая тем еще привязать ее к. суетам мира!
Еще прежде Иулиании, волею или неволею, постриглась мать Князя Владимира Андреевича честолюбивая Евфросиния, вместе с сыном заслужив гнев Царя по доносу Дьяка их, который за свои худые дела сидел в темнице. Государь призвал обвиняемых, Митрополита, Епископов: уличил – как сказано в летописи – мать и сына в неправде, но, уважив моление духовенства, из милосердия отпустил им вину. Тогда Евфосиния, оставив свет, заключилась в Воскресенском монастыре на Белеозере, куда проводили ее знатные дворские чиновники; а Князю Владимиру Иоанн дал новых Бояр, стольников и дьяков, взяв его собственных к себе в Царскую службу: то есть, окружил сего Князя надзирателями; между тем обходился с ним ласково, ездил к нему гостем в Старицу, в Верею, в села Вышегородские, чтобы пировать и веселиться. Еще внутренняя злоба таилась под личиною дружелюбия.
В последний день 1563 года скончался в глубокой старости знаменитый Митрополит Макарий, обвиняемый современниками в честолюбиии, в робости духа, но хвалимый за благонравие: не смелый обличитель царских пороков, но и не грубый льстец их. За несколько дней до смерти открывая душу пред людьми и Богом в грамоте прощальной, Макарий пишет, что, изнуряемый многими печалями, он несколько раз хотел удалиться от дел и посвятить себя житию молчальному или пустынному, но Царь и святители всегда неотступно убеждали его остаться. Сей Пастырь Церкви не был, кажется, спокойным зрителем Иоаннова разврата, предпочитая тишину пустыни блестящему сану Иерарха. Ревностный к успехам Христианского просвещения, он велел перевести Греческую Минею и прибавил к ней жития святых Российских, как древних, так и новейших, для коих собором 26 Февраля 1547 года уставил он службу и празднества: Новогородскому Архиепископу Иоанну, Александру Невскому, Савватию, Зосиме Соловецким и другим. Макарий велел также сочинить известную Степенную книгу, доведенную от Рюрика до 1559 года, и способствовал учреждению первой в Москве типографии. Европа уже около ста лет пользовалась счастливым открытием Гуттенберга, Фауста, Шеффера: Государи Московские слышали о том и хотели присвоить себе выгоду столь важную для успехов просвещения, им любезного. Великий Князь Иоанн III давал жалованье славному Любекскому типографщику Варфоломею; Царь Иоанн в 1547 году искал в Германии художников для книжного дела и, как вероятно, нашел их для образования наших собственных в Москве: ибо в 1553 году он приказал устроить особенный дом книгопечатания под руководством двух мастеров, Ивана Федорова, Диакона церкви Св. Николая Гостунского, и Петра Тимофеева Мстиславца, которые в 1564 году издали Деяния и Послания апостолов, древнейшую из печатных книг Российских, достойную замечания красотою букв и бумаги. В прибавлении сказано, что Макарий благословил Царя на благое дело доставить Христианам вместо неверных рукописей печатные, исправные книги, содержащие в себе и Закон Божий и службу церковную: для чего надлежало сличать древнейшие, лучшие списки, дабы не обмануться ни в словах, ни в смысле. Сие важное предприятие, внушенное Христианскою просвещенною ревностию, возбудило негодование многих грамотеев, которые жили списыванием книг церковных. К сим людям присоединились и суеверы, изумленные новостию. Начались толки, и художник Иван Федоров, смертию Макария лишенный усердного покровителя, как мнимый еретик должен был – вместе с своим товарищем Петром Мстиславцем – удалиться от гонителей в Литву. Хотя Московская типография, переведенная в Александровскую Слободу, еще напечатала Евангелие; но Царь уступил славу издать всю Библию Волынскому Князю Константину Константиновичу, одному из потомков Св. Владимира. Сей Князь, ревностный сын нашей Церкви, с любовию приняв изгнанника Ивана Федорова, завел типографию в своем городе Остроге; достал в Москве же (чрез Государственного Секретаря Литовского Гарабурду) полный список Ветхого и Нового Завета, сверил его с Греческою Библиею, присланною к нему от Иеремии, Патриарха Константинопольского, исправил (посредством некоторых Филологов) и напечатал в 1581 году, заслужив тем благодарность всех единоверцев. – Между достопамятными церковными деяниями Макариева времени заметим еще учреждение Полоцкой Архиепископии, в честь сего древнего Княжества и тамошнего знаменитого храма Софийского. Бывший Святитель Суздальский Трифон Ступишин, постриженник Св. Иосифа Волоцкого, муж добродетельный, но ветхий и недужный, в угодность Царю принял сан Полоцкого Архипастыря.
По кончине Макария все Епископы съехались в Москву, чтобы избрать нового Пастыря Церкви; но еще прежде того, исполняя волю Государеву, они Соборною грамотою уставили, что Митрополиты Российские должны впредь носить клобуки белые, с рясами и с херувимом, как изображаются на иконах Митрополиты Петр и Алексий, Новогородский Архиепископ Иоанн и Чудотворцы Ростовские Леонтий, Игнатий, Исаия. «Для чего, – сказано в сей грамоте, – для чего одни Святители Новогородские носят ныне белые клобуки, мы искали и не могли найти в писаниях. Да возвратится Митрополитам их древнее отличие! Да печатают также, подобно Архиепископам Новогородскому и Казанскому, все грамоты свои красным воском. Печать на одной стороне должна представлять образ Богоматери со Младенцем, а на другой руку Благословенную с именем Митрополита». Чрез несколько дней (24 Февраля 1564 г.) был избран в первосвятители Инок Чудова монастыря Афанасий, бывший Благовещенский Протоиерей и Духовник Государев. По совершении Литургии Владыки, сняв с Митрополита одежду служебную, возложили на него златую икону вратную, мантию с источником и белый клобук. Афанасий стал на Святительское место, выслушал приветственную речь Царя, дал ему благословение, и громогласно молил Всевышнего, да ниспошлет здравие и победы Иоанну. Он уже не смел, кажется, говорить о добродетели!
Глава II
Продолжение царствования Иоанна Грозного. г. 1563-1569
Переговоры и война с Литвою. Бегство Россиян в Литву. Измена Кн. Андрея Курбского. Переписка его с Царем. Нападение Литвы и Крымцев. Посольство В. Магисра Немецкого. Таинственный отъезд Иоаннов. Письмо Царя к Митрополиту и к народу. Ужас в Москве. Учреждение Опричнины. Вторая эпоха казней. Александровская Слобода. Монашеская жизнь Иоаннова. Иноземные любимцы Иоанновы. Великодушие Митрополита Филиппа. Третия эпоха убийств. Язва. Воинские действия и переговоры. Земская дума. Перемирие с Литвою. Дела Шведские. Важное предприятие Султана. Бедствия Турков. Сношения с Персиею. Дань Сибирская. Торговля. Посольства Английские. Замысел Иоаннов бежать в Англию. Злодей Бомелий.
Перемирие, данное Иоанном Сигизмунду, не мешало Россиянам и Литовцам нападать друг на друга. Первые малочисленными отрядами довершали завоевание Полоцкой области. Слуга Сигизмундов, Князь Михайло Вишневецкий, с толпами Козаков и Белогородских Татар опустошал уезды Черниговские, Стародубские: Князь Иван Щербатый, Северский Воевода, разбил его наголову. Послов Сигизмундовых долго ждали в Москве: наконец они приехали, 5 Декабря 1563 года, и следуя обыкновению, требовали от нас Новагорода, Пскова кроме всех завоеваний деда, отца Иоаннова и его собственных; а Бояре наши, также следуя обыкновению, ответствовали, что мы для надежного мира должны взять у Литвы не только Киев, Волынию, Подолию, но и Вильну, которая в древние времена принадлежала России. Они говорили о неправдах, лукавстве, спеси Короля, не хотящего именовать Иоанна Царем и замышляющего быть Государем Ливонии, где еще в XI веке основан Ярославом Великим город Юрьев и где Александр Невский огнем и мечем казнил своих подданных, Немцев, за их бунт и непослушание. «Так было, – заключили Бояре словом Государя, – так было до времен великого мстителя неправдам, моего деда; до славного родителя моего, обретателя древней нашей отчины, и до меня смиренного». Хотя с обеих сторон умерили требования; хотя мы соглашались уже не говорить о Вильне, Подолии, Больший, и дружелюбно уступали Сигизмунду Курляндию, желая единственно всей Полоцкой земли, чтобы заключить перемирие на 10 или 15 лет: однако ж послы не приняли сего условия. Иоанн изустно сказал им: «Если Король не хочет давать мне Царского имени, да будет его воля! Не имею нужды в титуле: ибо всем известно, что род мой происходит от Кесаря Августа; а данного Богом человек не отнимет». Такая генеалогия должна была удивить Послов: им без сомнения объяснили ее. Надобно знать, что Московские книжники сего времени может быть в угодность Иоаннову честолюбию призводили первого Князя Новогородского Рюрика от мнимого Прусса, Августова брата, который будто бы, оставив Рим, сделался Владетелем Пруссии. Послы не спорили о предках Рюриковых, но не хотели утвердить за ними ни Полоцкой области, ни Ливонии и выехали из Москвы 9 Генваря (1564 г.). Тогда Воеводы Московские немедленно выступили, Шуйский из Полоцка, Князья Серебряные-Оболенские из Вязьмы, чтобы действовать против Литвы: Государь велел им соединиться под Оршею, идти к Минску, к Новугородку Литовскому; назначил станы, предписал все движения. Но Князь Петр Шуйский, завоеватель Дерпта, славный и доблестию и человеколюбием, как бы ослепленный роком, изъявил удивительную неосторожность: шел без всякого устройства, с толпами невооруженными; доспехи везли на санях; впереди не было стражи; никто не думал о неприятеле – а Воевода Троцкий, Николай Радзивил, с двором Королевским, с лучшими полками Литовскими, стоял близ Витебска; имел верных лазутчиков; знал все, и вдруг близ Орши, в местах лесных, тесных, напал на Россиян. Не успев ни стать в ряды, ни вооружиться, они малодушно устремились в бегство, Воеводы и воины. Несчастный Шуйский заплатил жизнию за свою неосторожность. Одни пишут, что он был застрелен в голову и найден мертвый в колодезе; другие, что Литовский крестьянин изрубил его секирою. Из знатных людей пали еще два брата, Князья Симеон и Федор Палецкие. Литовцы взяли в плен Воеводу Захария Плещеева-Очина, Князя Ивана Охлябинина и несколько Детей Боярских, так что мы из двадцати тысяч воинов лишились менее двухсот человек: все другие ушли в Полоцк, оставив неприятелю в добычу обозы и пушки. Тело Шуйского с торжеством отвезли в Вильну, а пленников Российских представили больному Королю в Варшаве: он велел петь молебны и действием радости исцелился от недуга.
Впрочем сия победа не имела дальнейших счастливых следствий для Сигизмунда. Князья Оболенские стояли под Оршею: Радзивил не хотел сразиться с ними; желал единственно, чтобы они вышли из Королевских владений, и для того гонец Литовский с вестию о бедствии Шуйского нарочно был послан в Дубровну чрез такие места, где ему надлежало встретить Россиян: его схватили и привели к Воеводам нашим, которые, узнав, что случилось, действительно возвратились к Смоленску, но отмстив неприятелю огнем и мечом: выжгли селения от Дубровны до Кричева; взяли в плен множество земледельцев. Месяцев пять миновало в бездействии с обеих сторон: в Июле Полководец Иоаннов, Князь Юрий Токмаков, с малочисленною пехотою и конницею ходил из Невля к Озерищу в надежде завладеть сим городом. Сведав, что 12000 Литовцев идут из Витебска спасти осажденных, сей Воевода, известный мужеством, отпустил снаряд и пехоту на судах в Невль, с одною конницею встретил неприятеля и разбил его передовую дружину; но когда подошло главное войско Литовское, он должен был отступить, бесчеловечно умертвив взятых им пленников. Смоленский Воевода Бутурлин, предводительствуя Детьми Боярскими, Татарами, Мордвою, снова опустошил правый берег Днепра и вывел 4800 пленников обоего пола. Между тем Литовцы тревожили впадением область Дерптскую; а Козаки Сигизмундовы грабили купцев и Посланников Иоанновых на пути из Москвы в Тавриду. – Но скоро война сделалась важнее, по крайней мере для нас опаснее, от неожидаемой измены одного из славнейших Воевод Иоанновых.
Ужас, наведенный жестокостями Царя на всех Россиян, произвел бегство многих из них в чужие земли. Князь Димитрий Вишневецкий служил примером: усердный ко славе нашего отечества, и любив Иоанна добродетельного, он не хотел подвергать себя злобному своенравию тирана: из воинского стана в южной России ушел к Сигизмунду, который принял Димитрия милостиво как злодея Иоаннова и дал ему собственного медика, чтобы излечить сего славного воина от тяжкого недуга, произведенного в нем отравою. Но Вишневецкий не думал Лить кровь единоверных Россиян: тайно убеждаемый некоторыми Вельможами Молдавии изгнать недостойного их Господаря, Стефана, он с дружиною верных Козаков спешил туда искать новой славы и был жертвою обмана; никто не явился под знамена Героя: Стефан пленил Вишневецкого и послал в Константинополь, где Султан велел умертвить его. – Вслед за Вишневецким отъехали в Литву два брата, знатные сановники, Алексей и Гаврило Черкасские, без сомнения угрожаемые опалою. Бегство не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного: спасаться от мучителя, но горе гражданину, который за тирана мстит отечеству! Юный, бодрый Воевода, в нежном цвете лет ознаменованный славными ранами, муж битвы и совета, участник всех блестящих завоеваний Иоанновых, Герой под Тулою, под Казанью, в степях Башкирских и на полях Ливонии, некогда любимец, друг Царя, возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников. То был Князь Андрей Курбский. Доселе он имел славу заслуг, не имея ни малейшего пятна на сей славе в глазах потомства; но Царь уже не любил его как друга Адашевых: искал только случая обвинить невинного. Начальствуя в Дерпте, сей гордый Воевода сносил выговоры, разные оскорбления; слышал угрозы; наконец сведал, что ему готовится погибель. Не боясь смерти в битвах, но устрашенный казнию, Курбский спросил у жены своей, чего она желает: видеть ли его мертвого пред собою или расстаться с ним живым навеки? Великодушная с твердостию ответствовала, что жизнь супруга ей драгоценнее счастия. Заливаясь слезами, он простился с нею, благословил девятилетнего сына, ночью тайно вышел из дому, пролез через городскую стену, нашел двух оседланных коней, изготовленных его верным слугою, и благополучно достиг Вольмара, занятого Литовцами. Там Воевода Сигизмундов принял изгнанника как друга, именем Королевским обещая ему знатный сан и богатство. Первым делом Курбского было изъясниться с Иоанном: открыть душу свою, исполненную горести и негодования. В порыве сильных чувств он написал письмо к Царю: усердный слуга, единственный товарищ его, взялся доставить оное, и сдержал слово: подал запечатанную бумагу самому государю в Москве, на Красном крыльце, сказав: «от господина моего, твоего изгнанника, Князя Андрея Михайловича». Гневный Царь ударил его в ногу острым жезлом своим: кровь лилася из язвы: слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал. Иоанн оперся на жезл и велел читать вслух письмо Курбского такого содержания.
«Царю, некогда светлому, от Бога прославленному – ныне же, по грехам нашим, омраченному адскою злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному между самыми неверными владыками земли. Внимай! В смятении горести сердечной скажу мало, но истину. Почто различными муками истерзал ты Сильных во Израиле, вождей знаменитых, данных тебе Вседержителем, и Святую, победоносную кровь их пролиял во храмах Божиих? Разве они не пылали усердием к Царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками, Христиан чародеями, свет тьмою и сладкое горьким! Чем прогневали тебя сии предстатели отечества? Не ими ли разорены Батыевы Царства, где предки наши томились в тяжкой неволе? Не ими ли взяты твердыни Германские в честь твоего имени? И что же воздаешь нам, бедным? Гибель! Разве ты сам бессмертен? Разве нет Бога и правосудия Вышнего для Царя?.. Не описываю всего, претерпенного мною от твоей жестокости: еще душа моя в смятении; скажу единое: ты лишил меня святые Руси! Кровь моя, за тебя излиянная, вопиет к Богу. Он видит сердца. Я искал вины своей, и в делах и в тайных помышлениях; вопрошал совесть, внимал ответам ее, и не ведаю греха моего пред тобою. Я водил полки твои, и никогда не обращал хребта их к неприятелю: слава моя была твоею. Не год, не два служил тебе, но много лет, в трудах и в подвигах воинских, терпя нужду и болезни, не видя матери, не зная супруги, далеко от милого отечества. Исчисли битвы, исчисли раны мои! Не хвалюся: Богу все известно. Ему поручаю себя в надежде на заступление Святых и праотца моего, Князя Феодора Ярославского… Мы расстались с тобою навеки: не увидишь лица моего до дни Суда Страшного. Но слезы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся и мертвых: убитые тобою живы для Всевышнего: они у престола Его требуют мести! Не спасут тебя воинства; не сделают бессмертным ласкатели, Бояре недостойные, товарищи пиров и неги, губители души твоей, которые приносят тебе детей своих в жертву! – Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и явлюся с нею на суд Божий. Аминь. Писано в граде Вольмаре, в области Короля Сигизмунда, Государя моего, от коего с Божиею помощию надеюсь милости и жду утешения в скорбях».
Иоанн выслушал чтение письма и велел пытать вручителя, чтобы узнать от него все обстоятельства побега, все тайные связи, всех единомышленников Курбского в Москве. Добродетельный слуга, именем Василий Шибанов (сие имя принадлежит Истории) не объявил ничего; в ужасных муках хвалил своего отца-господина; радовался мыслию, что за него умирает. Такая великодушная твердость, усердие, любовь, изумили всех и самого Иоанна, как он говорит о том в письме к изгнаннику: ибо Царь, волнуемый гневом и внутренним беспокойством совести, немедленно отвечал Курбскому. «Во имя Бога всемогущего (пишет Иоанн), Того, Кем живем и движемся, Кем Цари Царствуют и Сильные глаголют, смиренный Христианский ответ бывшему Российскому Боярину, нашему советнику и Воеводе, Князю Андрею Михайловичу Курбскому, восхотевшему быть Ярославским владыкою… Почто, несчастный, губишь свою душу изменою, спасая бренное тело бегством? Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не хотел умереть от меня, строптивого Владыки, и наследовать венец Мученика? Что жизнь, что богатство и слава мира сего? Суета и тень: блажен, кто смертию приобретает душевное спасение! Устыдися раба своего, Шибанова: он сохранил благочестие пред Царем и народом; дав господину обет верности, не изменил ему при вратах смерти. А ты, от единого моего гневного слова, тяготишь себя клятвою изменников; не только себя, но и душу предков твоих: ибо они клялися великому моему деду служить нам верно со всем их потомством. Я читал и разумел твое писание. Яд аспида в устах изменника; слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобою гонения; но ты не уехал бы ко врагу нашему, если бы мы не излишно миловали вас, недостойных! Я иногда наказывал тебя за вины, но всегда легко, и с любовию; а жаловал примерно. Ты в юных летах был Воеводою и советником Царским; имел все почести и богатство. Вспомни отца своего: он служил в Боярах у Князя Михайла Кубенского! Хвалишься пролитием крови своей в битвах: но ты единственно платил долг отечеству. И велика ли слава твоих подвигов? Когда Хан бежал от Тулы, вы пировали на обеде у Князя Григория Темкина, и дали неприятелю время уйти восвояси. Вы были под Невлем с 15000 и не умели разбить четырех тысяч Литовцев. Говоришь о Царствах Батыевых, будто бы вами покоренных: разумеешь Казанское (ибо милость твоя не видала Астрахани): но чего нам стоило вести вас к победе? Сами идти не желая, вы безумными словами и в других охлаждали ревность к воинской славе. Когда буря истребила под Казанью суда наши с запасом, вы хотели бежать малодушно – и безвременно требовали решительной битвы, чтобы возвратиться в домы, победителями или побежденными, но только скорее. Когда Бог даровал нам город, что вы делали? Грабили! А Ливониею можете ли хвалиться? Ты жил праздно во Пскове, и мы семь раз писали к тебе, писали к Князю Петру Шуйскому: идите на Немцев. Вы с малым числом людей взяли тогда более пятидесяти городов; но своим ли умом и мужеством? Нет, только исполнением, хотя и ленивым, нашего распоряжения. Что ж вы сделали после с своим мудрым начальником Алексеем Адашевым, имея у себя войско многочисленное? едва могли взять Феллин: ушли от Пайды (Вейсенштейна)! Если бы не ваша строптивость, то Ливония давно бы вся принадлежала России. Вы побеждали невольно, действуя как рабы, единственно силою понуждения. Вы, говорите, проливали за нас кровь свою: мы же проливали пот и слезы от вашего неповиновения. Что было отечество в ваше царствование и в наше малолетство? Пустынею от Востока до Запада; а мы, уняв вас, устроили села и грады там, где витали дикие звери. Горе дому, коим владеет жена; горе Царству, коим владеют многие! Кесарь Август повелевал вселенною, ибо не делился ни с кем властию: Византия пала, когда Цари начали слушаться Эпархов, Синклитов и Попов, братьев вашего Сильвестра». Тут Иоанн описывает уже известные читателю вины бывших своих любимцев и продолжает: «Бесстыдная ложь, что говоришь о наших мнимых жестокостях! Не губим Сильных во Израиле; их кровию не обагряем церквей Божиих: сильные, добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников – и где же щадят их? Константин Великий не пощадил и сына своего, а предок ваш, святый Князь Феодор Ростиславич, сколько убил Христиан в Смоленске? Много опал, горестных для моего сердца; но еще более измен гнусных, везде и всем известных. Спроси у купцев чужеземных, приезжающих в наше Государство: они скажут тебе, что твои предстатели суть злодеи уличенные, коих не может носить земля Русская. И что такое предстатели отечества? Святые ли, боги ли, как Аполлоны, Юпитеры? Доселе Владетели Российские были вольны, независимы: жаловали и казнили своих подданных без отчета. Так и будет! Уже я не младенец. Имею нужду в милости Божией, Пречистыя Девы Марии и Святых Угодников: наставления человеческого не требую. Хвала Всевышнему: Россия благоденствует; Бояре мои живут в любви и согласии: одни друзья, советники ваши, еще во тьме коварствуют. – Угрожаешь мне судом Христовым на том свете: а разве в сем мире нет власти Божией? Вот ересь Манихейская! Вы думаете, что Господь Царствует только на небесах, Диавол во аде, на земле же властвуют люди: нет, нет! везде Господня Держава, и в сей и в будущей жизни. – Ты пишешь, что я не узрю здесь лица твоего Ефиопского: горе мне! Какое бедствие! – Престол Всевышнего окружаешь ты убиенными мною: вот новая ересь! Никто, по слову Апостола, не может видеть Бога. – Положи свою грамоту в могилу с собою: сим докажешь, что и последняя искра Христианства в тебе угасла: ибо Христианин умирает с любовию, с прощением, а не с злобою. – К довершению измены называешь Ливонский город Вольмар областию Короля Сигизмунда и надеешься от него милости, оставив своего законного, Богом данного тебе Властителя. Ты избрал себе Государя лучшего! Великий Король твой есть раб рабов: удивительно ли, что его хвалят рабы? Но умолкаю: Соломон не велит плодить речей с безумными: таков ты действительно: – Писано нашея Великия России в Царствующем граде Москве, лета мироздания 7072, Июля месяца в 5 день».
Сие письмо, наполненное изречениями Ветхого и Нового завета, свидетельствами историческими, богословскими толкованиями и грубыми насмешками, составляет целую книгу в подлиннике. Курбский ответствовал на оное с презрением: стыдил Иоанна забвением властительского достоинства, унижаемого языком бранным, суесловием жалким, непристойною смесию Божественных сказаний с ложью и клеветами. «Я невинен и бедствую в изгнании, – говорит он: – добрые жалеют обо мне: следственно не ты! Пождем мало: истина не далеко». Доселе можем осуждать изгнанника только за язвительность жалобы и за то, что он наслаждению мести, удовольствию терзать мучителя словами смелыми, пожертвовал добрым, усердным слугою: по крайней мере еще не видим в нем государственного преступника, и не можем верить обвинению, что Курбский хотел будто бы назваться Государем Ярославским. Но, увлеченный страстию, сей муж злополучный лишил себя выгоды быть правым и главного утешения в бедствиях: внутреннего чувства добродетели. Он мог без угрызеняя совести искать убежища от гонителя в самой Литве: к несчастию, сделал более: пристал ко врагам отечества. Обласканный Сигизмундом, награжденный от него богатым поместьем Ковельским, он предал ему свою честь и душу; советовал, как губить Россию; упрекал Короля слабостию в войне; убеждал его действовать смелее, не жалеть казны, чтобы возбудить против нас Хана – и скоро услышали в Москве, что 70000 Литовцев, Ляхов, Прусских Немцев, Венгров, Волохов с изменником Курбским идут к Полоцку; что Девлет-Гирей с 60000 хищников вступил в Рязанскую область…
Сия последняя весть изумила Царя: он ехал тогда на богомолье в Суздаль, всякой день ожидая новой шертной грамоты от Хана, который обещал ему и мир и союз. Грамота в самом деле была написана, и Посол Иоаннов Афанасий Нагой уже готовился к отъезду из Тавриды; но золото Сигизмундово все переменило: взяв его, Девлет-Гирей устремился на Россию, беззащитную, как он думал: ибо Король писал к нему, что Иоанн со всеми полками на Ливонской границе. Обманутый дружелюбными уверениями Хана, Царь действительно распустил наши полки украинские, так что в Рязани, осажденной Девлет-Гиреем, не было ни одного воина, кроме жителей. Она спаслася геройством двух любимцев Государевых, Боярина Алексея Басманова и сына его Федора, которые, находясь тогда в их богатом поместье на берегу Оки, первые известили Царя о неприятеле, первые вооружились с людьми своими, разбили несколько отрядов Ханских и засели в Рязани, где ветхие стены падали, но где ревность, неустрашимость сих витязей, вместе с увещаниями Епископа Филофея, одушевили граждан редким мужеством. Крымцы приступали днем и ночью без успеха: трупы их лежали грудами под стенами. Действие нашего огнестрельного снаряда не давало им отдыха и в стане. Узнав, что Иоанн в Москве, что Воеводы Федоров и Яковлев с Царскою дружиною уже стоят на берегу Оки, что из Михайлова, из Дедилова идет к ним войско – что смелые наездники Российские везде бьют Крымцев, приближаясь к самому их стану – Девлет-Гирей ушел еще скорее, нежели пришел; не дождался и своих отрядов, которые жгли берега Оки и Вожи. За ним не гналися; но Ширинский Князь его, Мамай, хотев долее грабить в селах Пронских, был разбит и взят в плен с 500 Крымцев; на месте легло их более трех тысяч. Чрез 6 дней все затихло: уже не было слуха о Крымцах. Иоанн, оставив Царицу и детей в Александровской Слободе, выезжал из Москвы к войску, когда Басмановы донесли ему о бегстве неприятеля: личная доблесть и слава сих двух любимцев еще более оживляла его радость: он дал им золотые медали.
Внимание Государя обратилось на Полоцк: и там мы торжествовали, к стыду изменника нашего и гордого Пана Радзивила, главного Воеводы Сигизмундова. Они расположились станом в двух верстах от города, между реками Двиною и Полотою, в надежде, что возьмут его одним страхом или изменою; но Воевода Полоцкий, Князь Петр Щенятев, ответствовал на их предложения выстрелами, а бывший Царь Казанский Симеон, Князья Иван Пронский, Петр и Василий Оболенские-Серебряные спешили из Великих Лук зайти неприятелю в тыл: ибо Государь, угадывая действие советов Курбского, заблаговременно усилил полки свои на сей границе. Радзивил не имел доверенности к Курбскому (такова участь предателей!): вопреки его мнению, опасался битвы, в коей мог быть между двумя огнями; 17 дней стоял праздно; терял людей от выстрелов из крепости – и 4 Октября перешел на Литовскую сторону Двины. Сего не довольно: Воеводы Московские, изгнав Литовцев, взяли приступом (6 Ноября) Озерище, и славный победитель Шуйского не сделал ни малейшего движения, чтобы спасти сию важную крепость. – В ту же осень Князь Василий Прозеровский отразил Литовцев от Чернигова и, взяв знамя Пана Сапеги, заслужил Царскую милость. Зимою Курбский с 15000 воинов Королевских входил в область Великих Лук; но подвиги его состояли единственно в разорении сел, даже монастырей. «То сделалось против моей воли, – писал он к Иоанну: – нельзя было удержать хищных ратников. Я воевал мое отечество так же, как Давид, гонимый Саулом, воевал землю Израильскую».
К общему распоряжению Короля принадлежали и действия Воевод его в Ливонии: чтобы способствовать успехам Хана и Радзивила, он велел Князю Александру Полубенскому и другим своим Воеводам идти к Мариенбургу, Дерпту, в область Псковскую. Было несколько дел, довольно важных: в одном храбрый витязь Иоаннов Василий Вешняков разбил неприятеля, а в другом Князь Иван Шуйский и меньший Шереметев уступили ему поле битвы. Литовцы не могли овладеть Красным; не могли защитить окрестностей Шмильтена, Вендена, Вольмара, Роннебурга, откуда мужественный Воевода Бутурлин вывел 3200 пленников: за что Государь прислал к нему золотые медали. Силы Литовцев были разделены: они сражались и с нами и с Шведами; последние же на сухом пути с ними, а на море с Датчанами, за спорную Ливонию, к удовольствию Иоанна, который внутренне смеялся над их усилиями, считая себя единственным ее законным Государем.
Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского #9
Двенадцатитомная «История государства Российского», написанию которой Карамзин посвятил последние 22 года своей жизни, охватывает период с древнейших времен до начала XVII века и является не только значительным историческим трудом, но и прекрасным литературным произведением. Карамзин внес много нового в понимание общего хода русской истории и в оценки отдельных исторических событий, раскрыл при помощи психологического анализа идейные и моральные мотивы действий исторических личностей. Полагая, что история человечества есть история всемирного прогресса, основу которого составляет борьба разума с заблуждением, просвещения – с невежеством. Карамзин видел задачу историка в том, чтобы наставлять людей в их общественной деятельности.
Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского. Том 9. Продолжение царствования Иоанна Грозного. 1560—1584 гг.
Глава I
Продолжение царствования Иоанна Грозного. г. 1560-1564
Перемена в Иоанне. Клевета на Адашева и Сильвестра. Суд. Заточение Сильвестра. Смерть Адашева. Начало злу. Новые любимцы. Первые казни. Война Ливонская. Великодушие Беля. Взятие Феллина. Слово Царя Казанского. Конец Ордена. Переговоры с Швециею. Война с Литвою. Второй брак Иоаннов. Взятие Полоцка. Рождение Царевича Василия. Торжество Иоанново. Смерть Царевича. Дела Крымские. Замысл Султана. Происшествия в Ливонии. Перемирие с Швециею. Злонравие супруги Иоанновой. Кончина Князя Юрия. Пострижение Иоанновой невестки и матери Князя Владимира. Кончина Макария. Сочинение Житий Святых и Степенной книги. Заведение типографии. Издание Библии в Остроге. Полоцкая Архиепископия. Белый Клобук Митрополитов. Посвящение Афанасия в Митрополиты.
Приступаем к описанию ужасной перемены в душе Царя и в судьбе Царства.
И Россияне современные и чужеземцы, бывшие тогда в Москве, изображают сего юного, тридцатилетнего Венценосца как пример Монархов благочестивых, мудрых, ревностных к славе и счастию Государства. Так изъясняются первые: «Обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым пред Богом. И в храме и в молитве уединенной, и в Совете Боярском и среди народа у него одно чувство: да властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным Помазанникам! Суд нелицемерный, безопасность каждого и общая, целость порученных ему государств, торжество Веры, свобода Христиан есть всегдашняя дума его. Обремененный делами, он не знает иных утех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязанность; не хочет обыкновенных прохлад Царских. Ласковый к Вельможам и народу – любя, награждая всех по достоинству – щедростию искореняя бедность, а зло примером добра, сей Богом урожденный Царь желает в день Страшного Суда услышать глас Милости: ты ecu Царь правды! и ответствовать с умилением: се аз и люди, яже дал ми ecu ты!» Не менее хвалят его и наблюдатели иноземные, Англичане, приезжавшие в Россию для торговли.
«Иоанн, – пишут они, – затмил своих предков и могуществом и добродетелию; имеет многих врагов, и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, Ногаи ужасаются Русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив; любит разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце, и, несмотря на то, умеет быть повелительным; скажет Боярину: иди! и Боярин бежит, изъявит досаду Вельможе и Вельможа в отчаянии: скрывается, тоскует в уединении, отпускает волосы в знак горести, пока Царь не объявит ему прощения. Одним словом, нет народа в Европе, более Россиян преданного своему Государю, коего они равно и страшатся и любят. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать, Иоанн во все входит, все решит; не скучает делами и не веселится ни звериною ловлею, ни музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями: как служить Богу, и как истреблять врагов России!»
Вероятно ли, чтобы Государь любимый, обожаемый, мог с такой высоты блага, счастия, славы, низвергнуться в бездну ужасов тиранства? Но свидетельства добра и зла равно убедительны, неопровержимы; остается только представить сей удивительный феномен в его постепенных изменениях.
История не решит вопроса о нравственной свободе человека; но предполагая оную в суждении своем о делах и характерах, изъясняет те и другие во-первых природными свойствами людей, во-вторых обстоятельствами или впечатлениями предметов, действующих на душу. Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом еще более острым, нежели твердым или основательным. Худое воспитание, испортив в нем естественные склонности, оставило ему способ к исправлению в одной Вере: ибо самые дерзкие развратители Царей не дерзали тогда касаться сего святого чувства. Друзья отечества и блага в обстоятельствах чрезвычайных умели ее спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце; исхитили юношу из сетей неги, и с помощью набожной, кроткой Анастасии увлекли на путь добродетели. Несчастные следствия Иоанновой болезни расстроили сей прекрасный союз, ослабили власть дружества, изготовили перемену. Государь возмужал: страсти зреют вместе с умом, и самолюбие действует еще сильнее в летах совершенных. Пусть доверенность Иоаннова к разуму бывших наставников не умалилась; но доверенность его к самому себе увеличилась: благодарный им за мудрые советы, Государь престал чувствовать необходимость в дальнейшем руководстве, и тем более чувствовал тягость принуждения, когда они, не изменяя старому обыкновению, говорили смело, решительно во всех случаях и не думали угождать его человеческой слабости. Такое прямодушие казалось ему непристойною грубостию, оскорбительною для Монарха. Например, Адашев и Сильвестр не одобряли войны Ливонской, утверждая, что надобно прежде всего искоренить неверных, злых врагов России и Христа; что Ливонцы хотя и не Греческого исповедания, однако ж Христиане и для нас не опасны; что Бог благословляет только войны справедливые, нужные для целости и свободы Государств. Двор был наполнен людьми преданными сим двум любимцам; но братья Анастасии не любили их, также и многие обыкновенные завистники, не терпящие никого выше себя. Последние не дремали, угадывали расположение Иоаннова сердца и внушали ему, что Сильвестр и Лдашев суть хитрые лицемеры: проповедуя Небесную добродетель, хотят мирских выгод; стоят высоко пред троном и не дают народу видеть Царя, желая присвоить себе успехи, славу его Царствования и в то же время препятствуют сим успехам, советуя Государю быть умеренным в счастии: ибо внутренне страшатся оных, думая, что избыток славы может дать ему справедливое чувство величия, опасное для их властолюбия. Они говорили: «кто сии люди, дерзающие предписывать законы Царю великому и мудрому, не только в делах государственных, но и в домашних, семейственных, в самом образе жизни; дерзающие указывать ему, как обходиться с супругою, сколько пить и есть в меру?» ибо Сильвестр, наставник Иоанновой совести, всегда требовал от него воздержания, умеренности в физических наслаждениях, к коим юный Монарх имел сильную склонность. Иоанн не унимал злословия, ибо уже скучал излишно строгими нравоучениями своих любимцев и хотел свободы; не мыслил оставить добродетели: желал единственно избавиться от учителей и доказать, что может без них обойтися. Бывали минуты, в которые природная его пылкость изливалась в словах нескромных, в угрозах. Пишут, что скоро по завоевании Казани он, в гневе на одного Воеводу, сказал Вельможам: «теперь уже не боюсь вас!» Но великодушие, оказанное им после болезни, совершенно успокоило сердца. Тринадцать цветущих лет жизни, проведенных в ревностном исполнении святых Царских обязанностей, свидетельствовали, казалось, неизменную верность в любви ко благу. Хотя Государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменялся заметно в правилах. Благочиние Царствовало в Кремлевском дворце, усердие и смелая откровенность в Думе. Только в делах двусмысленных, где истина или добро не были очевидны, Иоанн любил противоречить советникам. Так было до весны 1560 года.
В сие время холодность Государева к Адашеву и к Сильвестру столь явно обнаружилась, что они увидели необходимость удалиться от Двора. Первый, занимав дотоле важнейшее место в Думе, и всегда употребляемый в переговорах с Европейскими Державами, хотел еще служить Царю иным способом: принял сан Воеводы и поехал в Ливонию; а Сильвестр, от чистого сердца дав Государю благословение, заключился в одном пустынном монастыре. Друзья их осиротели, неприятели восторжествовали; славили мудрость Царя и говорили: «ныне ты уже истинный Самодержец, помазанник Божий, един управляешь землею; открыл свои очи и зришь свободно на все Царство!» Но сверженные любимцы казались им еще страшными. Вопреки известной Государевой немилости, Адашева честили в войске; самые граждане Ливонские изъявляли отменное к нему уважение: все покорялось его уму и добродетели. Не менее и Сильвестр, уже Монах смиренный, блистал добродетелями Христианскими в пустыне: Иноки с удивлением видели в нем пример благочестия, любви, кротости.
Царь мог узнать о том, раскаяться, возвратить изгнанников: надлежало довершить удар и сделать Государя столь несправедливым, столь виновным против сих мужей, чтобы он уже не мог и мыслить об искреннем мире с ними. Кончина Царицы подала к тому случай.
Иоанн был растерзан горестию: все вокруг его проливали слезы, или от истинной жалости, или в угодность Царю печальному – и в сих-то слезах явилась гнусная клевета под личиною усердия, любви, будто бы приведенной в ужас открытием неслыханного злодейства. «Государь! – сказали Иоанну: – ты в отчаянии, Россия также, а два изверга торжествуют: добродетельную Царицу извели Сильвестр и Адашев, ее враги тайные и чародеи: ибо они без чародейства не могли бы так долго владеть умом твоим». Представили доказательства, которые не убеждали и самых легковерных, но Государь знал, что Анастасия со времени его болезни не любила ни Сильвестра, ни Адашева; думал, что они также не любили ее, и принял клевету, может быть желая оправдать свою к ним немилость, если не верными уликами в их злодействе, то хотя подозрением. Сведав о сем доносе, изгнанники писали к Царю, требуя суда и очной ставки с обвинителями. Последнего не хотели враги их, представляя ему, что они как василиски ядовиты, могут одним взором снова очаровать его, и любимые народом, войском, всеми гражданами, произвести мятеж; что страх сомкнет уста доносителям. Государь велел судить обвиняемых заочно: Митрополит, Епископы, Бояре, многие иные духовные и светские чиновники собралися для того во дворце. В числе судей были и коварные Монахи, Вассиан Беский, Мисаил Сукин, главные злодеи Сильвестровы. Читали не одно, но многие обвинения, изъясняемые самим Иоанном в письме к Князю Андрею Курбскому. «Ради спасения души моей, – пишет Царь, – приближил я к себе Иерея Сильвестра, надеясь, что он по своему сану и разуму будет мне споспешником во благе; но сей лукавый лицемер, обольстив меня сладкоречием, думал единственно о мирской власти и сдружился с Адашевым, чтобы управлять Царством без Царя, ими презираемого. Они снова вселили дух своевольства в Бояр; раздали единомышленникам города и волости; сажали, кого хотели, в Думу; заняли все места своими угодниками. Я был невольником на троне. Могу ли описать претерпенное мною в сии дни уничижения и стыда? Как пленника влекут Царя с горстию воинов сквозь опасную землю неприятельскую (Казанскую) и не щадят ни здравия, ни жизни его; вымышляют детские страшила, чтобы привести в ужас мою душу; велят мне быть выше естества человеческого, запрещают ездить по Святым Обителям, не дозволяют карать Немцев… К сим беззакониям присоединяется измена: когда я страдал в тяжкой болезни, они, забыв верность и клятву, в упоении самовластия хотели, мимо сына моего, взять себе иного Царя, и не тронутые, не исправленные нашим великодушием, в жестокости сердец своих чем платили нам за оное? новыми оскорблениями: ненавидели, злословили Царицу Анастасию и во всем доброхотствовали Князю Владимиру Андреевичу. Итак, удивительно ли, что я решился наконец не быть младенцем в летах мужества и свергнуть иго, возложенное на Царство лукавым Попом и неблагодарным слугою Алексием?» и проч. Заметим, что Иоанн не обвиняет их в смерти Анастасии, и тем свидетельствует нелепую ложь сего доноса. Все иные упреки отчасти сомнительны, отчасти безрассудны в устах тридцатилетнего Самодержца, который признанием своей бывшей неволи открывает тайну своей жалкой слабости. Адашев и Сильвестр могли как люди ослепиться честолюбием; но Государь сим нескромным обвинением уступил им славу прекраснейшего в истории Царствования. Увидим, как он без них властвовал; и если не Иоанн, но любимцы его от 1547 до 1560 года управляли Россиею: то для счастия подданных и Царя надлежало бы сим добродетельным мужам не оставлять государственного кормила: лучше неволею творить добро, нежели волею зло. Но гораздо вероятнее, что Иоанн, желая винить их, клевещет на самого себя; гораздо вероятнее, что он искренно любил благо, узнав его прелесть, и наконец, увлеченный страстями, только обузданными, не искорененными, изменил правилам великодушия, сообщенным ему мудрыми наставниками: ибо легче перемениться, нежели так долго принуждать себя – и кому? Государю самовластному, который одним словом всегда мог расторгнуть сию мнимую цепь неволи. Адашев, как советник не одобряя войны Ливонской, служил Иоанну как подданный, как Министр и воин усердным орудием для успехов ее: следственно Государь повелевал и, вопреки его жалобам, не был рабом любимцев.
Выслушав бумагу о преступлениях Адашева и Сильвестра, некоторые из судей объявили, что сии злодеи уличены и достойны казни; другие, потупив глаза, безмолвствовали. Тут старец, Митрополит Макарий, близостию смерти и саном Первосвятительства утверждаемый в обязанности говорить истину, сказал Царю, что надобно призвать и выслушать судимых. Все добросовестные Вельможи согласились с сим мнением; но сонм губителей, по выражению Курбского, возопил против оного, доказывая, что люди, осуждаемые чувством Государя велемудрого, милостивого, не могут представить никакого законного оправдания; что их присутствие и козни опасны, что спокойствие Царя и отечества требует немедленного решения в сем важном деле. Итак, решили, что обвиняемые виновны. Надлежало только определить казнь, и Государь, еще желая иметь вид милосердия, умерил оную: послали Сильвестра на дикий остров Белого моря, в уединенную Обитель Соловецкую, и велели Адашеву жить в новопокоренном Феллине, коего взятию он способствовал тогда своим умом и распоряжениями; но твердость и спокойствие сего мужа досаждали злобным гонителям: его заключили в Дерпте, где он чрез два месяца умер горячкою, к радости своих неприятелей, которые сказали Царю, что обличенный изменник отравил себя ядом… Муж незабвенный в нашей Истории, краса века и человечества, по вероятному сказанию его друзей, ибо сей знаменитый временщик явился вместе с добродетелию Царя и погиб с нею… Феномен удивительный в тогдашних обстоятельствах России, изъясняемый единственно неизмеримою силою искреннего благолюбия, коего Божественное вдохновение озаряет ум естественный в самой тьме невежества, и вернее Науки, вернее ученой мудрости руководствует людей к великому. – Обязанный милости Иоанновой некоторым избытком, Адашев знал одну роскошь благодеяния: питал нищих, держал в своем доме десять прокаженных, и собственными руками обмывал их, усердно исполняя долг Христианина и всегда памятуя бедность человечества.
Отселе начало злу, и таким образом, уже не было двух главных действователей благословенного Иоаннова Царствования; но друзья их, мысли и правила оставались: надлежало, истребив Адашера, истребить и дух его, опасный для клеветников добродетели, противный самому Государю в сих новых обстоятельствах. Требовали клятвы от всех Бояр и знатных людей не держаться стороны удаленных, наказанных изменников и быть верными Государю. Присягнули, одни с радостию, другие с печалию, угадывая следствия, которые и открылись немедленно. Все, что прежде считалось достоинством и способом угождать Царю, сделалось предосудительно, напоминая Адашева и Сильвестра. Говорили Иоанну: «Всегда ли плакать тебе о супруге? Найдешь другую, равно прелестную; но можешь неумеренностию в скорби повредить своему здравию бесценному. Бог и народ требуют, чтобы ты в земной горести искал и земного утешения». Иоанн искренно любил супругу, но имел легкость во нраве, несогласную с глубокими впечатлениями горести. Он без гнева внимал утешителям – и чрез восемь дней по кончине Анастасии Митрополит, Святители, Бояре торжественно предложили ему искать невесты: законы пристойности были тогда не строги. Раздав по церквам и для бедных несколько тысяч рублей в память усопшей, послав богатую милостыню в Иерусалим, в Грецию, Государь 18 Августа (1560 г.) объявил, что намерен жениться на сестре Короля Польского.
С сего времени умолк плач во дворце. Начали забавлять Царя, сперва беседою приятною, шутками, а скоро и светлыми пирами; напоминали друг другу, что вино радует сердце; смеялись над старым обычаем умеренности; называли постничество лицемерием. Дворец уже казался тесным для сих шумных сборищ: юных Царевичей, брата Иоаннова Юрия и Казанского Царя Александра, перевели в особенные домы. Ежедневно вымышлялись новые потехи, игрища, на коих трезвость, самая важность, самая пристойность считались непристойностию. Еще многие Бояре, сановники не могли вдруг перемениться в обычаях; сидели за светлою трапезою, с лицом туманным, уклонялись от чаши, не пили и вздыхали: их осмеивали, унижали: лили им вино на голову. Между новыми любимцами Государевыми отличались Боярин Алексей Басманов, сын его, Кравчий Федор, Князь Афанасий Вяземский, Василий Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, готовые на все для удовлетворения своему честолюбию. Прежде они под личиною благонравия терялись в толпе обыкновенных Царедворцев, но тогда выступили вперед и, по симпатии зла, вкрались в душу Иоанна, приятные ему какою-то легкостию ума, искусственною веселостию, хвастливым усердием исполнять, предупреждать его волю как Божественную, без всякого соображения с иными правилами, которые обуздывают и благих Царей и благих слуг Царских, первых в их желаниях, вторых в исполнении оных. Старые друзья Иоанновы изъявляли любовь к Государю и к добродетели: новые только к Государю, и казались тем любезнее. Они сговорились с двумя или с тремя Монахами, заслужившими доверенность Иоаннову, людьми хитрыми, лукавыми, коим надлежало снисходительным учением ободрять робкую совесть Царя и своим присутствием как бы оправдывать бесчиние шумных пиров его. Курбский в особенности именует здесь Чудовского Архимандрита Левкия, главного угодника придворного. Порок ведет к пороку: женолюбивый Иоанн, разгорячаемый вином, забыл целомудрие, и в ожидании новой супруги для вечной, единственной любви, искал временных предметов в удовлетворение грубым вожделениям чувственным. Мнимая, прозрачная завеса тайны не скрывает слабостей Венценосца: люди с изумлением спрашивали друг у друга, каким гибельным наитием Государь, дотоле пример воздержания и чистоты душевной, мог унизиться до распутства?
Сие без сомнения великое зло произвело еще ужаснейшее. Развратники, указывая Царю на печальные лица важных Бояр, шептали: «Вот твои недоброхоты! Вопреки данной ими присяге, они живут Адашевским обычаем, сеют вредные слухи, волнуют умы, хотят прежнего своевольства». Такие ядовитые наветы растравляли Иоанново сердце, уже беспокойное в чувстве своих пороков; взор его мутился; из уст вырывались слова грозные. Обвиняя Бояр в злых намерениях, в вероломстве, в упорной привязанности к ненавистной памяти мнимых изменников, он решился быть строгим, и сделался мучителем, коему равного едва ли найдем в самых Тацитовых летописях!.. Не вдруг конечно рассвирепела душа, некогда благолюбивая: успехи добра и зла бывают постепенны; но Летописцы не могли проникнуть в ее внутренность; не могли видеть в ней борения совести с мятежными страстями: видели только дела ужасные, и называют тиранство Иоанново чуждою бурею, как бы из недр Ада посланною возмутить, истерзать Россию. Оно началося гонением всех ближних Адашева: их лишали собственности, ссылали в места дальние. Народ жалел о невинных, проклиная ласкателей, новых советников Царских; а Царь злобился и хотел мерами жестокими унять дерзость. Жена знатная, именем Мария, славилась в Москве Христианскими добродетелями и дружбою Адашева: сказали, что она ненавидит и мыслит чародейством извести Царя: ее казнили вместе с пятью сыновьями; а скоро и многих иных, обвиняемых в том же: знаменитого воинскими подвигами Окольничего, Данила Адашева, брата Алексеева, с двенадцатилетним сыном – трех Сатиных, коих сестра была за Алексием, и родственника его, Ивана Шишкина, с женою и детьми. Князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, сын Воеводы, умершего пленником в Литве, погиб за нескромное слово. Оскорбленный надменностию юного любимца Государева Федора Басманова, Князь Дмитрий сказал ему: «Мы служим Царю трудами полезными, а ты гнусными делами содомскими!» Басманов принес жалобу Иоанну, который в исступлении гнева, за обедом, вонзил несчастному Князю нож в сердце; другие пишут, что он велел задушить его. Боярин, Князь Михайло Репнин также был жертвою великодушной смелости. Видя во дворце непристойное игрище, где Царь, упоенный крепким медом, плясал с своими любимцами в масках, сей Вельможа заплакал от горести. Иоанн хотел надеть на него маску: Репнин вырвал ее, растоптал ногами и сказал: «Государю ли быть скоморохом? По крайней мере я, Боярин и Советник Думы, не могу безумствовать». Царь выгнал его и через несколько дней велел умертвить, стоящего в святом храме, на молитве; кровь сего добродетельного мужа обагрила помост церковный. Угождая несчастному расположению души Иоанновой, явились толпы доносителей. Подслушивали тихие разговоры в семействах, между друзьями; смотрели на лица, угадывали тайну мыслей, и гнусные клеветники не боялись выдумывать преступлений, ибо доносы нравились Государю и судия не требовал улик верных. Так, без вины, без суда, убили Князя Юрия Кашина, члена Думы, и брата его; Князя Дмитрия Курлятева, друга Адашевых, неволею постригли и скоро умертвили со всем семейством; первостепенного Вельможу, знатного слугу Государева, победителя Казанцев, Князя Михайла Воротынского, с женою, с сыном и с дочерью сослали на Белоозеро. Ужас Крымцев, Воевода, Боярин Иван Шереметев был ввержен в душную темницу, истерзан, окован тяжкими цепями. Царь пришел к нему и хладнокровно спросил: «где казна твоя? Ты слыл богачом». Государь! – отвечал полумертвый страдалец. – Я руками нищих переслал ее к моему Христу Спасителю. Выпущенный из темницы, он еще несколько лет присутствовал в Думе; наконец укрылся от мира в пустыне Белозерской, но не укрылся от гонения: Иоанн писал к тамошним Монахам, что они излишно честят сего бывшего Вельможу, как бы в досаду Царю. Брат его, Никита Шереметев, также Думный Советник и Воевода, израненный в битвах за отечество, был удавлен.
Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стенали жертвы; но… тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим! Нет исправления для мучителя, всегда более и более подозрительного, более и более свирепого; кровопийство не утоляет, но усиливает жажду крови: оно делается лютейшею из страстей, неизъяснимою для ума, ибо есть безумие, казнь народов и самого тирана. – Любопытно видеть, как сей Государь, до конца жизни усердный чтитель Христианского Закона, хотел соглашать его Божественное учение с своею неслыханною жестокостию: то оправдывал оную в виде правосудия, утверждая, что все ее мученики были изменники, чародеи, враги Христа и России; то смиренно винился пред Богом и людьми, называл себя гнусным убийцею невинных, приказывал молиться за них в святых храмах, но утешался надеждою, что искреннее раскаяние будет ему спасением, и что он, сложив с себя земное величие, в мирной обители Св. Кирилла Белозерского со временем будет примерным Иноком! Так писал Иоанн к Князю Андрею Курбскому и к начальникам любимых им монастырей, во свидетельство, что глас неумолимой совести тревожил мутный сон души его, готовя ее к незапному, страшному пробуждению в могиле!
Оставим до времени ужасы тиранства, чтобы следовать за течением государственных дел, в коих природный ум Иоаннов еще был виден как луч света посреди облаков темных.
Успехи наши в войне Ливонской заключились ударом сильным, решительным. Государь (в 1560 году) послал в Дерпт еще новую рать, 60000 конницы и пехоты, 40 осадных пушек и 50 полевых, с знатнейшими Воеводами, Князьями Иваном Мстиславским и Петром Шуйским, чтобы непременно взять Феллин, главную защиту Ливонии, где заключился бывший Магистр Фирстенберг. Полки Московские шли медленно берегом реки Эмбаха; тяжелый снаряд огнестрельный везли на судах; а Воевода Князь Барбашин с 12000 легких всадников спешил занять дорогу к морю: ибо носился слух, что Фирстенберг отправляет для безопасности богатую казну в Габзаль. Утомив коней, Барбашин отдыхал верстах в пяти от Эрмиса, и в жаркий полдень, когда воины его спали в тени. сделалась тревога: 500 Немецких всадников и столько же пехоты, под начальством храброго Ландмаршала Филиппа Беля с криком и воплем устремились из леса к нашему тихому стану, оберегаемому малочисленною стражею. Россияне хотя и знали о близости неприятеля, но думали, что он не вступит в битву с их превосходною силою. Внезапность дала ему только минутную выгоду: после первого замешательства Россияне остановили, стеснили Немцев, и всех до единого истребили, взяв в плен 11 Коммандоров и 120 Рыцарей, в числе коих находился и главный предводитель. Утрата столь многих чиновников, особенно Ландмаршала, называемого последним, ревностным защитником, последнею надеждою Ливонии, была величайшим бедствием для Ордена. Представленный Воеводам Московским, сей знаменитый муж не изменился в своей душевной твердости; не таил внутренней скорби, но взирал на них с гордым величием; ответствовал на все вопросы искренно, спокойно, смело. Курбский, хваля его характер, ум, красноречие, повествует следующее:
«Стараясь приветливостию смягчить жестокую долю сего необыкновенного человека, мы за обедом ласково беседовали с ним об истории Ливонского Ордена. Когда, – сказал он, – усердие к истинной Вере, добродетель, благочестие, обитали в сердцах наших: тогда Господь явно помогал нам; не боялись мы ни Россиян, ни Литовских Князей. Вы слыхали о той славной, достопамятной битве с грозным Витовтом, в коей легли шесть Магистров Орденских, один за другим избранных для предводительства: – таковы были древние Рыцари; таковы и новейшие, с коими имел войну дед нынешнего Царя Московского Иоанн Великий и которые столь мужественно сражались с вашим славным Воеводою Даниилом. Когда же мы отступили от Бога, испровергли уставы истинной Веры, прияли новую, изобретенную умом человеческим в угодность страстям, когда забыли чистоту нравов, вдались в гнусное сластолюбие, необузданно устремились на широкий путь разврата: тогда Бог предал Орден в руки ваши. Грады красные, твердыни высокие, палаты и дворы светлые, созданные нашими предками, – сады и винограды, ими насажденные, без труда вам достались. Но что говорю о Россиянах! По крайней мере вы брали мечом: другие (Поляки) меча не обнажали, а брали, лукаво обещая нам дружбу, защиту, вспоможение. Вот их дружба: стоим пред вами в узах, и милое отечество гибнет!.. Нет, не думайте, чтобы вы доблестию победили нас: Бог вами казнит грешников! Тут он залился слезами, отер их и с лицом светлым примолвил: но я благодарю Всевышнего и в оковах: сладостно терпеть за отечество, и не боюся смерти!– Воеводы Российские слушали его с любопытством, с сердечным умилением и, послав в Москву вместе со всеми пленниками, убедительно писали к государю, чтобы он изъявил милосердие к сему добродетельному витязю, который, будучи столь уважаем в Ливонии, мог оказать нам великие услуги и склонить Магистра к покорности. Но Иоанн уже любил тогда жестокость: призвав его к себе, начал говорить с ним гневно. Великодушный пленник ответствовал, что Ливония стоит за честь, за свободу и гнушается рабством; что мы ведем войну как лютые варвары и кровопийцы. Иоанн велел отсечь ему голову» – за противное слово (говорит Летописец) и за вероломное нарушение перемирия. Невольно удивляясь смелой твердости Беля, Иоанн послал остановить казнь; но она между тем совершилась.
Полководцы наши, осадив Феллин, разбили пушками стены и в одну ночь зажгли город в разных местах. Тогда воины Немецкие объявили Фирстенбергу, что надобно вступить в переговоры. Тщетно сей знаменитый старец убеждал их нс изменять чести и долгу, предлагая им все свои сокровища, золото и серебро в награду за мужество: наемники не хотели верной смерти, ибо ни откуда не могли ждать помощи. Фирстенберг требовал, чтобы Россияне выпустили его с казною: Совет Боярский не принял сего условия, ответствуя, что Государь для чести желает иметь Магистра пленником, а из великодушия обещает ему милость. Выпустили только воинов Немецких (21 Августа); но узнав, что они разломали сундуки Фирстенберговы и похитили многие драгоценности, свезенные Ливонским Дворянством в Феллин, Князь Мстиславский велел отнять у них все взятое ими беззаконно, даже и собственность, так что сии несчастные пришли нагие в Ригу, где Кетлер повесил их как изменников. Заняв город, Россияне удивились малодушию Немцев, которые могли бы долго противиться величайшим усилиям осаждающих, имея в нем три каменные крепости с глубокими рвами, 450 пушек и множество всяких запасов. «Такая робость неприятелей (говорили они) есть милость Божия к Царю православному». Когда пленники Феллинские прибыли в Москву, Иоанн велел показать их народу и водить из улицы в улицу. Пишут, что Царь Казанский, находясь в числе любопытных зрителей сего торжества, плюнул на одного Немецкого сановника, сказав ему: «За дело вам, безумцам! Вы научили Русских владеть оружием: погубили нас и самих себя!» – Государь принял Фирстенберга весьма благосклонно; исполнил все обещания Воевод и дал ему Костромское местечко Любим во владение, где он и кончил дни свои, жалуясь на Судьбу, но искренно хваля милосердие Иоанново. Падение Феллина предвестило совершенное падение Ордена. Города Тарваст, Руя, Верполь и многие укрепленные замки сдалися. Князь Андрей Курбский разбил нового Орденского Ландмаршала близ Вольмара, и сведав, что легкие отряды Литовские приближаются к Вендену, встретил их как неприятелей, обратил в бегство, выгнал из пределов Ливонии. Воевода Яковлев, опустошив приморскую часть Эстонии, захватил множество скота и богатства, ибо знатнейшие жители Гаррии укрывались там с своим имением. Он шел мимо Ревеля: смелые граждане, числом менее тысячи, сделали вылазку и были жертвою нашей превосходной силы; легли на месте или отдалися в плен. Вероятно, что Россияне могли бы овладеть тогда и Ревелем; но главный Воевода, Князь Мстиславский, на пути к нему хотел без Государева повеления взять крепкий, окруженный вязкими ржавцами Вейсенштейн: стоял под ним шесть недель, не отважился на приступ, издержал все запасы и должен был осенью возвратиться в Россию.
В сие время Ливония уже перестала мыслить о сохранении независимости: изнуренная бесполезными усилиями, она искала только лучшего властелина, чтобы спасти бедные остатки свои от плена и меча Россиян. Фридерик, Король датский, хотел Эстонии и купил для своего брата, Магнуса, Епископство Эзельское: сей юный Принц, осужденный быть удивительным игралищем Судьбы, весною 1560 года прибыл в Габзаль с лестными обещаниями для Рыцарства. Король Шведский не показывал властолюбивых замыслов на Орденские земли, но боясь успехов России, дал знать Магистру, что он готов снабдить Ревель воинскими запасами; что тамошние жители, в случае осады, могут прислать жен и детей в Финляндию; что Швеция, забывая неверность Ордена, искренно ему благоприятствует и никогда не согласится на его уничтожение. Так думал старец Густав Ваза, умерший в конце 1560 года. Новый Король Эрик действовал решительнее: представил чинам Эстонским с одной стороны неминуемую гибель, с другой защиту, спасение, и без великого труда убедил их объявить себя подданными Швеции, к досаде Магистра, который находился в тайных переговорах с Сигизмундом. Сие важное происшествие ускорило развязку драмы. Видя, что ветхое здание Ордена рушится, Кетлер, Архиепископ Рижский и депутаты Ливонии спешили в Вильну, где 28 Ноября 1561 года, в присутствии Короля и Вельмож Литовских, навеки уничтожилось бытие знаменитого Братства меченосцев, в силу торжественного, клятвою утвержденного договора, по коему Сигизмунд-Август был признан Государем Ливонии – с условием не изменять ни Веры ее, ни законов, ни прав гражданских – а Кетлер наследственным Герцогом Курляндии, вассалом, или подручником Королевским. В сей достопамятной грамоте сказано, что «Ливония, терзаемая лютейшим из врагов, не может спастися без тесного соединения с Королевством Польским; что Сигизмунд обязан вступиться за Христиан, утесняемых варварами; что он изгонит Россиян и внесет войну в собственную их землю: ибо лучше питаться кровию неприятеля, нежели питать его своею». Возвратясь в Ригу, Кетлер всенародно сложил с себя достоинство Магистра, крест и мантию: Рыцари также, проливая слезы. Присягнув в верности к Королю, он вручил его наместнику, Князю Николаю Радзивилу, печать Ордена, грамоты Императоров и ключи городские; а Радзивил, именем Короля, дал ему сан Ливонского правителя. – Таким образом, земли Орденские разделились на пять частей: Нарва, Дерпт, Аллентакен, некоторые уезды Ервенские, Вирландские и все места соседственные с Россиею были завоеваны Иоанном; Швеция взяла Гаррию, Ревель и половину Вирландии; Магнус владел Эзелем; Готгард Кетлер Курляндиею и Семигалиею; Сигизмунд южною Ливониею. Каждый из сих Владетелей старался приобрести любовь новых подданных: ибо сам Иоанн, ужасный в виде неприятеля, изъявлял милость народу и Дворянству в областях завоеванных. Но конец Ордена еще не мог быть концом бедствий для стесненной Ливонии, где четыре Северные Державы находились в опасном совместничестве друг с другом и где каждая из них желала распространить свое господство.
В то время, когда Шведское войско уже вступало в Ревель, Эрик предлагал нам мир и дружбу, но с условием относиться во всем к самому Царю, не к наместникам новогородским, и выключить из прежнего договора важную статью, коею Густав Ваза обязывался не помогать ни Литве, ни Ордену. Чиновники Шведские в переговорах с Московскими Боярами сказали им в угрозу: «Император, Король Сигизмунд и Фридерик Датский убеждают Государя нашего вместе с ними воевать Россию. Послы их в Стокгольме: Эрик не дал им решительного ответа, ибо ждет вашего». Бояре объявили, что Россия семь веков следует одной системе политической и не изменяет старых своих обычаев. «В Швеции, – говорили они, – было много Владетелей до Эрика: который же не сносился с Новымгородом? Густав Ваза, не хотев того, видел ужасное опустошение земли своей и смирился. Густав славился мудростию, а Эрик еще неизвестен. Легко начать злое дело, но трудно исправить его. Иоанн захотел – и взял два Царства: что сделал наш Король новый? Или снова утвердите грамоту отца его, или вы еще не доедете до Стокгольма, а война уже запылает – и не скоро угаснет ее пламя. Вы пугаете нас Литвою, Цесарем, Даниею: будьте друзьями всех Царей и Королей: не устрашимся». Сия твердость принудила Шведов возобновить старый договор. Хотя Иоанн не мог без досады сведать о происшедшем в Эстонии; хотя чиновники Новогородские, посланные в Стокгольм с мирною грамотою, жаловались Царю, что Эрик принял их весьма грубо (и даже предлагал им есть мясо в постные дни); хотя они дали знать Королю, что мы не будем равнодушными зрителями его властолюбия: однако ж мир состоялся, ибо Царь не хотел умножать числа врагов своих до времени, чтобы управиться с главным, то есть, с Литвою.
Мы говорили о сватовстве Иоанновом: он не сомневался в успехе его и весьма ошибся, к прискорбию своего самолюбия. Послы наши, отправленные в Вильну, торжественно говорили Сигизмунду о мире, а тайно о желании Царя быть ему зятем. Им надлежало выбрать или большую сестру Королевскую, Анну, или меньшую, Екатерину, смотря по их красоте, здоровью и дородству. Они избрали Екатерину. Сигизмунд ответствовал, что для сего нужно согласие Императора, Князя Брауншвейгского и Короля Венгерского, ее покровителей и родственников; что приданое невесты, хранимое в Польской казне, состоит из цепей, запон, платья и золота, всего на 100000 червонных; что хотя и не следовало бы выдать меньшую сестру прежде большой, но он не противится сему браку с условием, чтобы Екатерина осталась в Римском Законе. Послы желали представиться невесте: им дозволили видеть ее в церкви и вручили портреты обеих сестер. – Но Сигизмунд, уверенный в необходимости войны за Ливонию, считал бесполезным свойство с Иоанном. Прислав в Москву Маршалка Шимковича будто бы для договора о мире и сватовстве, он требовал Новагорода, Пскова, земли Северской, Смоленска! Посол уехал, и неприятельские действия началися тем, что Литовский Гетман Радзивил, вступив с войском в Ливонию, взял город Тарваст: осада продолжалась пять недель, а Воеводы Московские не успели дать ему помощи; собирались, готовились и не хотели слушаться друг друга, считаясь в старейшинстве между собою. Тогдашняя строгость Иоаннова не унимала зловредного местничества, и Государь, казня Вельмож за одно слово нескромное, за укорительный взгляд, за великодушную смелость, изъявлял снисхождение к сему старому обычаю. Подвиги нашего многочисленного войска состояли единственно в новом опустошении некоторых Ливонских селений. Князь Василий Глинский и Петр Серебряный ходили вслед за Радзивилом и побили его отряд близ Пернау. Литовцы, заняв важнейшие крепости, не остались в Тарвасте: Иоанн велел разорить сей город до основания.
Тогда Сигизмунд написал к Царю, что долго и бесполезно убеждав его оставить Ливонию в покое, он должен прибегнуть к оружию; что Радзивил, взяв Тарваст, выпустил оттуда Россиян; что виновник кровопролития даст ответ Богу; что мы еще можем отвратить войну, если выведем войско из бывших Орденских владений и заплатим все убытки, или Европа увидит, на чьей стороне правда и месть великодушная, на чьей лютость и стыд. Вручителю письма, Дворянину Корсаку, единоверцу нашему, Бояре объявили, что ему не будет оказано Посольской чести, ибо грамота Королевская исполнена выражений непристойных; а Царь отвечал Сигизмунду: «Ты умеешь слагать вину свою на других. Мы всегда уважали твои справедливые требования; но забыв условия предков и собственную присягу, ты вступаешься в древнее достояние России: ибо Ливония наша, была и будет. Упрекаешь меня гордостию, властолюбием; совесть моя покойна, я воевал единственно для того, чтобы даровать свободу Христианам, казнить неверных или вероломных. Не ты ли склоняешь Короля Шведского к нарушению заключенного им с Новымгородом мира? Не ты ли, говоря со мною о дружбе и сватовстве, зовешь Крымцев воевать мою землю? Грамота твоя к Хану у меня в руках: прилагаю список ее, да устыдишься… Итак, уже знаем тебя совершенно, и более знать нечего. Возлагаем надежду на Судию Небесного: он воздаст тебе по твоей злой хитрости и неправде». Тогда Иоанн, уже решительно оставив мысль быть Сигизмундовым зятем, искал себе другой невесты в землях Азиатских, по примеру наших древних Князей. Ему сказали, что один из знатнейших Черкесских Владетелей, Темгрюк, имеет прелестную дочь: Царь хотел видеть ее в Москве, полюбил и велел учить Закону. Митрополит был ее восприемником от купели, дав ей Христианское имя Мария. Брак совершился 21 Августа 1561 года; но Иоанн не переставал жалеть о Екатерине, по крайней мере досадовать, готовясь мстить Королю и за Ливонию и за отказ в сватовстве, оскорбительный для гордости жениха.
Однако ж, несмотря на взаимные угрозы, воинские действия с обеих сторон были слабы: Иоанн опасался Хана и держал полки в южной России, где предводительствовал ими Князь Владимир Андреевич; а Сигизмунд, расставив войско по крепостям в Ливонии, имел в поле только малые отряды, которые приступали к Опочке, к Невлю. Князь Петр Серебряный разбил Литовцев близ Мстиславля: Курбский выжег предместие Витебска; другие Воеводы из Смоленска ходили к Дубровне, Орше, Копысу, Шклову. Более грабили, нежели сражались. Пан Ходкевич, предводитель Сигизмундова войска в Ливонии, убеждал наших Воевод не тратить людей в бесполезных сшибках. Начались было и мирные переговоры: Вельможи Литовские писали к Митрополиту и Боярам Московским, чтобы они своим ходатайством уняли кровопролитие. Старец Макарий велел сказать им: «знаю только дела церковные; не стужайте мне государственными»; а Бояре объявили, что Иоанн согласен на мир, если Сигизмунд не будет спорить с нами ни о Ливонии, ни о титуле Царском. «Вспомните, – прибавили они, – что и самая Литва есть отчина Государей Московских! Для спокойствия обеих Держав Иоанн хотел жениться на вашей Королевне: Сигизмунд отвергнул его предложение – и для чего? Без сомнения в угодность Хану! Еще можно исправить зло; пользуйтесь временем!» Но 1563 год наступал; а Послы Королевские, ожидаемые в Москве, не являлись: уже не боясь Хана, который, вступив в южную Россию, бежал назад от города Мценска, Иоанн замыслил нанести важный удар Литве.
В начале зимы собралися полки в Можайске: сам Государь отправился туда Декабря 23; а с ним Князь Владимир Андреевич, Цари Казанские, Александр и Симеон, Царевичи Ибак, Тохтамыш, Бекбулат, Кайбула, и сверх знатнейших Воевод двенадцать Бояр Думских, 5 Окольничих, 16 Дьяков. Воинов было, как уверяют, 280000, обозных людей 80900, а пушек 200. Сие огромное, необыкновенное ополчение столь внезапно вступило в Литву, что Король, находясь в Польше, не хотел верить первой о том вести. Иоанн 31 Генваря (1563 г.) осадил Полоцк, и 7 Февраля взял укрепления внешние. Тут узнали, что 40000 Литовцев с двадцатью пушками идут от Минска: Гетман Радзивил предводительствовал ими; он дал слово Королю спасти осажденный город, но встреченный Московскими Воеводами, Князьями Юрием Репниным и Симеоном Палицким, не отважился на битву; хотел единственно тревожить Россиян и не успел ничего сделать: ибо город 15 Февраля был уже в руках Иоанновых. Тамошний начальник, именем Довойна, услужил Царю своею безрассудностию: впустил в крепость 20000 поселян и, через несколько дней выгнав их, дал случай Иоанну явить опасное в таких случаях великодушие. Сии несчастные шли на верную смерть и были приняты в Московском стане как братья: из благодарности они указали нам множество хлеба, зарытого ими в глубоких ямах, и тайно известили граждан, что Царь есть отец всех единоверных: побеждая, милует. Между тем ядра сыпались в город; стены падали, и малодушный Воевода, в угодность жителям, спешил заключить выгодный договор с неприятелем снисходительным, который обещал свободу личную, целость имения – и не сдержал слова. Полоцк славился торговлею, промышленностию, избытком: Иоанн, взяв государственную казну, взял и собственность знатных, богатых людей, Дворян, купцев: золото, серебро, драгоценные вещи; отправил в Москву Епископа, Воеводу Полоцкого, многих чиновников Королевских, шляхту и граждан; велел разорить Латинские церкви и крестить всех Жидов, а непослушных топить в Двине. Одни Королевские иноземные воины могли хвалиться великодушием победителя: им дали нарядные шубы и письменный, милостивый пропуск, в коем Иоанн с удовольствием назвал себя Великим Князем Полоцким, приказывая своим Боярам, сановникам Российским, Черкесским, Татарским, Немецким, оказывать им в пути защиту и вспоможение. Несколько дней он праздновал сие легкое, блестящее завоевание древнего Княжества России, наследия достопамятной Гориславы, знаменитого в истории наших междоусобий, и ранним подданством Литве спасенного от ига Моголов; послал всюду гонцов, чтобы Россияне изъявили благодарность Небу за свою новую славу, и писал к Первосвятителю Макарию: «се ныне исполнилось пророчество дивнаго Петра Митрополита, сказавшаго, что Москва вознесет руки свои на плеща врагов ея!»
Сигизмунд и Паны его были в страхе: многолюдный, укрепленный Полоцк считался главною твердынею Литвы, и Воеводы Московские, не теряя времени, шли на Вильну, к Мстиславлю, в Самогитию, опустошая землю невозбранно: ибо Гетман бежал назад в Минск. В сих обстоятельствах Вельможи Королевские писали к нашим Боярам, что послы их готовы ехать в Москву, если мы остановим неприятельские действия: а Царь, приказав ответствовать, что посла ни секут, ни рубят, дал Литве перемирие на шесть месяцев. Велев исправить укрепления, отслужив молебен в Софийском полоцком храме и вверив защиту города мужественному Князю Петру Шуйскому, Государь 26 февраля выступил оттуда со всем войском, распустил его в Великих Луках, спешил в столицу и встретил на пути Бояр, высланных к нему из Москвы с поздравлениями от сыновей и супруги. Мать Князя Владимира Андреевича, Евфросиния, великолепно угостила его в Уделе своего сына, в Старице. Царевич Иоанн ждал родителя в обители Св. Иосифа, Феодор в селе Крылацком. Тут был новый пир; а на другой день, 21 Марта, когда Государь ехал Крылацким полем, явился Боярин Траханиотов с вестию, что Царица родила ему сына Василия. У церкви Бориса и Глеба, на Арбате, стояло Духовенство с хоругвями и крестами: Иоанн благодарил Митрополита и Святителей за их усердные молитвы; Святители благодарили Царя за мужество и победу. Он шел в торжестве, от Арбата до соборов, среди Вельмож и народа, среди приветствий и восклицаний, точно так, как по взятии Казани… Не доставало народу единственно любви к Государю, а Государю счастия: ибо его нет для тиранов! – новорожденный Царевич жил только пять недель.
Не сомневаясь в продолжении войны с Литвою и надеясь на благоприятное действие своей знаменитой победы, Иоанн известил о том Хана; писал к нему с гордостию и с ласкою, напоминал искреннюю дружбу Менгли-Гирееву с великим Князем Иоанном, счастливую для обеих держав, и все худые успехи Крымских впадений, хотя вредных для России, но еще более для самой Тавриды, уже бедной людьми, оружием и конями; указывал на Христианские церкви в Казани, в Астрахани; хвалился усердием верных Князей Черкесских и Ногаев, сожалел о бессильной злобе Сигизмунда, наказанного стыдом, разорением земли его, и говорил: «Все Паны Королевские били челом Боярам нашим, да прекратим их бедствия. Бояре молили Князя Владимира Андреевича и вместе с ним пали к ногам моим, вещая: Государь, у вас одна Вера: на что более проливать кровь? Руки твои наполнились плена и богатства; ты взял лучший городу Сигизмунда. Недруг в слезах, и желает быть в твоей воле. Я не хотел оскорбить любезного мне брата и Вельмож добрых; мы возвратились!.. Угодно ли тебе быть моим другом?» Уже несколько лет Послы вероломного Девлет-Гирея сидели у нас в тесной неволе: их освободили в знак Государева к нему благорасположения; но Иоанн в письме своем не хотел его назвать братом, и вместо старинного челобитья приказал единственно поклон Хану. Несмотря на то, Посол Московский, Афанасий Нагой, должен был за тайну объявить Крымским Вельможам, что Царь удалил от себя Адашевых, Воеводу Шереметева и Дьяка Ивана Михайлова будто бы за их ненависть к Девлет-Гирею! Ум, ловкость нашего посла и богатые дары произвели действие: Хан склонился к миру, года два не тревожил России, и в знак своего доброжелательства открыл нам важную тайну. Мы видели, что могущественный Солиман неравнодушно смотрел на успехи Иоаннова величия и на гибель Царств Мусульманских: занимаясь другими, ближайшими опасностями и предприятиями важнейшими для его славолюбия, он медлил; наконец по внушению знатного беглеца Астраханского Князя Ярлыгаша, замыслил великое дело: соединить Дон с Волгою прокопом, основать крепость на Переволоке (там, где сии реки сближаются), другую на Волге, где ныне Царицын. Третью близ моря Каспийского, чтобы сперва утвердить безопасность своих Азовских владений, а после взять Астрахань, Казань, – стеснить, ослабить Россию. Главным орудием или действователем надлежало быть Хану: Султан велел ему идти к Астрахани, обещая прислать Доном пушки и людей, искусных в строении крепостей. Но, к счастию России, Девлет-Гирей страшился господства Турков еще более, нежели ее силы: не хотел уступить им Царств Батыевых, и стараясь доказать Султану невозможность успеха, известил Иоанна о сем опасном для нас предприятии, которое осталось тогда без исполнения. – Несмотря на дружелюбные сношения с Крымом, Государь ласкал постоянного врага Девлет-Гиреева, главу Ногайских владетелей, Исмаила, который оберегал Астрахань, уведомлял нас о вероломных замыслах ее Князей, тайных друзей Крыма, и, к сожалению Россиян, умер в 1563 году, оставив сына, Тин-Ахмата, начальником Орды Ногайской. Подобно отцу, сей Князь усердно искал Иоанновой милости.
Уже Польша, Дания и Швеция воевали за Ливонию; первые две хотели общими силами обуздать властолюбие Эрика: ибо Шведы отняли у Сигизмунда Пернау и Вейсенштеин, у датчан Леаль и Габзаль. Король Датский, Фридерик, желал союза Иоаннова: Царь утвердил с ним мир, как бы из великодушия уступив ему Эзель и Вик; но гордо отвергнул его посредничество в наших делах с Литвою, сказав: «мы сами умеем стоять за себя, и кроме Божией помощи не хотим никакой». Он велел отвести дворы купцам Датским в Новегороде и Нарве, с условием, чтобы и нашим отведены были такие же в Копенгагене и Визби, где Россияне издревле торговали. Гофмейстер Фридериков, Эллер Гарденберг, с другими чиновниками был в Москве для договора: Князь Ромодановский ездил в Данию для размена грамот. – В то же время и Шведы старались всячески улестить опасного Царя: Эрик извинялся в неучтивостях, оказанных нашим послам, и прислал шесть знатных сановников в Москву, чтобы заключить договор о Ливонии с самим Царем, а не с его Воеводами. Ответом была грубая насмешка. Иоанн велел сказать Эрику: «Когда я с двором своим переселюсь в Швецию, тогда повелевай и величайся – а не ныне! Я от тебя так далеко, как небо от земли». Шведы уступили. Государь велел Боярину Морозову, Наместнику Ливонскому, дать Королю особенное перемирие на семь лет по делам Ливонии; дозволил Эрику владеть Ревелем и всеми занятыми им городами в Эстонии, но оставил себе право, по истечении означенного срока, изгнать оттуда Шведов как хищников; то есть, Иоанн не мешал враждующим за Ливонию державам изнурять друг друга, готовый воспользоваться их ослаблением и присоединить ее к России. Увидим следствия, каких не ожидала его хитрая политика… Теперь будем говорить о внутренних происшествиях сего времени.
Второй брак Иоаннов не имел счастливых действий первого. Мария, одною красотою пленив супруга, не заменила Анастасии ни для его сердца, ни для Государства, которое уже не могло с мыслию о Царице соединять мысль о Царской добродетели. Современники пишут, что сия Княжна Черкесская, дикая нравом, жестокая душою, еще более утверждала Иоанна в злых склонностях, не умев сохранить и любви его, скоро простывшей: ибо он уже вкусил опасную прелесть непостоянства и не знал стыда. Равнодушный к Марии, Иоанн помнил Анастасию, и еще лет семь, в память ее, наделял богатою милостынею святые монастыри Афонские. Таким же образом Государь честил и память своего брата, Юрия, умершего в исходе 1563 года. Сей Князь, скудный умом, пользовался наружными знаками уважения, и неспособный ни к ратным, ни к государственным делам, только именем начальствовал в Москве, когда Царь выезжал из столицы. Но супруга его, Иулиания, считалась второю Анастасиею по своим необыкновенным достоинствам: она решилась оставить свет. Иоанн, Царица Мария, Князь Владимир Андреевич, Бояре и народ в глубоком молчании шли за нею от Кремля до Новодевичьего монастыря, где, названная во Инокинях Александрою, она хотела кончить дни свои в мире, не предвидя, что сей тронутый ее ревностным, Ангельским благочестием Царь, исполненный к ней – так казалось – любви и братской нежности, в порыве безумного гнева будет ее свирепым убийцею! Он желал, чтобы невестка его и в виде смиренной Монахини имела почести Царские: устроил ей в келиях пышный двор, дал сановников в услугу и богатые поместья во владение, как бы желая тем еще привязать ее к. суетам мира!
Еще прежде Иулиании, волею или неволею, постриглась мать Князя Владимира Андреевича честолюбивая Евфросиния, вместе с сыном заслужив гнев Царя по доносу Дьяка их, который за свои худые дела сидел в темнице. Государь призвал обвиняемых, Митрополита, Епископов: уличил – как сказано в летописи – мать и сына в неправде, но, уважив моление духовенства, из милосердия отпустил им вину. Тогда Евфосиния, оставив свет, заключилась в Воскресенском монастыре на Белеозере, куда проводили ее знатные дворские чиновники; а Князю Владимиру Иоанн дал новых Бояр, стольников и дьяков, взяв его собственных к себе в Царскую службу: то есть, окружил сего Князя надзирателями; между тем обходился с ним ласково, ездил к нему гостем в Старицу, в Верею, в села Вышегородские, чтобы пировать и веселиться. Еще внутренняя злоба таилась под личиною дружелюбия.
В последний день 1563 года скончался в глубокой старости знаменитый Митрополит Макарий, обвиняемый современниками в честолюбиии, в робости духа, но хвалимый за благонравие: не смелый обличитель царских пороков, но и не грубый льстец их. За несколько дней до смерти открывая душу пред людьми и Богом в грамоте прощальной, Макарий пишет, что, изнуряемый многими печалями, он несколько раз хотел удалиться от дел и посвятить себя житию молчальному или пустынному, но Царь и святители всегда неотступно убеждали его остаться. Сей Пастырь Церкви не был, кажется, спокойным зрителем Иоаннова разврата, предпочитая тишину пустыни блестящему сану Иерарха. Ревностный к успехам Христианского просвещения, он велел перевести Греческую Минею и прибавил к ней жития святых Российских, как древних, так и новейших, для коих собором 26 Февраля 1547 года уставил он службу и празднества: Новогородскому Архиепископу Иоанну, Александру Невскому, Савватию, Зосиме Соловецким и другим. Макарий велел также сочинить известную Степенную книгу, доведенную от Рюрика до 1559 года, и способствовал учреждению первой в Москве типографии. Европа уже около ста лет пользовалась счастливым открытием Гуттенберга, Фауста, Шеффера: Государи Московские слышали о том и хотели присвоить себе выгоду столь важную для успехов просвещения, им любезного. Великий Князь Иоанн III давал жалованье славному Любекскому типографщику Варфоломею; Царь Иоанн в 1547 году искал в Германии художников для книжного дела и, как вероятно, нашел их для образования наших собственных в Москве: ибо в 1553 году он приказал устроить особенный дом книгопечатания под руководством двух мастеров, Ивана Федорова, Диакона церкви Св. Николая Гостунского, и Петра Тимофеева Мстиславца, которые в 1564 году издали Деяния и Послания апостолов, древнейшую из печатных книг Российских, достойную замечания красотою букв и бумаги. В прибавлении сказано, что Макарий благословил Царя на благое дело доставить Христианам вместо неверных рукописей печатные, исправные книги, содержащие в себе и Закон Божий и службу церковную: для чего надлежало сличать древнейшие, лучшие списки, дабы не обмануться ни в словах, ни в смысле. Сие важное предприятие, внушенное Христианскою просвещенною ревностию, возбудило негодование многих грамотеев, которые жили списыванием книг церковных. К сим людям присоединились и суеверы, изумленные новостию. Начались толки, и художник Иван Федоров, смертию Макария лишенный усердного покровителя, как мнимый еретик должен был – вместе с своим товарищем Петром Мстиславцем – удалиться от гонителей в Литву. Хотя Московская типография, переведенная в Александровскую Слободу, еще напечатала Евангелие; но Царь уступил славу издать всю Библию Волынскому Князю Константину Константиновичу, одному из потомков Св. Владимира. Сей Князь, ревностный сын нашей Церкви, с любовию приняв изгнанника Ивана Федорова, завел типографию в своем городе Остроге; достал в Москве же (чрез Государственного Секретаря Литовского Гарабурду) полный список Ветхого и Нового Завета, сверил его с Греческою Библиею, присланною к нему от Иеремии, Патриарха Константинопольского, исправил (посредством некоторых Филологов) и напечатал в 1581 году, заслужив тем благодарность всех единоверцев. – Между достопамятными церковными деяниями Макариева времени заметим еще учреждение Полоцкой Архиепископии, в честь сего древнего Княжества и тамошнего знаменитого храма Софийского. Бывший Святитель Суздальский Трифон Ступишин, постриженник Св. Иосифа Волоцкого, муж добродетельный, но ветхий и недужный, в угодность Царю принял сан Полоцкого Архипастыря.
По кончине Макария все Епископы съехались в Москву, чтобы избрать нового Пастыря Церкви; но еще прежде того, исполняя волю Государеву, они Соборною грамотою уставили, что Митрополиты Российские должны впредь носить клобуки белые, с рясами и с херувимом, как изображаются на иконах Митрополиты Петр и Алексий, Новогородский Архиепископ Иоанн и Чудотворцы Ростовские Леонтий, Игнатий, Исаия. «Для чего, – сказано в сей грамоте, – для чего одни Святители Новогородские носят ныне белые клобуки, мы искали и не могли найти в писаниях. Да возвратится Митрополитам их древнее отличие! Да печатают также, подобно Архиепископам Новогородскому и Казанскому, все грамоты свои красным воском. Печать на одной стороне должна представлять образ Богоматери со Младенцем, а на другой руку Благословенную с именем Митрополита». Чрез несколько дней (24 Февраля 1564 г.) был избран в первосвятители Инок Чудова монастыря Афанасий, бывший Благовещенский Протоиерей и Духовник Государев. По совершении Литургии Владыки, сняв с Митрополита одежду служебную, возложили на него златую икону вратную, мантию с источником и белый клобук. Афанасий стал на Святительское место, выслушал приветственную речь Царя, дал ему благословение, и громогласно молил Всевышнего, да ниспошлет здравие и победы Иоанну. Он уже не смел, кажется, говорить о добродетели!
Глава II
Продолжение царствования Иоанна Грозного. г. 1563-1569
Переговоры и война с Литвою. Бегство Россиян в Литву. Измена Кн. Андрея Курбского. Переписка его с Царем. Нападение Литвы и Крымцев. Посольство В. Магисра Немецкого. Таинственный отъезд Иоаннов. Письмо Царя к Митрополиту и к народу. Ужас в Москве. Учреждение Опричнины. Вторая эпоха казней. Александровская Слобода. Монашеская жизнь Иоаннова. Иноземные любимцы Иоанновы. Великодушие Митрополита Филиппа. Третия эпоха убийств. Язва. Воинские действия и переговоры. Земская дума. Перемирие с Литвою. Дела Шведские. Важное предприятие Султана. Бедствия Турков. Сношения с Персиею. Дань Сибирская. Торговля. Посольства Английские. Замысел Иоаннов бежать в Англию. Злодей Бомелий.
Перемирие, данное Иоанном Сигизмунду, не мешало Россиянам и Литовцам нападать друг на друга. Первые малочисленными отрядами довершали завоевание Полоцкой области. Слуга Сигизмундов, Князь Михайло Вишневецкий, с толпами Козаков и Белогородских Татар опустошал уезды Черниговские, Стародубские: Князь Иван Щербатый, Северский Воевода, разбил его наголову. Послов Сигизмундовых долго ждали в Москве: наконец они приехали, 5 Декабря 1563 года, и следуя обыкновению, требовали от нас Новагорода, Пскова кроме всех завоеваний деда, отца Иоаннова и его собственных; а Бояре наши, также следуя обыкновению, ответствовали, что мы для надежного мира должны взять у Литвы не только Киев, Волынию, Подолию, но и Вильну, которая в древние времена принадлежала России. Они говорили о неправдах, лукавстве, спеси Короля, не хотящего именовать Иоанна Царем и замышляющего быть Государем Ливонии, где еще в XI веке основан Ярославом Великим город Юрьев и где Александр Невский огнем и мечем казнил своих подданных, Немцев, за их бунт и непослушание. «Так было, – заключили Бояре словом Государя, – так было до времен великого мстителя неправдам, моего деда; до славного родителя моего, обретателя древней нашей отчины, и до меня смиренного». Хотя с обеих сторон умерили требования; хотя мы соглашались уже не говорить о Вильне, Подолии, Больший, и дружелюбно уступали Сигизмунду Курляндию, желая единственно всей Полоцкой земли, чтобы заключить перемирие на 10 или 15 лет: однако ж послы не приняли сего условия. Иоанн изустно сказал им: «Если Король не хочет давать мне Царского имени, да будет его воля! Не имею нужды в титуле: ибо всем известно, что род мой происходит от Кесаря Августа; а данного Богом человек не отнимет». Такая генеалогия должна была удивить Послов: им без сомнения объяснили ее. Надобно знать, что Московские книжники сего времени может быть в угодность Иоаннову честолюбию призводили первого Князя Новогородского Рюрика от мнимого Прусса, Августова брата, который будто бы, оставив Рим, сделался Владетелем Пруссии. Послы не спорили о предках Рюриковых, но не хотели утвердить за ними ни Полоцкой области, ни Ливонии и выехали из Москвы 9 Генваря (1564 г.). Тогда Воеводы Московские немедленно выступили, Шуйский из Полоцка, Князья Серебряные-Оболенские из Вязьмы, чтобы действовать против Литвы: Государь велел им соединиться под Оршею, идти к Минску, к Новугородку Литовскому; назначил станы, предписал все движения. Но Князь Петр Шуйский, завоеватель Дерпта, славный и доблестию и человеколюбием, как бы ослепленный роком, изъявил удивительную неосторожность: шел без всякого устройства, с толпами невооруженными; доспехи везли на санях; впереди не было стражи; никто не думал о неприятеле – а Воевода Троцкий, Николай Радзивил, с двором Королевским, с лучшими полками Литовскими, стоял близ Витебска; имел верных лазутчиков; знал все, и вдруг близ Орши, в местах лесных, тесных, напал на Россиян. Не успев ни стать в ряды, ни вооружиться, они малодушно устремились в бегство, Воеводы и воины. Несчастный Шуйский заплатил жизнию за свою неосторожность. Одни пишут, что он был застрелен в голову и найден мертвый в колодезе; другие, что Литовский крестьянин изрубил его секирою. Из знатных людей пали еще два брата, Князья Симеон и Федор Палецкие. Литовцы взяли в плен Воеводу Захария Плещеева-Очина, Князя Ивана Охлябинина и несколько Детей Боярских, так что мы из двадцати тысяч воинов лишились менее двухсот человек: все другие ушли в Полоцк, оставив неприятелю в добычу обозы и пушки. Тело Шуйского с торжеством отвезли в Вильну, а пленников Российских представили больному Королю в Варшаве: он велел петь молебны и действием радости исцелился от недуга.
Впрочем сия победа не имела дальнейших счастливых следствий для Сигизмунда. Князья Оболенские стояли под Оршею: Радзивил не хотел сразиться с ними; желал единственно, чтобы они вышли из Королевских владений, и для того гонец Литовский с вестию о бедствии Шуйского нарочно был послан в Дубровну чрез такие места, где ему надлежало встретить Россиян: его схватили и привели к Воеводам нашим, которые, узнав, что случилось, действительно возвратились к Смоленску, но отмстив неприятелю огнем и мечом: выжгли селения от Дубровны до Кричева; взяли в плен множество земледельцев. Месяцев пять миновало в бездействии с обеих сторон: в Июле Полководец Иоаннов, Князь Юрий Токмаков, с малочисленною пехотою и конницею ходил из Невля к Озерищу в надежде завладеть сим городом. Сведав, что 12000 Литовцев идут из Витебска спасти осажденных, сей Воевода, известный мужеством, отпустил снаряд и пехоту на судах в Невль, с одною конницею встретил неприятеля и разбил его передовую дружину; но когда подошло главное войско Литовское, он должен был отступить, бесчеловечно умертвив взятых им пленников. Смоленский Воевода Бутурлин, предводительствуя Детьми Боярскими, Татарами, Мордвою, снова опустошил правый берег Днепра и вывел 4800 пленников обоего пола. Между тем Литовцы тревожили впадением область Дерптскую; а Козаки Сигизмундовы грабили купцев и Посланников Иоанновых на пути из Москвы в Тавриду. – Но скоро война сделалась важнее, по крайней мере для нас опаснее, от неожидаемой измены одного из славнейших Воевод Иоанновых.
Ужас, наведенный жестокостями Царя на всех Россиян, произвел бегство многих из них в чужие земли. Князь Димитрий Вишневецкий служил примером: усердный ко славе нашего отечества, и любив Иоанна добродетельного, он не хотел подвергать себя злобному своенравию тирана: из воинского стана в южной России ушел к Сигизмунду, который принял Димитрия милостиво как злодея Иоаннова и дал ему собственного медика, чтобы излечить сего славного воина от тяжкого недуга, произведенного в нем отравою. Но Вишневецкий не думал Лить кровь единоверных Россиян: тайно убеждаемый некоторыми Вельможами Молдавии изгнать недостойного их Господаря, Стефана, он с дружиною верных Козаков спешил туда искать новой славы и был жертвою обмана; никто не явился под знамена Героя: Стефан пленил Вишневецкого и послал в Константинополь, где Султан велел умертвить его. – Вслед за Вишневецким отъехали в Литву два брата, знатные сановники, Алексей и Гаврило Черкасские, без сомнения угрожаемые опалою. Бегство не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного: спасаться от мучителя, но горе гражданину, который за тирана мстит отечеству! Юный, бодрый Воевода, в нежном цвете лет ознаменованный славными ранами, муж битвы и совета, участник всех блестящих завоеваний Иоанновых, Герой под Тулою, под Казанью, в степях Башкирских и на полях Ливонии, некогда любимец, друг Царя, возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников. То был Князь Андрей Курбский. Доселе он имел славу заслуг, не имея ни малейшего пятна на сей славе в глазах потомства; но Царь уже не любил его как друга Адашевых: искал только случая обвинить невинного. Начальствуя в Дерпте, сей гордый Воевода сносил выговоры, разные оскорбления; слышал угрозы; наконец сведал, что ему готовится погибель. Не боясь смерти в битвах, но устрашенный казнию, Курбский спросил у жены своей, чего она желает: видеть ли его мертвого пред собою или расстаться с ним живым навеки? Великодушная с твердостию ответствовала, что жизнь супруга ей драгоценнее счастия. Заливаясь слезами, он простился с нею, благословил девятилетнего сына, ночью тайно вышел из дому, пролез через городскую стену, нашел двух оседланных коней, изготовленных его верным слугою, и благополучно достиг Вольмара, занятого Литовцами. Там Воевода Сигизмундов принял изгнанника как друга, именем Королевским обещая ему знатный сан и богатство. Первым делом Курбского было изъясниться с Иоанном: открыть душу свою, исполненную горести и негодования. В порыве сильных чувств он написал письмо к Царю: усердный слуга, единственный товарищ его, взялся доставить оное, и сдержал слово: подал запечатанную бумагу самому государю в Москве, на Красном крыльце, сказав: «от господина моего, твоего изгнанника, Князя Андрея Михайловича». Гневный Царь ударил его в ногу острым жезлом своим: кровь лилася из язвы: слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал. Иоанн оперся на жезл и велел читать вслух письмо Курбского такого содержания.
«Царю, некогда светлому, от Бога прославленному – ныне же, по грехам нашим, омраченному адскою злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному между самыми неверными владыками земли. Внимай! В смятении горести сердечной скажу мало, но истину. Почто различными муками истерзал ты Сильных во Израиле, вождей знаменитых, данных тебе Вседержителем, и Святую, победоносную кровь их пролиял во храмах Божиих? Разве они не пылали усердием к Царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками, Христиан чародеями, свет тьмою и сладкое горьким! Чем прогневали тебя сии предстатели отечества? Не ими ли разорены Батыевы Царства, где предки наши томились в тяжкой неволе? Не ими ли взяты твердыни Германские в честь твоего имени? И что же воздаешь нам, бедным? Гибель! Разве ты сам бессмертен? Разве нет Бога и правосудия Вышнего для Царя?.. Не описываю всего, претерпенного мною от твоей жестокости: еще душа моя в смятении; скажу единое: ты лишил меня святые Руси! Кровь моя, за тебя излиянная, вопиет к Богу. Он видит сердца. Я искал вины своей, и в делах и в тайных помышлениях; вопрошал совесть, внимал ответам ее, и не ведаю греха моего пред тобою. Я водил полки твои, и никогда не обращал хребта их к неприятелю: слава моя была твоею. Не год, не два служил тебе, но много лет, в трудах и в подвигах воинских, терпя нужду и болезни, не видя матери, не зная супруги, далеко от милого отечества. Исчисли битвы, исчисли раны мои! Не хвалюся: Богу все известно. Ему поручаю себя в надежде на заступление Святых и праотца моего, Князя Феодора Ярославского… Мы расстались с тобою навеки: не увидишь лица моего до дни Суда Страшного. Но слезы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся и мертвых: убитые тобою живы для Всевышнего: они у престола Его требуют мести! Не спасут тебя воинства; не сделают бессмертным ласкатели, Бояре недостойные, товарищи пиров и неги, губители души твоей, которые приносят тебе детей своих в жертву! – Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и явлюся с нею на суд Божий. Аминь. Писано в граде Вольмаре, в области Короля Сигизмунда, Государя моего, от коего с Божиею помощию надеюсь милости и жду утешения в скорбях».
Иоанн выслушал чтение письма и велел пытать вручителя, чтобы узнать от него все обстоятельства побега, все тайные связи, всех единомышленников Курбского в Москве. Добродетельный слуга, именем Василий Шибанов (сие имя принадлежит Истории) не объявил ничего; в ужасных муках хвалил своего отца-господина; радовался мыслию, что за него умирает. Такая великодушная твердость, усердие, любовь, изумили всех и самого Иоанна, как он говорит о том в письме к изгнаннику: ибо Царь, волнуемый гневом и внутренним беспокойством совести, немедленно отвечал Курбскому. «Во имя Бога всемогущего (пишет Иоанн), Того, Кем живем и движемся, Кем Цари Царствуют и Сильные глаголют, смиренный Христианский ответ бывшему Российскому Боярину, нашему советнику и Воеводе, Князю Андрею Михайловичу Курбскому, восхотевшему быть Ярославским владыкою… Почто, несчастный, губишь свою душу изменою, спасая бренное тело бегством? Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не хотел умереть от меня, строптивого Владыки, и наследовать венец Мученика? Что жизнь, что богатство и слава мира сего? Суета и тень: блажен, кто смертию приобретает душевное спасение! Устыдися раба своего, Шибанова: он сохранил благочестие пред Царем и народом; дав господину обет верности, не изменил ему при вратах смерти. А ты, от единого моего гневного слова, тяготишь себя клятвою изменников; не только себя, но и душу предков твоих: ибо они клялися великому моему деду служить нам верно со всем их потомством. Я читал и разумел твое писание. Яд аспида в устах изменника; слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобою гонения; но ты не уехал бы ко врагу нашему, если бы мы не излишно миловали вас, недостойных! Я иногда наказывал тебя за вины, но всегда легко, и с любовию; а жаловал примерно. Ты в юных летах был Воеводою и советником Царским; имел все почести и богатство. Вспомни отца своего: он служил в Боярах у Князя Михайла Кубенского! Хвалишься пролитием крови своей в битвах: но ты единственно платил долг отечеству. И велика ли слава твоих подвигов? Когда Хан бежал от Тулы, вы пировали на обеде у Князя Григория Темкина, и дали неприятелю время уйти восвояси. Вы были под Невлем с 15000 и не умели разбить четырех тысяч Литовцев. Говоришь о Царствах Батыевых, будто бы вами покоренных: разумеешь Казанское (ибо милость твоя не видала Астрахани): но чего нам стоило вести вас к победе? Сами идти не желая, вы безумными словами и в других охлаждали ревность к воинской славе. Когда буря истребила под Казанью суда наши с запасом, вы хотели бежать малодушно – и безвременно требовали решительной битвы, чтобы возвратиться в домы, победителями или побежденными, но только скорее. Когда Бог даровал нам город, что вы делали? Грабили! А Ливониею можете ли хвалиться? Ты жил праздно во Пскове, и мы семь раз писали к тебе, писали к Князю Петру Шуйскому: идите на Немцев. Вы с малым числом людей взяли тогда более пятидесяти городов; но своим ли умом и мужеством? Нет, только исполнением, хотя и ленивым, нашего распоряжения. Что ж вы сделали после с своим мудрым начальником Алексеем Адашевым, имея у себя войско многочисленное? едва могли взять Феллин: ушли от Пайды (Вейсенштейна)! Если бы не ваша строптивость, то Ливония давно бы вся принадлежала России. Вы побеждали невольно, действуя как рабы, единственно силою понуждения. Вы, говорите, проливали за нас кровь свою: мы же проливали пот и слезы от вашего неповиновения. Что было отечество в ваше царствование и в наше малолетство? Пустынею от Востока до Запада; а мы, уняв вас, устроили села и грады там, где витали дикие звери. Горе дому, коим владеет жена; горе Царству, коим владеют многие! Кесарь Август повелевал вселенною, ибо не делился ни с кем властию: Византия пала, когда Цари начали слушаться Эпархов, Синклитов и Попов, братьев вашего Сильвестра». Тут Иоанн описывает уже известные читателю вины бывших своих любимцев и продолжает: «Бесстыдная ложь, что говоришь о наших мнимых жестокостях! Не губим Сильных во Израиле; их кровию не обагряем церквей Божиих: сильные, добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников – и где же щадят их? Константин Великий не пощадил и сына своего, а предок ваш, святый Князь Феодор Ростиславич, сколько убил Христиан в Смоленске? Много опал, горестных для моего сердца; но еще более измен гнусных, везде и всем известных. Спроси у купцев чужеземных, приезжающих в наше Государство: они скажут тебе, что твои предстатели суть злодеи уличенные, коих не может носить земля Русская. И что такое предстатели отечества? Святые ли, боги ли, как Аполлоны, Юпитеры? Доселе Владетели Российские были вольны, независимы: жаловали и казнили своих подданных без отчета. Так и будет! Уже я не младенец. Имею нужду в милости Божией, Пречистыя Девы Марии и Святых Угодников: наставления человеческого не требую. Хвала Всевышнему: Россия благоденствует; Бояре мои живут в любви и согласии: одни друзья, советники ваши, еще во тьме коварствуют. – Угрожаешь мне судом Христовым на том свете: а разве в сем мире нет власти Божией? Вот ересь Манихейская! Вы думаете, что Господь Царствует только на небесах, Диавол во аде, на земле же властвуют люди: нет, нет! везде Господня Держава, и в сей и в будущей жизни. – Ты пишешь, что я не узрю здесь лица твоего Ефиопского: горе мне! Какое бедствие! – Престол Всевышнего окружаешь ты убиенными мною: вот новая ересь! Никто, по слову Апостола, не может видеть Бога. – Положи свою грамоту в могилу с собою: сим докажешь, что и последняя искра Христианства в тебе угасла: ибо Христианин умирает с любовию, с прощением, а не с злобою. – К довершению измены называешь Ливонский город Вольмар областию Короля Сигизмунда и надеешься от него милости, оставив своего законного, Богом данного тебе Властителя. Ты избрал себе Государя лучшего! Великий Король твой есть раб рабов: удивительно ли, что его хвалят рабы? Но умолкаю: Соломон не велит плодить речей с безумными: таков ты действительно: – Писано нашея Великия России в Царствующем граде Москве, лета мироздания 7072, Июля месяца в 5 день».
Сие письмо, наполненное изречениями Ветхого и Нового завета, свидетельствами историческими, богословскими толкованиями и грубыми насмешками, составляет целую книгу в подлиннике. Курбский ответствовал на оное с презрением: стыдил Иоанна забвением властительского достоинства, унижаемого языком бранным, суесловием жалким, непристойною смесию Божественных сказаний с ложью и клеветами. «Я невинен и бедствую в изгнании, – говорит он: – добрые жалеют обо мне: следственно не ты! Пождем мало: истина не далеко». Доселе можем осуждать изгнанника только за язвительность жалобы и за то, что он наслаждению мести, удовольствию терзать мучителя словами смелыми, пожертвовал добрым, усердным слугою: по крайней мере еще не видим в нем государственного преступника, и не можем верить обвинению, что Курбский хотел будто бы назваться Государем Ярославским. Но, увлеченный страстию, сей муж злополучный лишил себя выгоды быть правым и главного утешения в бедствиях: внутреннего чувства добродетели. Он мог без угрызеняя совести искать убежища от гонителя в самой Литве: к несчастию, сделал более: пристал ко врагам отечества. Обласканный Сигизмундом, награжденный от него богатым поместьем Ковельским, он предал ему свою честь и душу; советовал, как губить Россию; упрекал Короля слабостию в войне; убеждал его действовать смелее, не жалеть казны, чтобы возбудить против нас Хана – и скоро услышали в Москве, что 70000 Литовцев, Ляхов, Прусских Немцев, Венгров, Волохов с изменником Курбским идут к Полоцку; что Девлет-Гирей с 60000 хищников вступил в Рязанскую область…
Сия последняя весть изумила Царя: он ехал тогда на богомолье в Суздаль, всякой день ожидая новой шертной грамоты от Хана, который обещал ему и мир и союз. Грамота в самом деле была написана, и Посол Иоаннов Афанасий Нагой уже готовился к отъезду из Тавриды; но золото Сигизмундово все переменило: взяв его, Девлет-Гирей устремился на Россию, беззащитную, как он думал: ибо Король писал к нему, что Иоанн со всеми полками на Ливонской границе. Обманутый дружелюбными уверениями Хана, Царь действительно распустил наши полки украинские, так что в Рязани, осажденной Девлет-Гиреем, не было ни одного воина, кроме жителей. Она спаслася геройством двух любимцев Государевых, Боярина Алексея Басманова и сына его Федора, которые, находясь тогда в их богатом поместье на берегу Оки, первые известили Царя о неприятеле, первые вооружились с людьми своими, разбили несколько отрядов Ханских и засели в Рязани, где ветхие стены падали, но где ревность, неустрашимость сих витязей, вместе с увещаниями Епископа Филофея, одушевили граждан редким мужеством. Крымцы приступали днем и ночью без успеха: трупы их лежали грудами под стенами. Действие нашего огнестрельного снаряда не давало им отдыха и в стане. Узнав, что Иоанн в Москве, что Воеводы Федоров и Яковлев с Царскою дружиною уже стоят на берегу Оки, что из Михайлова, из Дедилова идет к ним войско – что смелые наездники Российские везде бьют Крымцев, приближаясь к самому их стану – Девлет-Гирей ушел еще скорее, нежели пришел; не дождался и своих отрядов, которые жгли берега Оки и Вожи. За ним не гналися; но Ширинский Князь его, Мамай, хотев долее грабить в селах Пронских, был разбит и взят в плен с 500 Крымцев; на месте легло их более трех тысяч. Чрез 6 дней все затихло: уже не было слуха о Крымцах. Иоанн, оставив Царицу и детей в Александровской Слободе, выезжал из Москвы к войску, когда Басмановы донесли ему о бегстве неприятеля: личная доблесть и слава сих двух любимцев еще более оживляла его радость: он дал им золотые медали.
Внимание Государя обратилось на Полоцк: и там мы торжествовали, к стыду изменника нашего и гордого Пана Радзивила, главного Воеводы Сигизмундова. Они расположились станом в двух верстах от города, между реками Двиною и Полотою, в надежде, что возьмут его одним страхом или изменою; но Воевода Полоцкий, Князь Петр Щенятев, ответствовал на их предложения выстрелами, а бывший Царь Казанский Симеон, Князья Иван Пронский, Петр и Василий Оболенские-Серебряные спешили из Великих Лук зайти неприятелю в тыл: ибо Государь, угадывая действие советов Курбского, заблаговременно усилил полки свои на сей границе. Радзивил не имел доверенности к Курбскому (такова участь предателей!): вопреки его мнению, опасался битвы, в коей мог быть между двумя огнями; 17 дней стоял праздно; терял людей от выстрелов из крепости – и 4 Октября перешел на Литовскую сторону Двины. Сего не довольно: Воеводы Московские, изгнав Литовцев, взяли приступом (6 Ноября) Озерище, и славный победитель Шуйского не сделал ни малейшего движения, чтобы спасти сию важную крепость. – В ту же осень Князь Василий Прозеровский отразил Литовцев от Чернигова и, взяв знамя Пана Сапеги, заслужил Царскую милость. Зимою Курбский с 15000 воинов Королевских входил в область Великих Лук; но подвиги его состояли единственно в разорении сел, даже монастырей. «То сделалось против моей воли, – писал он к Иоанну: – нельзя было удержать хищных ратников. Я воевал мое отечество так же, как Давид, гонимый Саулом, воевал землю Израильскую».
К общему распоряжению Короля принадлежали и действия Воевод его в Ливонии: чтобы способствовать успехам Хана и Радзивила, он велел Князю Александру Полубенскому и другим своим Воеводам идти к Мариенбургу, Дерпту, в область Псковскую. Было несколько дел, довольно важных: в одном храбрый витязь Иоаннов Василий Вешняков разбил неприятеля, а в другом Князь Иван Шуйский и меньший Шереметев уступили ему поле битвы. Литовцы не могли овладеть Красным; не могли защитить окрестностей Шмильтена, Вендена, Вольмара, Роннебурга, откуда мужественный Воевода Бутурлин вывел 3200 пленников: за что Государь прислал к нему золотые медали. Силы Литовцев были разделены: они сражались и с нами и с Шведами; последние же на сухом пути с ними, а на море с Датчанами, за спорную Ливонию, к удовольствию Иоанна, который внутренне смеялся над их усилиями, считая себя единственным ее законным Государем.