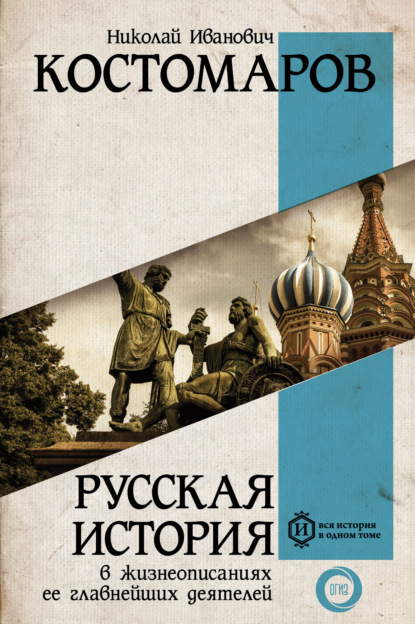По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей
Жанр
Серия
Год написания книги
1885
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Город Дербент в XVIII столетии. С гравюры Оттенса 1726 г.
Распад Персии начинался уже с ее восточных пределов. Поднялись против власти персидского шаха авганы, данники Персии, управляемые наместниками шаха. Некто Миривес, бывший в этой земле собирателем даней, следуемых персидскому государю с покоренного народа, в 1710 году попытался сделаться независимым. Он умертвил грузинского князя Георгихана, посланного от шаха наместником в Авганистан, и утвердился в авганской столице Кандагаре. Персия была не в состоянии принудить его к повиновению. Он умер в 1717 году независимым властителем. Его сын Мир-Махмуд наследовал отцу, умертвив своего дядю. Он захватил провинцию Кирман и привлек на свою сторону всех последователей секты суннитов в Персии, враждебной шиитскому толку магометанства, которого держался двор и исстари исповедовали все персидские шахи, включительно до Гуссейна IV. В государстве началось всеобщее междоусобие под знаменем двух магометанских вероисповеданий. Гуссейн поручил свое войско Луфти-Али-хану, брату своего визиря Атемат-Булета. Этот полководец действовал удачно против мятежников, но враги нашли способ очернить перед малоумным шахом и визиря, и его брата-полководца. Шах Гуссейн приказал своему визирю выколоть глаза, а Луфти-Али-хана посадить в тюрьму. Тогда Мир-Махмуд, не имея против себя опытного и даровитого врага, повел свои дела так удачно, что собрал более 60 000 войска, двинулся на столицу Персии Испагань и принудил шаха Гуссейна признать себя великим визирем, начальником всего персидского войска и настоящим правителем государства. Униженный таким образом, Гуссейн отрекся от престола, назначив своим преемником одного из своих сыновей – Тохмас-мирзу.
Из Кандагара подан был сигнал: за Мир-Махмудом начали возмущаться правители других провинций. Взбунтовались лезгины, народ, живший в Кавказских горах и плативший ежегодную дань Персии. Лезгинский владелец Дауд-бек напал на Шемаху; лезгины и их союзники казы-кумыки разорили и разграбили город, перебили и обобрали торговавших там русских купцов, награбили у них товаров ценой на полмиллиона. Богатейший русский купец Евреинов разорился тогда вконец. В то же время грузинский князь Вахтанг, незадолго перед тем принявший магометанство в угоду шаху, затевал также освободиться от персидской власти и искал содействия России. Он обращался к астраханскому губернатору Волынскому, уверял, что отрекся от Христа поневоле, притворно, и теперь снова желает обратиться к христианству, поступив под власть русского царя. Вахтанг уговаривал русское правительство воспользоваться крайним положением Персии и, со своей стороны, обещал русским 40 000 войска для содействия против Персии. Кроме обиды, нанесенной русским купцам в Шемахе, Петр был недоволен тем, что караван русских купцов, возвращавшийся из Китая, был разграблен на дороге хивинскими татарами, которые находились в союзе с Мир-Махмудом.
Город Терки в XVIII столетии
Петр увидел, таким образом, превосходный случай вмешаться в персидское дело под предлогом защищать законную верховную власть, потрясенную Мир-Махмудом, и спасти Персию от совершенного распада, так как после отречения Гуссейна молодой и неопытный Тохмас-шах был государем только по имени. Авганы и их союзники курды опустошали государство. Вдобавок Турция имела виды овладеть Персией. Даже самой государственной религии в Персии грозила беда: лезгины и авганы были сунниты, курды – огнепоклонники.
После сильных понуждений со стороны астраханского губернатора Волынского, решив идти в поход, русский государь хотел предупредить Турцию, чтобы она не воспользовалась разложением Персидского государства и не овладела персидскими областями: это было бы страшным для России событием, оно усилило бы издавна враждебную России державу, всегда готовую ей вредить. В начале 1722 года Петр прибыл в Москву и оттуда приказал снаряжать на Волге суда для перевозки войска к Каспийскому морю. В мае государь вместе с Екатериной отправился в путь водой по Москве-реке и Оке. В Нижнем он праздновал день своего рождения (30 мая), был великолепно угощаем богатейшим из русских промышленников Строгоновым, а потом из Нижнего отправился вплоть до Астрахани, останавливаясь на короткое время в поволжских городках для их осмотра. Между тем турецкий двор, узнав о намерении русского государя, предусмотрел с его стороны умысел завоевать и присоединить к своим владениям области шаха и прислал к Петру в Астрахань грамоту с увещанием оставить предприятие. Петр отвечал, что идет в Персию не завоевателем, а союзником шаха, чтобы избавить его от мятежников и принудить Мир-Махмуда покориться своему законному государю. 18 июля Петр с пехотой в числе 22 000 и с 6000 матросов, пустился на судах по Каспийскому морю по направлению к Дербенту, а конница шла туда же сухопутьем (регулярной русской конницы было 9000, кроме того, 40 000 казаков и калмыков и 30 000 татар).
Петр разослал по сторонам манифест ко всем, считающимся подданными шаха, называл себя союзником их повелителя и требовал от них мирного подчинения, объявляя в то же время, что он строго запретил русскому войску всякие неприязненные поступки над персидскими подданными, покорными своему государю. 12 августа Петр прибыл в Тарки. Тамошний владелец, или шевкал, как он титуловался, по имени Адель-Гирей, считавшийся данником шаха, принимал Петра и Екатерину униженным образом, хотя внутренне был очень недоволен прибытием непрошенных союзников. Хуже поступил другой данник шаха, утимишский султан Мугаммед. Петр отправил к нему трех донских казаков – требовать покорности; султан приказал побить их и со своими силами ударил на русское войско, но русские отбили его, разорили его столицу Утимиш, пожгли и пограбили его владения; сам Петр в возмездие за трех своих убитых казаков приказал побить 21 пленника, затем целую толпу других пленников отправил к утимишскому султану с обрезанными носами и ушами.
Сдача города Дербента 23 августа 1723 г. Наиб города подносит городские ключи Петру I
23 августа царь подошел к Дербенту; комендант его, называемый по-персидски «наиб», вышел навстречу к царю с серебряными городскими ключами и сдал город. Петр простоял здесь до сентября; приближалась осень; подвоз припасов по Каспийскому морю становился затруднительным; сообразив это, Петр оставил в Дербенте гарнизон под начальством полковника Юнкера, а сам повернул назад к Астрахани и на возвратном пути на реке Сулаке заложил крепость, назвав ее крепостью Св. Креста. Из Астрахани Петр выслал для дальнейших военных действий в Персии генерал-майора Матюшкина в Баку, а полковника Шипова – к Рящу, сам же, пробыв некоторое время в Астрахани, уехал в Москву. 13 декабря он имел торжественный въезд в старую русскую столицу. Его склонность к торжественным праздникам и к риторическим восхвалениям своих подвигов находила себе желанную пищу в том представлении, что он завоевал город, построение которого приписывали Александру Македонскому. В Москве царь пробыл до весны и накануне своего отъезда в Петербург собственноручно сжег свой деревянный дворец в Преображенском. Он сказал бывшему при этом голштинскому герцогу: «Здесь задумал я впервые войну против Швеции, пусть вместе с этим домом исчезнет всякая мысль о вражде с нею, пусть она будет вернейшею союзницею моей империи!»
Памятник Петру I в Дербенте
Отряды, которым Петр поручил окончание военных действий в Персии, исполнили свое поручение хорошо. Шипов утвердился в Ряще. Персидские власти были не рады чужеземцам и именем шаха требовали, чтобы русские выходили из города; Шипов не уходил под разными предлогами и достоял до весны 1723 года. За это время туземцы до того невзлюбили пришельцев, что в марте, когда Шипов, отправив часть своего отряда на судах, остался с малочисленными силами, напали на него с оружием в караван-сарае. Русские отбили персиян, несмотря на то что последних было, может быть, в десять раз больше. И другой посланный с отрядом в персидские владения, Матюшкин, прибыв в Баку летом 1723 года, встретил совершенное нежелание принимать русских. Персияне хотели воспрепятствовать высадке русского войска на берег, но Матюшкин отбил их и принудил город к сдаче. Впрочем, действия Матюшкина и Шипова не имели важных последствий, потому что и без этих дел 12 сентября 1723 года присланный от Тохмас-шаха посол Измаил-бек в Петербурге заключил от имени своего государя союзный договор с русским императором: русский государь обещал со стороны России оказывать шаху помощь против бунтовщиков, а шах – для возможности содержать войско, которое император пошлет ему против мятежников, уступил России города Дербент и Баку с побережьем Каспийского моря, заключающим провинции Гилян, Мазандеран и Астрабад. Договор этот был ратифицирован русскими послами, отправленными в Персию в апреле 1724 года. Таким образом, почти без войны, воспользовавшись обстоятельствами, Петр приобрел для России полосу южного края, богатого различными произведениями, и тогда же русский государь начал думать о приглашении христианских поселенцев в новоприобретенный край. Этими поселенцами, по предположениям Петра, должны были быть армяне, которые давно уже побуждали русского государя к овладению Прикавказским краем. В начале 1724 года началось переселение армян из турецких владений, но оно шло довольно медленно, потому что турки неохотно выпускали их из своих областей. Приобретение Прикаспийского края не осталось без неудовольствия со стороны Турции. Сначала великий визирь в сношениях с русским резидентом Неплюевым долго твердил, что Порта одна имеет полное право овладеть Персией, тем более что Мир-Махмуд и лезгинский владетель Дауд-бек признали над собой верховное первенство турецкого падишаха. Турки между тем успели овладеть Тифлисом. Английский посланник старался вооружить Турцию против России, а французский, Дебонак, держал сторону России и пытался не допустить до войны. В январе 1724 года дело повернулось так, что можно было со дня на день ожидать объявления России войны, и Неплюеву приходилось уезжать из Константинополя. Но французский посол настроил визиря так, что тот сам предложил французскому послу быть посредником в переговорах с русским резидентом. Дело, однако, потянулось еще на полгода. Пошли споры, толки. По известию Неплюева, французский посол начал было склоняться на сторону Турции, но 12 июня 1724 года все уладилось в пользу России: порешили оставить Шемаху под владением турецкого данника, лезгинского князя Дауд-бека, а пространство от Шемахи до Каспийского моря разделить между Россией и Дауд-беком, так что последнему отдавалась меньшая часть этого пространства, чем России. Петр настаивал, чтобы Турция не воспрещала своим христианским подданным, армянам и грузинам, переходить в новоприобретенные от Персии провинции, обещая за это не воспрещать и магометанам перехода в Турцию. Несчастный грузинский царь Вахтанг, бывший поневоле и по слабохарактерности мусульманином, возвратился к христианству, но его начали теснить в одно время и турки, и персияне; явился претендентом ему другой грузинский князь, владелец Кахетии. Вахтанг вынужден был покинуть свое царство и уехать в Россию на вечное житье.
Экспедиция Петра в Персию имела важное значение в русской истории. Она была начальным шагом к тому движению России на юго-восток, которое, то останавливаясь, то снова возобновляясь, впоследствии привело Россию к приобретению закавказских грузинских земель и всего Кавказского хребта. Петр, думая сделать из России морскую державу и открыть ей путь к занятию подобающего ей места в ряду европейских держав, в то же время понимал, что как география, так и история наметили ей и другую дорогу – дорогу на Восток, где Россия, получая от Запада плоды европейской цивилизации, могла в собственной переработке сообщать их восточным народам, стоявшим в сравнении с нею на меньшей степени культурного развития.
В отношениях к западным державам важнейшее дело этого времени было заключение в феврале 1724 года оборонительного союза со Швецией. После продолжительной войны оба государства вступили в самую искреннюю дружбу между собой. Это важное дело совершено старанием русского посла в Стокгольме Бестужева и отчасти министра голштинского Бассевича, поставившего своего герцога снова в добрые отношения к Швеции. Перед этим временем Петр, с целью сделать шведского короля уступчивее, вознамерился попугать его и пустить свой флот в Балтийское море, но герцог написал к Бассевичу, своему послу, бывшему тогда в Стокгольме, письмо, в котором выражался, что лучше откажется от всяких прав на шведскую корону, чем купит ее ценой шведской крови. Бассевич показал это письмо шведскому министру Горну, главному недоброжелателю герцога, и тронул Горна до того, что тот изменил свои чувства к племяннику Карла XII. Состоялся такой договор Швеции с Россией: обе державы обязывались поддерживать друг друга военной силой, сухопутной и морской, и не заключать ни с кем договоров, противных этому союзу. Голштинский герцог отказывался от всяких притязаний на шведский престол при жизни тогдашнего короля и его прямых потомков, а Швеция вместе с Россией обещала добиваться утверждения за ним его герцогских наследственных владений. Обе державы постановляли, кроме того, не допускать внутренних беспорядков в Польше, а поддерживать ее старинную вольность и избирательное правление. Это последнее условие определило на долгое время взгляд на политику, которую должны были соблюдать соседи в отношении к Польской республике; соседям выгодно было поддерживать старинную польскую шляхетскую вольность, потому что такой государственный строй вел Польшу рано или поздно к гибели и давал надежды на возможность сделать приобретение в эпоху неизбежного падения Польской республики. С французским двором Петр последние годы своего царствования находился в дружелюбных отношениях; у Петра было даже намерение отдать одну из своих дочерей за малолетнего французского короля, но этот план не удался, потому что регент Франции постарался дать королю другую невесту, малолетнюю испанскую инфантину, которой, однако, не суждено было стать французской королевой. С Францией соединяло Россию еще обоюдное участие в судьбе проживавшего во Франции претендента на английский престол Иакова Стюарта, к которому Петр благоволил, тем более что с тогдашним английским королем Георгом у него уже несколько лет кряду были натянутые отношения. Но дело претендента не довело Россию ни до каких предприятий в его пользу, главным образом оттого, что его постоянная союзница и покровительница, Франция, сочла за лучшее примириться с королем Георгом, ограничив свои отношения к претенденту только одними любезностями. При посредстве Франции, Петр был уже готов помириться и подружиться с английским королем, однако не успел этого сделать при своей жизни. Летом 1723 года Петр в сопровождении своих вельмож ездил морским путем в Рогервик и положил там основание длинного мола с закрытой дорогой наверху и с батареей. У государя тогда рождалось желание перенести туда и свой военный порт, так как в Кроншлоте замечалась большая примесь пресной воды, способствовавшая скорой порче кораблей. В Рогервике море образует большую бухту, окруженную отвесными скалами, и до того широкую, что в ней могло вместиться до 1000 больших судов. Она была очень глубока и не принимала в себя отнюдь пресных вод. По возвращении из Рогервика в августе 1723 года, Петр обозревал в Крондштадте флот и любовался своим делом, совершенным им с любовью в течение всей своей жизни. Весь флот в 1723 году состоял из 24 кораблей и 5 фрегатов, на нем было 1730 орудий и до 12 500 человек экипажа. В это время Петр вспомнил о том небольшом ботике, на котором в молодости он начал учиться плаванию по Яузе и по северным русским озерам. Петр приказал привести его в Петербург, поставил его в Кронштадте между кораблями, нарек Дедушкой русского флота и потом с торжеством перевез в Петербургскую крепость, где назначил для хранения как национальную святыню. Это событие послужило поводом к торжественному многодневному празднеству, сопровождавшемуся и пальбой из пушек, и фейерверками, и обильными попойками.
Государь чувствовал, что силы его крепкой натуры подламывались, он постепенно опускался, сыновей у него не было, да если бы и были – объявленный им манифест о будущем порядке престолонаследия разрушал всякие права рождения и давал царствующему государю право назначать себе кого угодно преемником. Внука своего, сына несчастного царевича Алексея, Петр явно недолюбливал: вероятно, ему приходило на ум и то, что если со временем этот внук станет царем, то по родительской связи его окружат сторонники старых русских порядков, и партия, враждебная преобразованиям, поднимет голову. Кажется, уже тогда у Петра блеснула мысль передать после себя престол своей жене Екатерине. Правда, этого нигде не высказал Петр прямо, но такое предположение можно удобно вывести из его тогдашних поступков. Весной 1724 года Петр задумал короновать ее. Она носила уже титул императрицы, но только по мужу, как законная супруга императора. Петр захотел дать этот титул ее особе, независимо от брака. В манифесте, изданном по этому поводу, Петр извещал целый свет, что Екатерина была его постоянной помощницей в государственных делах, и признавал за ней какие-то особенно важные услуги, оказанные во время прутского похода. Коронование Екатерины должно было происходить не в Петербурге, но в Москве, не перестававшей в глазах русского народа быть законной столицей и центром национального единства. 7 мая 1724 года совершилось в московском Успенском соборе это коронование государыни с большим торжеством. Обряд совершал новгородский митрополит, а псковский епископ Феофан Прокопович, самый близкий к Петру из духовных сановников, произнес тогда речь, понравившуюся государю. Петр собственноручно возложил на Екатерину корону. Несколько дней после того поили и угощали народ, а потом продолжительное время отправлялись при дворе праздники, маскарады и попойки. Событие было новое для России: до сих пор ни одна из русских цариц не удостоилась такой публичной чести, кроме Марины Мнишек, о которой в памяти народной осталось не отрадное воспоминание. Как бы в свидетельство того, что Петр готовил Екатерине власть, равную своей собственной, он поручил ей вместо себя пожаловать графское достоинство Петру Андреевичу Толстому.
Фейерверк в Москве по случаю коронации Екатерины I 7 мая 1724 г. С современной гравюры
Коронование Екатерины порождало разные предположения о престолонаследии. Одни думали, что, короновав свою супругу, Петр намеревается объявить ее после себя преемницей, другие делали предположения, что Петр предоставит престол одной из дочерей, за неимением от Екатерины детей мужского пола. Большинство русских расположено было в пользу внука Петра, малолетнего сына царевича Алексея. Сам Петр, как видно, колебался: он то оказывал расположение к внуку, то как будто не хотел знать его. Замечали тогда, что характер Петра менялся. Он постоянно имел задумчивый вид, часто искал уединения, с ним боялись заговаривать о делах, когда он оказывался угрюмым. Иногда он требовал к себе священника, иногда доктора, а иногда вдруг по-старому предавался разгулу и окружал себя шутами и членами всепьянейшего собора. Среди праздников и веселья, господствовавшего при дворе после коронования Екатерины, Россия представляла совсем непраздничный вид. Повсюду раздавались жалобы на бедность, недавние неурожаи произвели большую скудость необходимых средств к жизни, хлебные магазины, которые давно уже приказал устроить царь по всей России, существовали только на бумаге: на самом деле никто не спешил исполнять в этом повеление своего государя. По улицам городов и по большим дорогам сновали толпы нищих, хотя государь много раз уже приказывал, чтобы в его царстве не было нищих, и под угрозами пеней и суровых наказаний запрещал своим подданным раздавать милостыню. Голодные пускались на грабежи и убийства; около самого Петербурга бродили разбойничьи шайки. Казенные недоимки все более и более возрастали; в военной коллегии и в адмиралтейств-коллегии совсем недоставало денег на содержание войска и флота. Между тем тягости народу не облегчались, продолжали переселять русских людей в ненавистный для них Петербург, а множество неоплатных должников казне отправляемо было на тяжелую работу в Рогервик и Кронштадт. В то время, когда при дворе отправляли маскарады и веселились, в народе слышны были проклятия, за которые неосторожных тащили в Тайную канцелярию и предавали варварским мукам.
Петр с Екатериной возвратился из Москвы в Петербург, готовились устраивать новое торжество, долженствовавшее совершиться через полгода, – обручение молодого голштинского герцога, родного племянника Карла XII, с дочерью Петра и Екатерины, цесаревной Анной Петровной. Петр между тем неусыпно занимался своими обычными разнообразными делами, переходя от усиленных работ к своим обычным забавам. Так, в конце августа он присутствовал при торжестве освящения церкви в Царском Селе. Пиршество после этого продолжалось несколько дней, выпито было до трех тысяч бутылок вина. После этого пира государь заболел, пролежал в постели шесть дней и едва только оправился – как уехал в Шлиссельбург и там снова устроил пиршество, празднуя годовщину взятия этой крепости. Из Шлиссельбурга Петр поехал на олонецкие железные заводы, выковал там собственноручно полосу железа в три пуда весом, оттуда поехал в Новгород, а из Новгорода – в Старую Русу, осматривал в этом городе соляное производство. Из Старой Русы государь повернул к Ладожскому каналу; Петр был очень доволен работами, происходившими тогда под начальством Миниха. В предыдущие пять лет едва вырыто было только на 12 верст канала и число рабочих простиралось до 20 000 человек, при Минихе же вырыто было в течение одного года уже 5 верст. Миних надеялся до следующей зимы вырыть еще 7 верст, у него было, кроме 2900 человек солдат, вольнонаемных рабочих только до 5000. Рытье кубической сажени земли при Минихе стоило 60 копеек, тогда как прежде оно обходилось в один рубль 50 копеек, вообще, по расчету Миниха, верста канала с деревянными постройками, которыми укреплялись стены канала, должна была обходиться в 7500 рублей, тогда как прежде одни земляные насыпи по смете, представленной государю, обходились в 10 000. В конце октября Петр возвращался в Петербург водой, но потом, раздумав, намеревался плыть в Систербек, чтоб осмотреть учрежденный там литейный завод. Приближаясь в своем плавании к селению Лахте, недалеко от устья Невы, государь увидел судно с солдатами и матросами, плывшее из Кронштадта и носимое во все стороны ветром и непогодой. На глазах государя это судно стало на мель. Петр не утерпел, велел плыть к судну, бросился по пояс в воду и помогал вытаскивать судно с мели, чтобы спасти находившихся на нем людей. В глазах Петра несколько человек, работавших вместе с ним, были унесены водой. Царь проработал целую ночь в воде и успел спасти жизнь двадцати человек. Но утром он почувствовал лихорадку, отложил свое намерение посетить систербекские заводы, а поплыл в Петербург.
Тогда совершилось событие, которое способствовало нравственному потрясению Петра. Был у Екатерины любимец и правитель канцелярии, заведовавший ее вотчинами, – Виллиам Монс, брат той самой Анны Монс, которая некогда была любовницей Петра. Он находился в большой доверенности, а его сестра Матрена Балк была любимой фрейлиной у Екатерины. Пользуясь такой близостью к государыне, брат и сестра зазнались и вообразили, что они через то стали могущественными особами. Виллиам Монс надменно принимал всяких просителей, хвастал, что он своим ходатайством у государыни может всякому сделать многое. Петр стал обвинять и брата, и сестру в том, что, управляя доходами Екатерины, они ее обкрадывают, но это был только предлог, на самом деле Петр приревновал Монса к императрице. Вскоре после своего возвращения в Петербург, Петр проводил вечер с Монсом и в 9 часов вечера отпустил его и других бывших с ним придворных, сказав, что идет в свою спальню. Ничего не подозревая для себя худого, Монс прибыл домой, разделся и стал курить трубку. Вдруг к нему входит страшный генерал-майор Андрей Иванович Ушаков, начальник Тайной канцелярии, требует от него шпагу и ключи, потом опечатывает его бумаги и приказывает ехать с собой. Ушаков привез его в свой дом. Монс увидел там Петра. «И ты здесь», – сказал Петр, бросив на него презрительный взгляд. Монса арестовали и на другой день подвергли допросу в канцелярии собственного императорского кабинета. Монс опять увидел здесь государя и пришел в такое ослабление сил, что лишился чувств, ему принуждены были пустить кровь. На следующий день повели его снова к допросу и стали угрожать пыткой. Монс, чтобы не допустить себя до мучений, сознался, что обращал в свою пользу оброки с некоторых вотчин императрицы и взял с крестьянина взятку, обещая сделать его стремянным конюхом императрицы. Монса препроводили в крепость (26 октября), а потом высший суд 14 ноября приговорил его к смертной казни. Рассказывают, что царь сам приехал к нему проститься. «Жаль тебя мне, очень жаль, да делать нечего, надобно тебя казнить», – говорил ему Петр. Императрица осмелилась было ходатайствовать перед Петром о пощаде виновных, но Петр пришел тогда в такую ярость, что на глазах государыни разбил дорогое зеркало. «Видишь ли, – сказал он многозначительно, – вот прекраснейшее украшение моего дворца. Хочу – и уничтожу его!» Екатерина поняла, что эти слова заключали намек на ее собственную личность, но с вынужденной сдержанностью сказала государю: «Разве от этого твой дворец стал лучше?» Петр все-таки не исполнил просьбы жены. 16 ноября в 10 часов утра Монса вывезли с сестрой в санях в сопровождении приготовлявшего его к смерти пастора. Монс бодро кланялся на обе стороны, замечая своих знакомых в огромной толпе народа, отовсюду согнанного смотреть казнь. Монс смело взошел на эшафот, снял шубу и выслушал прочитанный секретарем суда приговор, которым обвиняли его во взятках, поклонился народу и положил голову на плаху под удар топора. Его сестру Матрену Балк наказали одиннадцатью ударами кнута и сослали в Тобольск. Домашний секретарь Столетов после четырнадцати ударов кнутом был отправлен на десятилетнюю каторжную работу в Рогервик; пострадал тогда и дворцовый служитель Иван Балакирев, потешавший Петра и весь двор остроумными шутками. Ему дали шестьдесят ударов батогами и сослали в Рогервик на три года, поставив ему в вину, что он, «отбывши инженерного учения», при посредстве Монса втерся во дворец и занимался там вместо дела шутовством. На следующий день после казни Монса Петр катался с Екатериной в коляске. Он приказал проехать мимо столба, на котором была воткнута голова казненного. Екатерина не показала никакого вида смущения и, как говорят, посмотрев прямо в глаза царю, произнесла: «Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности!»
Вслед за Монсом раздражили Петра Меншиков, а потом кабинет-секретарь Макаров; на последнего донесли, что он не доводил до сведения государя о многих важных делах, возникших по фискальским доношениям, и представлял несправедливые доклады по челобитным о деревнях, взяв с просителей взятки. Царь отрешил Меншикова от должности президента военной коллегии. Эти неприятности усиливали болезненное состояние здоровья Петра, которое уже пострадало после приключения на Лахте. Между тем 24 ноября, в день именин государыни, совершено было обручение голштинского герцога с цесаревной Анной. Цесаревна при обручении отказалась за себя и за свое потомство от всяких притязаний на русский престол. У Петра, видно, были насчет преемства какие-то свои предположения, которых он не открывал. Но отказ Анны законно сходился с прежним указом Петра, которым государь предоставлял право всякому царствующему государю назначать по себе преемника. Судьба устроила наперекор отказу, подписанному тогда цесаревной: именно ее потомству, а не потомству кого-либо другого суждено было утвердиться на русском престоле, который Петр так странно предавал произволу всякой царствующей особы.
Здоровье государя после этого не поправлялось, но становилось со дня на день все хуже: у него открылись признаки каменной болезни. Петр преодолевал себя, бодрился, занимался государственными делами, уделял время и на свои обычные забавы. В конце декабря он задумал выбор нового князя-папы, главы шутовского собора. Бутурлина не было уже в живых, несколько месяцев тому назад он окончил свою жизнь вполне достойно своему званию: умер вследствие своего обжорства и пьянства. День для избрания был назначен 20 декабря. Избрание происходило в доме умершего князя-папы. В избирательной зале был поставлен трон, обитый пестрой материей, о шести ступенях, на котором стояла бочка с двумя кранами и на бочке сидел Бахус. По бокам поставлены были места для членов всепьянейшего собора. В другой комнате, где собирался избирательный конклав, было устроено четырнадцать лож, посредине комнаты стоял стол с изображениями медведя и обезьяны, на полу стояли бочка с вином и посуда с кушаньем. После торжественного церемониального шествия в этот дом государь запер кардиналов в комнате конклава и приложил к ее дверям свою печать. Кардиналы не смели выходить оттуда, прежде чем не выберут нового папу, и должны были через каждую четверть часа хлебать по большой деревянной ложке водки. Петр на следующий день утром в 6 часов явился выпустить их. Оказалось, что кардиналы долго спорили между собой о выборе и не могли согласиться, наконец решились покончить дело баллотировкой. Жребий пал на одного провиантского комиссара (Строгоста?), который был посажен на троне, и все должны были целовать ему туфлю. После этого производились над ним церемонии по установленному прежде чину. На пиршестве, которое в этот день последовало, подавали кушанья из волчьего, лисьего, кошачьего, медвежьего и мышиного мяса.
А.П. Рябушкин. Петр Великий перевозит в ботике через Неву императрицу Екатерину Алексеевну, князя Меншикова, адмирала Головина и Макарова
Настал 1725 год, царь захворал, но пересиливал себя и занимался делами до 16 января. В этот день его болезнь усилилась, он слег в постель. Государя лечил доктор Блюментрост. 22 января Петр исповедовался и причащался Св. Тайн, 26-го подписал манифест, освобождавший всех сосланных в каторжные работы, объявил всем осужденным прощение, исключая тех, которые судились по первым двум пунктам или уличались в смертоубийстве. Екатерина выпросила прощение Меншикову.
27 января Петр изъявил желание написать распоряжение о преемстве престола. Ему подали бумаги; государь стал писать и успел написать только два слова: «отдайте все» – и более писать был не в силах, а велел позвать свою дочь Анну Петровну с тем, чтобы она писала с его слов, но когда явилась молодая цесаревна, Петр уже не мог произнести ни одного слова. На следующие сутки в четвертом часу пополуночи Петр скончался. 2 февраля его тело было выставлено на бархатной, расшитой золотом, постели в дворцовой зале, обитой теми самыми коврами, которые он получил в подарок от Людовика XV во время своего пребывания в Париже.
Петр как историческая личность представляет своеобразное явление не только в истории России, но в истории всего человечества всех веков и народов. Великий Шекспир своим художественным гением создал в Гамлете неподражаемый тип человека, у которого размышление берет верх над волей и не допускает осуществляться на деле желаниям и намерениям. В Петре не гений художника, понимающий смысл человеческой натуры, а сама натура создала обратный тип – человека с неудержимой и неутомимой волей, у которого всякая мысль тотчас обращалась в дело. «Я так хочу, потому что так считаю хорошим, а чего я хочу, то непременно должно быть», – таков был девиз всей деятельности этого человека. Он отличался непостижимой для обыкновенных смертных переимчивостью. Не получив ни в чем правильного образования, он желал все знать и вынужден был многому учиться не вовремя, однако русский царь был одарен такими богатыми способностями, что при своей недолговременной подготовке приводил в изумление знатоков, проводивших всю свою жизнь за тем, что Петр изучал только мимоходом. Все, что он ни узнавал, стремился применить к России с тем, чтобы преобразовать ее в сильное европейское государство. Эту мысль он лелеял искренно и всецело в продолжение всей своей жизни. Петр жил в такое время, когда России невозможно было оставаться на прежней избитой дороге и надобно было вступить на путь обновления. Как человек, одаренный умственным ясновидением, Петр сознал эту потребность своего отечества и принялся за нее со всей своей гигантской волей. Петр был самодержавен, а в тот момент истории, в который тогда вступила Россия, только самодержавие и могло быть пригодным. Свободный республиканский строй никуда не годится в то время, когда необходимо бывает изменять судьбу страны и дух ее народа, вырывать с корнем вон старое и насаждать новое. Понятно, что, привыкнув к старому порядку вещей, участники правления не расстанутся с тем, что считают добрым и выгодным. Подобный пример наглядно выказался в Польше: эта страна никак не могла выбиться из-под нравственной плесени, потому что ее полноправные граждане, люди, решавшие судьбу своего края, дорожили стариной и не могли спеться между собой, когда приходилось для общей пользы жертвовать выгодами, в которых многие лично были заинтересованы. И современная Англия оттого так консервативна и туго податлива к переменам, что ее судьба зависит не от воли одного лица, а от согласия многих: эта страна только по форме монархия, а по духу – более республика. Только там, где самодержавие безгранично, смелый владыка может отважиться на ломку и перестройку всего государственного и общественного здания.
Петру помогло больше всего его самодержавие, унаследованное им от предков. Он создает войско и флот, хотя для этого требуется бесчисленное множество человеческих жертв и плодов многолетнего народного труда, – все приносится народом для этой цели, хотя собственно народ этого ясно не понимает и потому не желает; все приносится оттого, что так хочет царь. Налагаются неимоверные налоги, высылаются на войну и на тяжелые работы сотни тысяч молодого здорового поколения для того, чтобы уже не возвратиться домой. Народ разоряется, нищает, зато Россия приобретает море, расширяются пределы государства, организуется войско, способное меряться с соседями. Русские издавна привыкли к своим старинным приемам жизни, они ненавидели все иноземное; погруженные в свое внешнее благочестие, они оказывали отвращение к наукам. Самодержавный царь заставляет их одеваться по-иноземному, учиться иноземным знаниям, пренебрегать своими дедовскими обычаями и, так сказать, плевать на то, что прежде имело для всех ореол святости. И русские пересиливают себя, повинуются, потому что так хочет их самодержавный государь.
Но здесь и предел самодержавной власти Петра. Много новых учреждений и жизненных приемов внес преобразователь в Россию, но новой души он не мог в нее вдохнуть – здесь его могущество оказалось столько же бессильным, каким было бы оно и тогда, когда бы у него явилось намерение превратить дно моря в пахотную землю или плавать на корабле по степи. Нового человека в России могло создать только духовное воспитание общества, и если этот новый духовный человек где-нибудь заметен в деяниях и стремлениях русского человека настоящего времени, то этим мы обязаны уже никак не Петру.
Во все продолжение своего царствования Петр боролся с предрассудками и злонравием своих подвластных, преследовал казнокрадов, взяточников, обманщиков, скорбел, что в России совершается не так, как бы ему хотелось. Сторонники его искали и теперь еще ищут причину всему этому в закоснелых пороках и недостатках старого русского человека. Но, приглядевшись к делу беспристрастнее, придется многое приписать и самому характеру действий Петра. Нельзя человека делать счастливым против собственной его воли и, так сказать, насиловать его природу. История показывает нам, что в обществе, управляемом деспотически, чаще и сильнее проявляются пороки, мешающие исполнению самых похвальных и спасительных предначертаний власти. Какие же меры употреблял Петр для приведения в исполнение своих великих преобразований? Пытки Преображенского приказа и Тайной канцелярии, мучительные смертные казни, тюрьмы, каторги, кнуты, рвание ноздрей, шпионство, поощрение наградами за доносничество. Понятно, что Петр такими путями не мог привить в России ни гражданского мужества, ни чувства долга, ни той любви к своим ближним, которые выше всяких материальных и умственных сил и могущественнее самого знания, одним словом, натворив множество учреждений, создавая новый политический строй для Руси, Петр все-таки не мог создать живой новой Руси.
Задавшись отвлеченной идеей государства и принося ей в жертву временное благосостояние народа, Петр не относился к этому народу сердечно. Для него народ существовал только как сумма цифр, как материал, годный для построения государства. Он ценил русских людей настолько, насколько они были ему нужны для того, чтобы иметь солдат, каменщиков, землекопов, матросов или своей трудовой копейкой доставлять царю средства к содержанию государственного механизма. Сам Петр своей личностью мог быть образцом для управляемого и преобразуемого народа только по своему безмерному неутомимому трудолюбию, но никак не по нравственным качествам своего характера. Он не старался удерживать своих страстей, нередко приводивших его к бешеным и кровавым поступкам, хотя за подобные поступки он жестоко казнил тех, над кем властвовал. Петр дозволял себе пьянство и лукавство и, однако, преследовал эти же самые пороки в своих подвластных. Много совершено им возмутительных деяний, оправдываемых софизмами политической необходимости. До какой степени он был свиреп и кровожаден, показывает то, что он не побоялся унизить свое царское достоинство, взяв на себя обязанность палача во время дикой казни стрельцов; во все его царствование кровавый пар замученных и казненных в Преображенском приказе заражал воздух Руси, но, как видно, не тревожил покойного сна ее государя, – несчастный Алексей Петрович замучен родным отцом после того, как этот отец выманил его из безопасного убежища царским обещанием прощения, затем вспомним страдания царицы Евдокии и множества жертв, погибших большей частью невинно по делу ее сына, вспомним поступок с Полуботком и малороссийскими старшинами, бывшими жертвой политических целей, вспомним дело Монса, которого государь обвинил совсем не за то, за что на самом деле на него сердился! Сам Петр оправдывал свои жестокие казни потребностью правосудия, но факты показывают, что не для всех он был одинаково неумолим в правосудии и не в пример другим делал поблажки Меншикову, своему любимцу, которому сходили с рук такие беззакония, за которые другие расплачивались жизнью. Самые его дела внешней политики не отличаются безукоризненной честностью и прямотой. Северная война никак не может быть оправдана с точки зрения справедливости. Нельзя назвать честными уловки Петра перед английским королем Георгом, когда он вопреки явным уликам уверял его в своей преданности и непричастности к замыслам претендента. До какой степени Петр уважал права чужих соседних наций, когда только не имел повода их бояться, показывает его дикий поступок с униатскими монахами в Полоцке – поступок, за который, вероятно, он сам казнил бы смертью всякого из своих подданных, осмелившегося сделать такое самоуправство на чужой земле.
Все темные стороны характера Петра, конечно, легко извинять чертами века; нам справедливо могут указать, что подобных сторон найдется еще в большей степени в характере других современников Петра. Несомненным останется, что Петр превосходил современных ему земных владык обширностью ума и неутомимым трудолюбием, но в нравственном отношении был не лучше многих из них; зато и общество, которое он хотел пересоздать, возникло не лучшим в сравнении с теми обществами, которыми управляли прочие Петровы современники. До Петра Россия погружена была в невежество и, хвастаясь своим ханжеским обрядовым благочестием, величала себя «новым Израилем», а на самом деле никаким «новым Израилем» не была. Петр посредством своих деспотических мер создал из нее государство, грозное для чужеземцев войском и флотом, сообщил высшему классу ее народа внешние признаки европейского просвещения, но Россия после Петра все-таки в сущности не сделалась «новым Израилем», чего ей так хотелось до времен Петра. Все Петровы воспитанники, люди новой России, пережившие Петра, запутались в собственных кознях, преследуя свои личные эгоистические цели, погибли на плахах или в ссылках, а русский общественный человек усваивал в своей совести правило, что можно делать все, что полезно, хотя бы оно было и безнравственно, оправдываясь тем, что и другие народы то же делают.
При всем этом Петр, как исторический государственный деятель, сохранил для нас в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему сердце: эта черта – преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в течение своей жизни. Он любил Россию, любил русский народ, любил его не в смысле массы современных и подвластных ему русских людей, а в смысле того идеала, до которого желал довести этот народ, и вот эта-то любовь составляет в нем то высокое качество, которое побуждает нас помимо нашей собственной воли любить его личность, оставляя в стороне и его кровавые расправы, и весь его деморализующий деспотизм, отразившийся зловредным влиянием и на потомстве. За любовь Петра к идеалу русского народа русский человек будет любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала, и ради этой любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его память.
Царевич Алексей Петрович
Преобразовательные намерения Петра Великого возбуждали множество недовольных, готовых противодействовать царю всеми мерами внутри России; но из всех противников его духа первое место по достоинству породы занимал его родной сын, царевич Алексей. Он был рожден от первой супруги Петра, Евдокии Лопухиной, 18 февраля 1690 года. Петр никогда не любил вполне свою жену, а сошедшись в Немецкой слободе с Анной Монс, почувствовал отвращение к своей супруге. Это неприязненное чувство развивалось по мере пристрастия государя к иноземщине, которое толкало его к решительным мерам против старинных русских порядков и обычаев. Евдокия не только не сочувствовала в этом Петру, но, как бы назло ему, была ревностной поклонницей старины заодно со своей близкой родней – Лопухиными. Петр пытался сначала убедить жену свою добровольно вступить в монастырь, но все его старания достигнуть этой цели оказались безуспешными. Тогда Петр приказал отправить Евдокию против ее воли в Суздальский Покровский девичий монастырь, и там она была насильно пострижена под именем Елены. Ее восьмилетний сын Алексей был разлучен с матерью; его воспитание было поручено сначала Никифору Вяземскому, потом – немцу Нейгебауеру, а когда этого немца за дерзость и высокомерие царь удалил, учителем царевича стал другой немец, Гюйсен. Он выучил царевича говорить по-французски и преподавал ему научные предметы на французском языке. В 1705 году Петр отозвал Гюйсена к дипломатическим поручениям. Царевич остался без учителя с одним своим воспитателем Никифором Вяземским; кроме того, наблюдение над ходом учения поручено было Меншикову, которому, однако, некогда было следить за царевичем, постоянно жившим в Москве, тогда как Меншиков пребывал в Петербурге и часто отвлекался на разные военные, морские и административные предприятия.
И.-Г. Таннауэр. Портрет Алексея Петровича
Москва, старая столица России, естественно, стала тогда важнейшим средоточием врагов преобразований, начатых Петром. Царевич, по чувству сердечной памяти о матери, не питал нежных чувств к родителю, а суровое и грозное обращение отца с сыном еще более охладило Алексея к Петру. Он редко мог видеть родителя, постоянно занятого военными делами. Царевича окружили люди, недружелюбно относившиеся к затеям государя. Это были четверо Нарышкиных, пять князей Вяземских, домоправитель царевича Еварлаков, сын царевичевой кормилицы Колычев, крутицкий архиерей Илларион и несколько протопопов, из которых один – Яков Игнатьев – был духовником царевича и имел на него громадное нравственное влияние. Однажды в Преображенском селе, в своей спальне, пред лежащим на стольце Евангелием, царевич дал своему духовнику клятвенное обещание слушать его во всем, как ангела Божия и Христова апостола, считать его судьей всех своих дел и покоряться во всем его советам. Царевич проводил время сообразно старинным приемам русской жизни: то слушая богослужение и занимаясь душеспасительными беседами, то учреждая пиры, постоянным участником которых был и его духовник. Подобно тому как родитель царевича устроил ради потехи всепьянейший собор и раздавал разные клички членам этого собора, царевич Алексей составил около себя такой же кружок друзей и всех их наделил насмешливыми прозвищами (отец Корова, Ад, Жибанда, Засыпка, Захлюста, Молох, Бритый, Грач и пр.). Они хвастались своим пьянством. «Мы вчера повеселились изрядно, – писал однажды царевич своему духовнику. – Отец духовный Чиж чуть жив отошел до дому, поддержим сыном», а в письме царевича один из его собеседников, Алексей Нарышкин, приписал: «Мы здесь зело в молитвенных подвигах пребываем, я уже третий день не маливался, и главный наш не умножает».
Но забавы царевича не походили на забавы его родителя в том, что царевич всегда относился с сердечным уважением ко всему церковному и не позволял себе делать таких кощунских выходок, какие замечаются в чиноположении Петрова всепьянейшего собора. Зато не менее родителя царевич при случае показывал жестокость и грубость в обращении со своими собеседниками; самого духовника своего, которого называл своим первейшим другом, царевич не раз пугал и за бороду драл. «И другие, – писал ему этот духовник, – от милостивого наказания твоего и побой изувечены и хрычат кровью». Своего наставника Вяземского царевич также драл за волосы и бил палкой. Несмотря на такие грубые вспышки, царевич Алексей, будучи по природе бесхарактерным, находился под влиянием своих друзей и особенно Якова Игнатьева, который служил ему тайным посредником по отношению к заточенной матери. При его посредстве царевич однажды съездил к ней в Суздаль, но царевна Наталья, любимая сестра Петра, проведала об этом и донесла брату. Царь сильно разгневался и потребовал сына к себе в Польшу, где он в то время находился. Царевич обратился к Екатерине и только ее ходатайству обязан был тем, что получил от родителя прощение.
Царевич Алексей Петрович и его супруга, принцесса Софья-Шарлотта Брауншвейг-Вольфенбюттельская
В 1709 году царевич по воле родителя был оторван от московского круга друзей, отправлен в Дрезден учиться геометрии и фортификации, а через два года женился на сестре супруги немецкого императора Карла VI, вольфенбюттельской принцессе Шарлотте. Брак был совершен в Торгау 14 октября 1711 года в присутствии Петра. Алексей не чувствовал никакой любви к этой особе и женился на ней единственно из угождения воле родителя, не смея ему противиться по трусости и слабости характера. Супруга его была совсем не такая женщина, чтобы впоследствии расположить к себе сердце мужа и оказать на него доброе нравственное влияние. Это была немка до костей, до глубины души, она окружила себя исключительно единоземцами, не терпела русских и всей России. Молодая чета поселилась в Петербурге, в особом дворце, но жила не роскошно, и кронпринцесса, как титуловали в то время жену царевича, беспрестанно жаловалась, что ей дают мало средств. Петр пытался приучить своего сына любить то, что сам любил, и посылал его по разным поручениям, например, наблюдать за постройкой судов в Ладоге, но царевич повиновался нехотя, из-под палки, и не показывал ни малейшего расположения следовать туда, куда направлял его отец. Алексей боялся родителя, сам родитель впоследствии объявлял, что, желая приучить сына к делу, не только бранил его, но и бивал палкой. Однажды Петр хотел проэкзаменовать сына из геометрии и фортификации. Царевич боялся, что царь заставит его при себе чертить планы, и чтобы избавиться от такого неприятного испытания, выстрелил себе из пистолета в ладонь; пуля не попала в руку, но рука была обожжена. Отец увидел обожженную руку сына и допрашивал его, что это значит. Алексей чем-то отолгался, но избавился от угрожавшего ему испытания. Все в нем составляло противоположность отцу: Петра занимали кораблестроение, военное искусство, всякого рода ремесла и промыслы; царевич с любовью углублялся в чтение благочестивых книг, в рассказы о чудесах и видениях, которым Петр не верил. Чем более Петр всматривался в поведение своего сына, тем более приходил к убеждению, что он не годится быть его преемником на престоле, к чему готовило Алексея право рождения. Петр перестал им заниматься и в продолжение многих месяцев не говорил с ним ни слова, но не решался отстранить его от престолонаследия, потому что некем было его заменить.
Царевич Петр Петрович
В 1714 году Екатерина стала беременной, но в то же время была уже во второй раз беременной и супруга Алексея Шарлотта. Кронпринцесса разрешилась от бремени 12 октября сыном Петром, а через десять дней скончалась. Тогда Петр в самый день погребения невестки вручил сыну письмо, в котором укорял его за то, что он не показывал никакой охоты к занятиям делами правления, а наиболее за то, что царевич «ниже слышать хощет о воинском деле, чем мы от тьмы к свету вышли». Царь убеждал его исправиться, а в случае неисправления грозил отрешить от наследства. Письмо это было подписано задним числом, за 16 дней до его отдачи, а на другой день после отдачи Екатерина родила Петру сына, Петра. Царевич советовался с близкими лицами, Вяземским и Александром Кикиным, обращался также к людям сильным: адмиралу Апраксину и князю Василию Владимировичу Долгорукому. Кикин и Вяземский прямо советовали ему удалиться на покой, а князь Василий Долгорукий говорил ему двусмысленные слова: «Давай писем хоть тысячу, еще когда-то будет; старая пословица: “улита едет, когда-то будет”; это не запись с неустойкой, как мы преж сего меж себя давывали». Хитрый боярин дал царевичу понять, что, по его соображениям, как он ни вывертывайся, а ему несдобровать. Через три дня после получения письма царевич послал царю ответ, в котором сознавался, что «памяти весьма лишен и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению». Он отрекался от наследства, предоставляя его своему новорожденному брату, и призывал в свидетели Бога, что не станет более претендовать на корону.
Петр после этого заболел так тяжело, что даже исповедовался и причащался в чаянии кончины. По выздоровлении, уже в 1716 голу, царь написал царевичу письмо, служившее как бы ответом на то, которое царевич писал до болезни родителя. Петр написал сыну, что не верит клятве, и привел изречение Давида: «всяк человек ложь». «Да, наконец, – выражался Петр, – если бы ты и истинно хотел хранить клятву, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства своего не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело». Затем Петр дал ему на выбор: или изменить свой нрав и сделаться достойным наследником престола, или постричься в монахи. «Иначе, – заканчивал свое письмо Петр, – я с тобой, как со злодеем, поступлю».
Испуганный царевич обратился опять за советом к Вяземскому и Кикину. Оба советовали ему идти в монастырь. Кикин прибавил при этом: «Ведь клобук не гвоздем к голове прибит, можно его и снять, а вперед что будет – кто знает!» Сообразно этому совету царевич написал Петру: «Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения».
Но Петр через неделю посетил сына и сказал ему: «Это молодому человеку нелегко, одумайся, не спеши, подожди полгода».
Вскоре Петр уехал за границу. Алексей остался в Петербурге в томительной нерешительности. Его приятель Кикин уехал за границу высмотреть для царевича какое-нибудь убежище в случае крайней опасности.
В августе 1717 года Петр из-за границы прислал сыну письмо и требовал: или ехать к нему, не мешкая более недели, или постричься и уведомить отца, в каком монастыре и в какое время он пострижен. Это до того испугало царевича, что он решился бежать. «Я вижу, – говорил он, – что мне сам Бог путь правит. Мне снилось, что я церкви строю».
Заняв у Меншикова и у некоторых других лиц несколько тысяч червонцев, Алексей поехал как будто к отцу по его приказанию, а на самом деле – с намерением укрыться от его гнева и найти защиту у кого-нибудь из иноземных государей. На дороге в Либаве Алексей свиделся с Кикиным, возвращавшимся в отечество. Кикин советовал ему ехать в Вену и отдаться под покровительство цезаря. Так царевич и поступил. Он поехал в Вену под вымышленным именем польского шляхтича Коханского.
21 ноября старого стиля в 9 часов вечера царевич, оставив свой багаж и прислугу в гостинице, находившейся в Леопольдштадте, сам поехал во Внутренний город[199 - Так называются части города Вены.], остановился на площади в трактире «Bei Klapperer» и отправил оттуда своего служителя к вице-канцлеру Шенборну с просьбой допустить его по важному делу. Шенборн был уже раздет и объявил посланному, что он оденется и пойдет к царевичу сам; но не успел Шенборн одеться, как царевич явился к нему, и первым его делом было попросить удалиться от всех и выслушать его наедине.
– Я пришел искать протекции у императора, моего свояка; пусть он спасет жизнь мою; меня хотят погубить и моих бедных детей – лишить короны.
– Успокойтесь, – сказал ему Шенборн, – вы здесь в совершенной безопасности. Расскажите спокойно, в чем ваше несчастье и чего вы желаете.
Царевич продолжал:
– Отец хочет меня погубить, а я ни в чем не виноват. Я не раздражал его, я слабый человек. Меня Меншиков так нарочно воспитал; меня споили, умышленно расстроили мое здоровье; теперь отец говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к правлению, хочет меня постричь и засадить в монастырь, чтоб отнять наследство… Я не хочу в монастырь… Пусть император охраняет мою жизнь.
Распад Персии начинался уже с ее восточных пределов. Поднялись против власти персидского шаха авганы, данники Персии, управляемые наместниками шаха. Некто Миривес, бывший в этой земле собирателем даней, следуемых персидскому государю с покоренного народа, в 1710 году попытался сделаться независимым. Он умертвил грузинского князя Георгихана, посланного от шаха наместником в Авганистан, и утвердился в авганской столице Кандагаре. Персия была не в состоянии принудить его к повиновению. Он умер в 1717 году независимым властителем. Его сын Мир-Махмуд наследовал отцу, умертвив своего дядю. Он захватил провинцию Кирман и привлек на свою сторону всех последователей секты суннитов в Персии, враждебной шиитскому толку магометанства, которого держался двор и исстари исповедовали все персидские шахи, включительно до Гуссейна IV. В государстве началось всеобщее междоусобие под знаменем двух магометанских вероисповеданий. Гуссейн поручил свое войско Луфти-Али-хану, брату своего визиря Атемат-Булета. Этот полководец действовал удачно против мятежников, но враги нашли способ очернить перед малоумным шахом и визиря, и его брата-полководца. Шах Гуссейн приказал своему визирю выколоть глаза, а Луфти-Али-хана посадить в тюрьму. Тогда Мир-Махмуд, не имея против себя опытного и даровитого врага, повел свои дела так удачно, что собрал более 60 000 войска, двинулся на столицу Персии Испагань и принудил шаха Гуссейна признать себя великим визирем, начальником всего персидского войска и настоящим правителем государства. Униженный таким образом, Гуссейн отрекся от престола, назначив своим преемником одного из своих сыновей – Тохмас-мирзу.
Из Кандагара подан был сигнал: за Мир-Махмудом начали возмущаться правители других провинций. Взбунтовались лезгины, народ, живший в Кавказских горах и плативший ежегодную дань Персии. Лезгинский владелец Дауд-бек напал на Шемаху; лезгины и их союзники казы-кумыки разорили и разграбили город, перебили и обобрали торговавших там русских купцов, награбили у них товаров ценой на полмиллиона. Богатейший русский купец Евреинов разорился тогда вконец. В то же время грузинский князь Вахтанг, незадолго перед тем принявший магометанство в угоду шаху, затевал также освободиться от персидской власти и искал содействия России. Он обращался к астраханскому губернатору Волынскому, уверял, что отрекся от Христа поневоле, притворно, и теперь снова желает обратиться к христианству, поступив под власть русского царя. Вахтанг уговаривал русское правительство воспользоваться крайним положением Персии и, со своей стороны, обещал русским 40 000 войска для содействия против Персии. Кроме обиды, нанесенной русским купцам в Шемахе, Петр был недоволен тем, что караван русских купцов, возвращавшийся из Китая, был разграблен на дороге хивинскими татарами, которые находились в союзе с Мир-Махмудом.
Город Терки в XVIII столетии
Петр увидел, таким образом, превосходный случай вмешаться в персидское дело под предлогом защищать законную верховную власть, потрясенную Мир-Махмудом, и спасти Персию от совершенного распада, так как после отречения Гуссейна молодой и неопытный Тохмас-шах был государем только по имени. Авганы и их союзники курды опустошали государство. Вдобавок Турция имела виды овладеть Персией. Даже самой государственной религии в Персии грозила беда: лезгины и авганы были сунниты, курды – огнепоклонники.
После сильных понуждений со стороны астраханского губернатора Волынского, решив идти в поход, русский государь хотел предупредить Турцию, чтобы она не воспользовалась разложением Персидского государства и не овладела персидскими областями: это было бы страшным для России событием, оно усилило бы издавна враждебную России державу, всегда готовую ей вредить. В начале 1722 года Петр прибыл в Москву и оттуда приказал снаряжать на Волге суда для перевозки войска к Каспийскому морю. В мае государь вместе с Екатериной отправился в путь водой по Москве-реке и Оке. В Нижнем он праздновал день своего рождения (30 мая), был великолепно угощаем богатейшим из русских промышленников Строгоновым, а потом из Нижнего отправился вплоть до Астрахани, останавливаясь на короткое время в поволжских городках для их осмотра. Между тем турецкий двор, узнав о намерении русского государя, предусмотрел с его стороны умысел завоевать и присоединить к своим владениям области шаха и прислал к Петру в Астрахань грамоту с увещанием оставить предприятие. Петр отвечал, что идет в Персию не завоевателем, а союзником шаха, чтобы избавить его от мятежников и принудить Мир-Махмуда покориться своему законному государю. 18 июля Петр с пехотой в числе 22 000 и с 6000 матросов, пустился на судах по Каспийскому морю по направлению к Дербенту, а конница шла туда же сухопутьем (регулярной русской конницы было 9000, кроме того, 40 000 казаков и калмыков и 30 000 татар).
Петр разослал по сторонам манифест ко всем, считающимся подданными шаха, называл себя союзником их повелителя и требовал от них мирного подчинения, объявляя в то же время, что он строго запретил русскому войску всякие неприязненные поступки над персидскими подданными, покорными своему государю. 12 августа Петр прибыл в Тарки. Тамошний владелец, или шевкал, как он титуловался, по имени Адель-Гирей, считавшийся данником шаха, принимал Петра и Екатерину униженным образом, хотя внутренне был очень недоволен прибытием непрошенных союзников. Хуже поступил другой данник шаха, утимишский султан Мугаммед. Петр отправил к нему трех донских казаков – требовать покорности; султан приказал побить их и со своими силами ударил на русское войско, но русские отбили его, разорили его столицу Утимиш, пожгли и пограбили его владения; сам Петр в возмездие за трех своих убитых казаков приказал побить 21 пленника, затем целую толпу других пленников отправил к утимишскому султану с обрезанными носами и ушами.
Сдача города Дербента 23 августа 1723 г. Наиб города подносит городские ключи Петру I
23 августа царь подошел к Дербенту; комендант его, называемый по-персидски «наиб», вышел навстречу к царю с серебряными городскими ключами и сдал город. Петр простоял здесь до сентября; приближалась осень; подвоз припасов по Каспийскому морю становился затруднительным; сообразив это, Петр оставил в Дербенте гарнизон под начальством полковника Юнкера, а сам повернул назад к Астрахани и на возвратном пути на реке Сулаке заложил крепость, назвав ее крепостью Св. Креста. Из Астрахани Петр выслал для дальнейших военных действий в Персии генерал-майора Матюшкина в Баку, а полковника Шипова – к Рящу, сам же, пробыв некоторое время в Астрахани, уехал в Москву. 13 декабря он имел торжественный въезд в старую русскую столицу. Его склонность к торжественным праздникам и к риторическим восхвалениям своих подвигов находила себе желанную пищу в том представлении, что он завоевал город, построение которого приписывали Александру Македонскому. В Москве царь пробыл до весны и накануне своего отъезда в Петербург собственноручно сжег свой деревянный дворец в Преображенском. Он сказал бывшему при этом голштинскому герцогу: «Здесь задумал я впервые войну против Швеции, пусть вместе с этим домом исчезнет всякая мысль о вражде с нею, пусть она будет вернейшею союзницею моей империи!»
Памятник Петру I в Дербенте
Отряды, которым Петр поручил окончание военных действий в Персии, исполнили свое поручение хорошо. Шипов утвердился в Ряще. Персидские власти были не рады чужеземцам и именем шаха требовали, чтобы русские выходили из города; Шипов не уходил под разными предлогами и достоял до весны 1723 года. За это время туземцы до того невзлюбили пришельцев, что в марте, когда Шипов, отправив часть своего отряда на судах, остался с малочисленными силами, напали на него с оружием в караван-сарае. Русские отбили персиян, несмотря на то что последних было, может быть, в десять раз больше. И другой посланный с отрядом в персидские владения, Матюшкин, прибыв в Баку летом 1723 года, встретил совершенное нежелание принимать русских. Персияне хотели воспрепятствовать высадке русского войска на берег, но Матюшкин отбил их и принудил город к сдаче. Впрочем, действия Матюшкина и Шипова не имели важных последствий, потому что и без этих дел 12 сентября 1723 года присланный от Тохмас-шаха посол Измаил-бек в Петербурге заключил от имени своего государя союзный договор с русским императором: русский государь обещал со стороны России оказывать шаху помощь против бунтовщиков, а шах – для возможности содержать войско, которое император пошлет ему против мятежников, уступил России города Дербент и Баку с побережьем Каспийского моря, заключающим провинции Гилян, Мазандеран и Астрабад. Договор этот был ратифицирован русскими послами, отправленными в Персию в апреле 1724 года. Таким образом, почти без войны, воспользовавшись обстоятельствами, Петр приобрел для России полосу южного края, богатого различными произведениями, и тогда же русский государь начал думать о приглашении христианских поселенцев в новоприобретенный край. Этими поселенцами, по предположениям Петра, должны были быть армяне, которые давно уже побуждали русского государя к овладению Прикавказским краем. В начале 1724 года началось переселение армян из турецких владений, но оно шло довольно медленно, потому что турки неохотно выпускали их из своих областей. Приобретение Прикаспийского края не осталось без неудовольствия со стороны Турции. Сначала великий визирь в сношениях с русским резидентом Неплюевым долго твердил, что Порта одна имеет полное право овладеть Персией, тем более что Мир-Махмуд и лезгинский владетель Дауд-бек признали над собой верховное первенство турецкого падишаха. Турки между тем успели овладеть Тифлисом. Английский посланник старался вооружить Турцию против России, а французский, Дебонак, держал сторону России и пытался не допустить до войны. В январе 1724 года дело повернулось так, что можно было со дня на день ожидать объявления России войны, и Неплюеву приходилось уезжать из Константинополя. Но французский посол настроил визиря так, что тот сам предложил французскому послу быть посредником в переговорах с русским резидентом. Дело, однако, потянулось еще на полгода. Пошли споры, толки. По известию Неплюева, французский посол начал было склоняться на сторону Турции, но 12 июня 1724 года все уладилось в пользу России: порешили оставить Шемаху под владением турецкого данника, лезгинского князя Дауд-бека, а пространство от Шемахи до Каспийского моря разделить между Россией и Дауд-беком, так что последнему отдавалась меньшая часть этого пространства, чем России. Петр настаивал, чтобы Турция не воспрещала своим христианским подданным, армянам и грузинам, переходить в новоприобретенные от Персии провинции, обещая за это не воспрещать и магометанам перехода в Турцию. Несчастный грузинский царь Вахтанг, бывший поневоле и по слабохарактерности мусульманином, возвратился к христианству, но его начали теснить в одно время и турки, и персияне; явился претендентом ему другой грузинский князь, владелец Кахетии. Вахтанг вынужден был покинуть свое царство и уехать в Россию на вечное житье.
Экспедиция Петра в Персию имела важное значение в русской истории. Она была начальным шагом к тому движению России на юго-восток, которое, то останавливаясь, то снова возобновляясь, впоследствии привело Россию к приобретению закавказских грузинских земель и всего Кавказского хребта. Петр, думая сделать из России морскую державу и открыть ей путь к занятию подобающего ей места в ряду европейских держав, в то же время понимал, что как география, так и история наметили ей и другую дорогу – дорогу на Восток, где Россия, получая от Запада плоды европейской цивилизации, могла в собственной переработке сообщать их восточным народам, стоявшим в сравнении с нею на меньшей степени культурного развития.
В отношениях к западным державам важнейшее дело этого времени было заключение в феврале 1724 года оборонительного союза со Швецией. После продолжительной войны оба государства вступили в самую искреннюю дружбу между собой. Это важное дело совершено старанием русского посла в Стокгольме Бестужева и отчасти министра голштинского Бассевича, поставившего своего герцога снова в добрые отношения к Швеции. Перед этим временем Петр, с целью сделать шведского короля уступчивее, вознамерился попугать его и пустить свой флот в Балтийское море, но герцог написал к Бассевичу, своему послу, бывшему тогда в Стокгольме, письмо, в котором выражался, что лучше откажется от всяких прав на шведскую корону, чем купит ее ценой шведской крови. Бассевич показал это письмо шведскому министру Горну, главному недоброжелателю герцога, и тронул Горна до того, что тот изменил свои чувства к племяннику Карла XII. Состоялся такой договор Швеции с Россией: обе державы обязывались поддерживать друг друга военной силой, сухопутной и морской, и не заключать ни с кем договоров, противных этому союзу. Голштинский герцог отказывался от всяких притязаний на шведский престол при жизни тогдашнего короля и его прямых потомков, а Швеция вместе с Россией обещала добиваться утверждения за ним его герцогских наследственных владений. Обе державы постановляли, кроме того, не допускать внутренних беспорядков в Польше, а поддерживать ее старинную вольность и избирательное правление. Это последнее условие определило на долгое время взгляд на политику, которую должны были соблюдать соседи в отношении к Польской республике; соседям выгодно было поддерживать старинную польскую шляхетскую вольность, потому что такой государственный строй вел Польшу рано или поздно к гибели и давал надежды на возможность сделать приобретение в эпоху неизбежного падения Польской республики. С французским двором Петр последние годы своего царствования находился в дружелюбных отношениях; у Петра было даже намерение отдать одну из своих дочерей за малолетнего французского короля, но этот план не удался, потому что регент Франции постарался дать королю другую невесту, малолетнюю испанскую инфантину, которой, однако, не суждено было стать французской королевой. С Францией соединяло Россию еще обоюдное участие в судьбе проживавшего во Франции претендента на английский престол Иакова Стюарта, к которому Петр благоволил, тем более что с тогдашним английским королем Георгом у него уже несколько лет кряду были натянутые отношения. Но дело претендента не довело Россию ни до каких предприятий в его пользу, главным образом оттого, что его постоянная союзница и покровительница, Франция, сочла за лучшее примириться с королем Георгом, ограничив свои отношения к претенденту только одними любезностями. При посредстве Франции, Петр был уже готов помириться и подружиться с английским королем, однако не успел этого сделать при своей жизни. Летом 1723 года Петр в сопровождении своих вельмож ездил морским путем в Рогервик и положил там основание длинного мола с закрытой дорогой наверху и с батареей. У государя тогда рождалось желание перенести туда и свой военный порт, так как в Кроншлоте замечалась большая примесь пресной воды, способствовавшая скорой порче кораблей. В Рогервике море образует большую бухту, окруженную отвесными скалами, и до того широкую, что в ней могло вместиться до 1000 больших судов. Она была очень глубока и не принимала в себя отнюдь пресных вод. По возвращении из Рогервика в августе 1723 года, Петр обозревал в Крондштадте флот и любовался своим делом, совершенным им с любовью в течение всей своей жизни. Весь флот в 1723 году состоял из 24 кораблей и 5 фрегатов, на нем было 1730 орудий и до 12 500 человек экипажа. В это время Петр вспомнил о том небольшом ботике, на котором в молодости он начал учиться плаванию по Яузе и по северным русским озерам. Петр приказал привести его в Петербург, поставил его в Кронштадте между кораблями, нарек Дедушкой русского флота и потом с торжеством перевез в Петербургскую крепость, где назначил для хранения как национальную святыню. Это событие послужило поводом к торжественному многодневному празднеству, сопровождавшемуся и пальбой из пушек, и фейерверками, и обильными попойками.
Государь чувствовал, что силы его крепкой натуры подламывались, он постепенно опускался, сыновей у него не было, да если бы и были – объявленный им манифест о будущем порядке престолонаследия разрушал всякие права рождения и давал царствующему государю право назначать себе кого угодно преемником. Внука своего, сына несчастного царевича Алексея, Петр явно недолюбливал: вероятно, ему приходило на ум и то, что если со временем этот внук станет царем, то по родительской связи его окружат сторонники старых русских порядков, и партия, враждебная преобразованиям, поднимет голову. Кажется, уже тогда у Петра блеснула мысль передать после себя престол своей жене Екатерине. Правда, этого нигде не высказал Петр прямо, но такое предположение можно удобно вывести из его тогдашних поступков. Весной 1724 года Петр задумал короновать ее. Она носила уже титул императрицы, но только по мужу, как законная супруга императора. Петр захотел дать этот титул ее особе, независимо от брака. В манифесте, изданном по этому поводу, Петр извещал целый свет, что Екатерина была его постоянной помощницей в государственных делах, и признавал за ней какие-то особенно важные услуги, оказанные во время прутского похода. Коронование Екатерины должно было происходить не в Петербурге, но в Москве, не перестававшей в глазах русского народа быть законной столицей и центром национального единства. 7 мая 1724 года совершилось в московском Успенском соборе это коронование государыни с большим торжеством. Обряд совершал новгородский митрополит, а псковский епископ Феофан Прокопович, самый близкий к Петру из духовных сановников, произнес тогда речь, понравившуюся государю. Петр собственноручно возложил на Екатерину корону. Несколько дней после того поили и угощали народ, а потом продолжительное время отправлялись при дворе праздники, маскарады и попойки. Событие было новое для России: до сих пор ни одна из русских цариц не удостоилась такой публичной чести, кроме Марины Мнишек, о которой в памяти народной осталось не отрадное воспоминание. Как бы в свидетельство того, что Петр готовил Екатерине власть, равную своей собственной, он поручил ей вместо себя пожаловать графское достоинство Петру Андреевичу Толстому.
Фейерверк в Москве по случаю коронации Екатерины I 7 мая 1724 г. С современной гравюры
Коронование Екатерины порождало разные предположения о престолонаследии. Одни думали, что, короновав свою супругу, Петр намеревается объявить ее после себя преемницей, другие делали предположения, что Петр предоставит престол одной из дочерей, за неимением от Екатерины детей мужского пола. Большинство русских расположено было в пользу внука Петра, малолетнего сына царевича Алексея. Сам Петр, как видно, колебался: он то оказывал расположение к внуку, то как будто не хотел знать его. Замечали тогда, что характер Петра менялся. Он постоянно имел задумчивый вид, часто искал уединения, с ним боялись заговаривать о делах, когда он оказывался угрюмым. Иногда он требовал к себе священника, иногда доктора, а иногда вдруг по-старому предавался разгулу и окружал себя шутами и членами всепьянейшего собора. Среди праздников и веселья, господствовавшего при дворе после коронования Екатерины, Россия представляла совсем непраздничный вид. Повсюду раздавались жалобы на бедность, недавние неурожаи произвели большую скудость необходимых средств к жизни, хлебные магазины, которые давно уже приказал устроить царь по всей России, существовали только на бумаге: на самом деле никто не спешил исполнять в этом повеление своего государя. По улицам городов и по большим дорогам сновали толпы нищих, хотя государь много раз уже приказывал, чтобы в его царстве не было нищих, и под угрозами пеней и суровых наказаний запрещал своим подданным раздавать милостыню. Голодные пускались на грабежи и убийства; около самого Петербурга бродили разбойничьи шайки. Казенные недоимки все более и более возрастали; в военной коллегии и в адмиралтейств-коллегии совсем недоставало денег на содержание войска и флота. Между тем тягости народу не облегчались, продолжали переселять русских людей в ненавистный для них Петербург, а множество неоплатных должников казне отправляемо было на тяжелую работу в Рогервик и Кронштадт. В то время, когда при дворе отправляли маскарады и веселились, в народе слышны были проклятия, за которые неосторожных тащили в Тайную канцелярию и предавали варварским мукам.
Петр с Екатериной возвратился из Москвы в Петербург, готовились устраивать новое торжество, долженствовавшее совершиться через полгода, – обручение молодого голштинского герцога, родного племянника Карла XII, с дочерью Петра и Екатерины, цесаревной Анной Петровной. Петр между тем неусыпно занимался своими обычными разнообразными делами, переходя от усиленных работ к своим обычным забавам. Так, в конце августа он присутствовал при торжестве освящения церкви в Царском Селе. Пиршество после этого продолжалось несколько дней, выпито было до трех тысяч бутылок вина. После этого пира государь заболел, пролежал в постели шесть дней и едва только оправился – как уехал в Шлиссельбург и там снова устроил пиршество, празднуя годовщину взятия этой крепости. Из Шлиссельбурга Петр поехал на олонецкие железные заводы, выковал там собственноручно полосу железа в три пуда весом, оттуда поехал в Новгород, а из Новгорода – в Старую Русу, осматривал в этом городе соляное производство. Из Старой Русы государь повернул к Ладожскому каналу; Петр был очень доволен работами, происходившими тогда под начальством Миниха. В предыдущие пять лет едва вырыто было только на 12 верст канала и число рабочих простиралось до 20 000 человек, при Минихе же вырыто было в течение одного года уже 5 верст. Миних надеялся до следующей зимы вырыть еще 7 верст, у него было, кроме 2900 человек солдат, вольнонаемных рабочих только до 5000. Рытье кубической сажени земли при Минихе стоило 60 копеек, тогда как прежде оно обходилось в один рубль 50 копеек, вообще, по расчету Миниха, верста канала с деревянными постройками, которыми укреплялись стены канала, должна была обходиться в 7500 рублей, тогда как прежде одни земляные насыпи по смете, представленной государю, обходились в 10 000. В конце октября Петр возвращался в Петербург водой, но потом, раздумав, намеревался плыть в Систербек, чтоб осмотреть учрежденный там литейный завод. Приближаясь в своем плавании к селению Лахте, недалеко от устья Невы, государь увидел судно с солдатами и матросами, плывшее из Кронштадта и носимое во все стороны ветром и непогодой. На глазах государя это судно стало на мель. Петр не утерпел, велел плыть к судну, бросился по пояс в воду и помогал вытаскивать судно с мели, чтобы спасти находившихся на нем людей. В глазах Петра несколько человек, работавших вместе с ним, были унесены водой. Царь проработал целую ночь в воде и успел спасти жизнь двадцати человек. Но утром он почувствовал лихорадку, отложил свое намерение посетить систербекские заводы, а поплыл в Петербург.
Тогда совершилось событие, которое способствовало нравственному потрясению Петра. Был у Екатерины любимец и правитель канцелярии, заведовавший ее вотчинами, – Виллиам Монс, брат той самой Анны Монс, которая некогда была любовницей Петра. Он находился в большой доверенности, а его сестра Матрена Балк была любимой фрейлиной у Екатерины. Пользуясь такой близостью к государыне, брат и сестра зазнались и вообразили, что они через то стали могущественными особами. Виллиам Монс надменно принимал всяких просителей, хвастал, что он своим ходатайством у государыни может всякому сделать многое. Петр стал обвинять и брата, и сестру в том, что, управляя доходами Екатерины, они ее обкрадывают, но это был только предлог, на самом деле Петр приревновал Монса к императрице. Вскоре после своего возвращения в Петербург, Петр проводил вечер с Монсом и в 9 часов вечера отпустил его и других бывших с ним придворных, сказав, что идет в свою спальню. Ничего не подозревая для себя худого, Монс прибыл домой, разделся и стал курить трубку. Вдруг к нему входит страшный генерал-майор Андрей Иванович Ушаков, начальник Тайной канцелярии, требует от него шпагу и ключи, потом опечатывает его бумаги и приказывает ехать с собой. Ушаков привез его в свой дом. Монс увидел там Петра. «И ты здесь», – сказал Петр, бросив на него презрительный взгляд. Монса арестовали и на другой день подвергли допросу в канцелярии собственного императорского кабинета. Монс опять увидел здесь государя и пришел в такое ослабление сил, что лишился чувств, ему принуждены были пустить кровь. На следующий день повели его снова к допросу и стали угрожать пыткой. Монс, чтобы не допустить себя до мучений, сознался, что обращал в свою пользу оброки с некоторых вотчин императрицы и взял с крестьянина взятку, обещая сделать его стремянным конюхом императрицы. Монса препроводили в крепость (26 октября), а потом высший суд 14 ноября приговорил его к смертной казни. Рассказывают, что царь сам приехал к нему проститься. «Жаль тебя мне, очень жаль, да делать нечего, надобно тебя казнить», – говорил ему Петр. Императрица осмелилась было ходатайствовать перед Петром о пощаде виновных, но Петр пришел тогда в такую ярость, что на глазах государыни разбил дорогое зеркало. «Видишь ли, – сказал он многозначительно, – вот прекраснейшее украшение моего дворца. Хочу – и уничтожу его!» Екатерина поняла, что эти слова заключали намек на ее собственную личность, но с вынужденной сдержанностью сказала государю: «Разве от этого твой дворец стал лучше?» Петр все-таки не исполнил просьбы жены. 16 ноября в 10 часов утра Монса вывезли с сестрой в санях в сопровождении приготовлявшего его к смерти пастора. Монс бодро кланялся на обе стороны, замечая своих знакомых в огромной толпе народа, отовсюду согнанного смотреть казнь. Монс смело взошел на эшафот, снял шубу и выслушал прочитанный секретарем суда приговор, которым обвиняли его во взятках, поклонился народу и положил голову на плаху под удар топора. Его сестру Матрену Балк наказали одиннадцатью ударами кнута и сослали в Тобольск. Домашний секретарь Столетов после четырнадцати ударов кнутом был отправлен на десятилетнюю каторжную работу в Рогервик; пострадал тогда и дворцовый служитель Иван Балакирев, потешавший Петра и весь двор остроумными шутками. Ему дали шестьдесят ударов батогами и сослали в Рогервик на три года, поставив ему в вину, что он, «отбывши инженерного учения», при посредстве Монса втерся во дворец и занимался там вместо дела шутовством. На следующий день после казни Монса Петр катался с Екатериной в коляске. Он приказал проехать мимо столба, на котором была воткнута голова казненного. Екатерина не показала никакого вида смущения и, как говорят, посмотрев прямо в глаза царю, произнесла: «Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности!»
Вслед за Монсом раздражили Петра Меншиков, а потом кабинет-секретарь Макаров; на последнего донесли, что он не доводил до сведения государя о многих важных делах, возникших по фискальским доношениям, и представлял несправедливые доклады по челобитным о деревнях, взяв с просителей взятки. Царь отрешил Меншикова от должности президента военной коллегии. Эти неприятности усиливали болезненное состояние здоровья Петра, которое уже пострадало после приключения на Лахте. Между тем 24 ноября, в день именин государыни, совершено было обручение голштинского герцога с цесаревной Анной. Цесаревна при обручении отказалась за себя и за свое потомство от всяких притязаний на русский престол. У Петра, видно, были насчет преемства какие-то свои предположения, которых он не открывал. Но отказ Анны законно сходился с прежним указом Петра, которым государь предоставлял право всякому царствующему государю назначать по себе преемника. Судьба устроила наперекор отказу, подписанному тогда цесаревной: именно ее потомству, а не потомству кого-либо другого суждено было утвердиться на русском престоле, который Петр так странно предавал произволу всякой царствующей особы.
Здоровье государя после этого не поправлялось, но становилось со дня на день все хуже: у него открылись признаки каменной болезни. Петр преодолевал себя, бодрился, занимался государственными делами, уделял время и на свои обычные забавы. В конце декабря он задумал выбор нового князя-папы, главы шутовского собора. Бутурлина не было уже в живых, несколько месяцев тому назад он окончил свою жизнь вполне достойно своему званию: умер вследствие своего обжорства и пьянства. День для избрания был назначен 20 декабря. Избрание происходило в доме умершего князя-папы. В избирательной зале был поставлен трон, обитый пестрой материей, о шести ступенях, на котором стояла бочка с двумя кранами и на бочке сидел Бахус. По бокам поставлены были места для членов всепьянейшего собора. В другой комнате, где собирался избирательный конклав, было устроено четырнадцать лож, посредине комнаты стоял стол с изображениями медведя и обезьяны, на полу стояли бочка с вином и посуда с кушаньем. После торжественного церемониального шествия в этот дом государь запер кардиналов в комнате конклава и приложил к ее дверям свою печать. Кардиналы не смели выходить оттуда, прежде чем не выберут нового папу, и должны были через каждую четверть часа хлебать по большой деревянной ложке водки. Петр на следующий день утром в 6 часов явился выпустить их. Оказалось, что кардиналы долго спорили между собой о выборе и не могли согласиться, наконец решились покончить дело баллотировкой. Жребий пал на одного провиантского комиссара (Строгоста?), который был посажен на троне, и все должны были целовать ему туфлю. После этого производились над ним церемонии по установленному прежде чину. На пиршестве, которое в этот день последовало, подавали кушанья из волчьего, лисьего, кошачьего, медвежьего и мышиного мяса.
А.П. Рябушкин. Петр Великий перевозит в ботике через Неву императрицу Екатерину Алексеевну, князя Меншикова, адмирала Головина и Макарова
Настал 1725 год, царь захворал, но пересиливал себя и занимался делами до 16 января. В этот день его болезнь усилилась, он слег в постель. Государя лечил доктор Блюментрост. 22 января Петр исповедовался и причащался Св. Тайн, 26-го подписал манифест, освобождавший всех сосланных в каторжные работы, объявил всем осужденным прощение, исключая тех, которые судились по первым двум пунктам или уличались в смертоубийстве. Екатерина выпросила прощение Меншикову.
27 января Петр изъявил желание написать распоряжение о преемстве престола. Ему подали бумаги; государь стал писать и успел написать только два слова: «отдайте все» – и более писать был не в силах, а велел позвать свою дочь Анну Петровну с тем, чтобы она писала с его слов, но когда явилась молодая цесаревна, Петр уже не мог произнести ни одного слова. На следующие сутки в четвертом часу пополуночи Петр скончался. 2 февраля его тело было выставлено на бархатной, расшитой золотом, постели в дворцовой зале, обитой теми самыми коврами, которые он получил в подарок от Людовика XV во время своего пребывания в Париже.
Петр как историческая личность представляет своеобразное явление не только в истории России, но в истории всего человечества всех веков и народов. Великий Шекспир своим художественным гением создал в Гамлете неподражаемый тип человека, у которого размышление берет верх над волей и не допускает осуществляться на деле желаниям и намерениям. В Петре не гений художника, понимающий смысл человеческой натуры, а сама натура создала обратный тип – человека с неудержимой и неутомимой волей, у которого всякая мысль тотчас обращалась в дело. «Я так хочу, потому что так считаю хорошим, а чего я хочу, то непременно должно быть», – таков был девиз всей деятельности этого человека. Он отличался непостижимой для обыкновенных смертных переимчивостью. Не получив ни в чем правильного образования, он желал все знать и вынужден был многому учиться не вовремя, однако русский царь был одарен такими богатыми способностями, что при своей недолговременной подготовке приводил в изумление знатоков, проводивших всю свою жизнь за тем, что Петр изучал только мимоходом. Все, что он ни узнавал, стремился применить к России с тем, чтобы преобразовать ее в сильное европейское государство. Эту мысль он лелеял искренно и всецело в продолжение всей своей жизни. Петр жил в такое время, когда России невозможно было оставаться на прежней избитой дороге и надобно было вступить на путь обновления. Как человек, одаренный умственным ясновидением, Петр сознал эту потребность своего отечества и принялся за нее со всей своей гигантской волей. Петр был самодержавен, а в тот момент истории, в который тогда вступила Россия, только самодержавие и могло быть пригодным. Свободный республиканский строй никуда не годится в то время, когда необходимо бывает изменять судьбу страны и дух ее народа, вырывать с корнем вон старое и насаждать новое. Понятно, что, привыкнув к старому порядку вещей, участники правления не расстанутся с тем, что считают добрым и выгодным. Подобный пример наглядно выказался в Польше: эта страна никак не могла выбиться из-под нравственной плесени, потому что ее полноправные граждане, люди, решавшие судьбу своего края, дорожили стариной и не могли спеться между собой, когда приходилось для общей пользы жертвовать выгодами, в которых многие лично были заинтересованы. И современная Англия оттого так консервативна и туго податлива к переменам, что ее судьба зависит не от воли одного лица, а от согласия многих: эта страна только по форме монархия, а по духу – более республика. Только там, где самодержавие безгранично, смелый владыка может отважиться на ломку и перестройку всего государственного и общественного здания.
Петру помогло больше всего его самодержавие, унаследованное им от предков. Он создает войско и флот, хотя для этого требуется бесчисленное множество человеческих жертв и плодов многолетнего народного труда, – все приносится народом для этой цели, хотя собственно народ этого ясно не понимает и потому не желает; все приносится оттого, что так хочет царь. Налагаются неимоверные налоги, высылаются на войну и на тяжелые работы сотни тысяч молодого здорового поколения для того, чтобы уже не возвратиться домой. Народ разоряется, нищает, зато Россия приобретает море, расширяются пределы государства, организуется войско, способное меряться с соседями. Русские издавна привыкли к своим старинным приемам жизни, они ненавидели все иноземное; погруженные в свое внешнее благочестие, они оказывали отвращение к наукам. Самодержавный царь заставляет их одеваться по-иноземному, учиться иноземным знаниям, пренебрегать своими дедовскими обычаями и, так сказать, плевать на то, что прежде имело для всех ореол святости. И русские пересиливают себя, повинуются, потому что так хочет их самодержавный государь.
Но здесь и предел самодержавной власти Петра. Много новых учреждений и жизненных приемов внес преобразователь в Россию, но новой души он не мог в нее вдохнуть – здесь его могущество оказалось столько же бессильным, каким было бы оно и тогда, когда бы у него явилось намерение превратить дно моря в пахотную землю или плавать на корабле по степи. Нового человека в России могло создать только духовное воспитание общества, и если этот новый духовный человек где-нибудь заметен в деяниях и стремлениях русского человека настоящего времени, то этим мы обязаны уже никак не Петру.
Во все продолжение своего царствования Петр боролся с предрассудками и злонравием своих подвластных, преследовал казнокрадов, взяточников, обманщиков, скорбел, что в России совершается не так, как бы ему хотелось. Сторонники его искали и теперь еще ищут причину всему этому в закоснелых пороках и недостатках старого русского человека. Но, приглядевшись к делу беспристрастнее, придется многое приписать и самому характеру действий Петра. Нельзя человека делать счастливым против собственной его воли и, так сказать, насиловать его природу. История показывает нам, что в обществе, управляемом деспотически, чаще и сильнее проявляются пороки, мешающие исполнению самых похвальных и спасительных предначертаний власти. Какие же меры употреблял Петр для приведения в исполнение своих великих преобразований? Пытки Преображенского приказа и Тайной канцелярии, мучительные смертные казни, тюрьмы, каторги, кнуты, рвание ноздрей, шпионство, поощрение наградами за доносничество. Понятно, что Петр такими путями не мог привить в России ни гражданского мужества, ни чувства долга, ни той любви к своим ближним, которые выше всяких материальных и умственных сил и могущественнее самого знания, одним словом, натворив множество учреждений, создавая новый политический строй для Руси, Петр все-таки не мог создать живой новой Руси.
Задавшись отвлеченной идеей государства и принося ей в жертву временное благосостояние народа, Петр не относился к этому народу сердечно. Для него народ существовал только как сумма цифр, как материал, годный для построения государства. Он ценил русских людей настолько, насколько они были ему нужны для того, чтобы иметь солдат, каменщиков, землекопов, матросов или своей трудовой копейкой доставлять царю средства к содержанию государственного механизма. Сам Петр своей личностью мог быть образцом для управляемого и преобразуемого народа только по своему безмерному неутомимому трудолюбию, но никак не по нравственным качествам своего характера. Он не старался удерживать своих страстей, нередко приводивших его к бешеным и кровавым поступкам, хотя за подобные поступки он жестоко казнил тех, над кем властвовал. Петр дозволял себе пьянство и лукавство и, однако, преследовал эти же самые пороки в своих подвластных. Много совершено им возмутительных деяний, оправдываемых софизмами политической необходимости. До какой степени он был свиреп и кровожаден, показывает то, что он не побоялся унизить свое царское достоинство, взяв на себя обязанность палача во время дикой казни стрельцов; во все его царствование кровавый пар замученных и казненных в Преображенском приказе заражал воздух Руси, но, как видно, не тревожил покойного сна ее государя, – несчастный Алексей Петрович замучен родным отцом после того, как этот отец выманил его из безопасного убежища царским обещанием прощения, затем вспомним страдания царицы Евдокии и множества жертв, погибших большей частью невинно по делу ее сына, вспомним поступок с Полуботком и малороссийскими старшинами, бывшими жертвой политических целей, вспомним дело Монса, которого государь обвинил совсем не за то, за что на самом деле на него сердился! Сам Петр оправдывал свои жестокие казни потребностью правосудия, но факты показывают, что не для всех он был одинаково неумолим в правосудии и не в пример другим делал поблажки Меншикову, своему любимцу, которому сходили с рук такие беззакония, за которые другие расплачивались жизнью. Самые его дела внешней политики не отличаются безукоризненной честностью и прямотой. Северная война никак не может быть оправдана с точки зрения справедливости. Нельзя назвать честными уловки Петра перед английским королем Георгом, когда он вопреки явным уликам уверял его в своей преданности и непричастности к замыслам претендента. До какой степени Петр уважал права чужих соседних наций, когда только не имел повода их бояться, показывает его дикий поступок с униатскими монахами в Полоцке – поступок, за который, вероятно, он сам казнил бы смертью всякого из своих подданных, осмелившегося сделать такое самоуправство на чужой земле.
Все темные стороны характера Петра, конечно, легко извинять чертами века; нам справедливо могут указать, что подобных сторон найдется еще в большей степени в характере других современников Петра. Несомненным останется, что Петр превосходил современных ему земных владык обширностью ума и неутомимым трудолюбием, но в нравственном отношении был не лучше многих из них; зато и общество, которое он хотел пересоздать, возникло не лучшим в сравнении с теми обществами, которыми управляли прочие Петровы современники. До Петра Россия погружена была в невежество и, хвастаясь своим ханжеским обрядовым благочестием, величала себя «новым Израилем», а на самом деле никаким «новым Израилем» не была. Петр посредством своих деспотических мер создал из нее государство, грозное для чужеземцев войском и флотом, сообщил высшему классу ее народа внешние признаки европейского просвещения, но Россия после Петра все-таки в сущности не сделалась «новым Израилем», чего ей так хотелось до времен Петра. Все Петровы воспитанники, люди новой России, пережившие Петра, запутались в собственных кознях, преследуя свои личные эгоистические цели, погибли на плахах или в ссылках, а русский общественный человек усваивал в своей совести правило, что можно делать все, что полезно, хотя бы оно было и безнравственно, оправдываясь тем, что и другие народы то же делают.
При всем этом Петр, как исторический государственный деятель, сохранил для нас в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему сердце: эта черта – преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в течение своей жизни. Он любил Россию, любил русский народ, любил его не в смысле массы современных и подвластных ему русских людей, а в смысле того идеала, до которого желал довести этот народ, и вот эта-то любовь составляет в нем то высокое качество, которое побуждает нас помимо нашей собственной воли любить его личность, оставляя в стороне и его кровавые расправы, и весь его деморализующий деспотизм, отразившийся зловредным влиянием и на потомстве. За любовь Петра к идеалу русского народа русский человек будет любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала, и ради этой любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его память.
Царевич Алексей Петрович
Преобразовательные намерения Петра Великого возбуждали множество недовольных, готовых противодействовать царю всеми мерами внутри России; но из всех противников его духа первое место по достоинству породы занимал его родной сын, царевич Алексей. Он был рожден от первой супруги Петра, Евдокии Лопухиной, 18 февраля 1690 года. Петр никогда не любил вполне свою жену, а сошедшись в Немецкой слободе с Анной Монс, почувствовал отвращение к своей супруге. Это неприязненное чувство развивалось по мере пристрастия государя к иноземщине, которое толкало его к решительным мерам против старинных русских порядков и обычаев. Евдокия не только не сочувствовала в этом Петру, но, как бы назло ему, была ревностной поклонницей старины заодно со своей близкой родней – Лопухиными. Петр пытался сначала убедить жену свою добровольно вступить в монастырь, но все его старания достигнуть этой цели оказались безуспешными. Тогда Петр приказал отправить Евдокию против ее воли в Суздальский Покровский девичий монастырь, и там она была насильно пострижена под именем Елены. Ее восьмилетний сын Алексей был разлучен с матерью; его воспитание было поручено сначала Никифору Вяземскому, потом – немцу Нейгебауеру, а когда этого немца за дерзость и высокомерие царь удалил, учителем царевича стал другой немец, Гюйсен. Он выучил царевича говорить по-французски и преподавал ему научные предметы на французском языке. В 1705 году Петр отозвал Гюйсена к дипломатическим поручениям. Царевич остался без учителя с одним своим воспитателем Никифором Вяземским; кроме того, наблюдение над ходом учения поручено было Меншикову, которому, однако, некогда было следить за царевичем, постоянно жившим в Москве, тогда как Меншиков пребывал в Петербурге и часто отвлекался на разные военные, морские и административные предприятия.
И.-Г. Таннауэр. Портрет Алексея Петровича
Москва, старая столица России, естественно, стала тогда важнейшим средоточием врагов преобразований, начатых Петром. Царевич, по чувству сердечной памяти о матери, не питал нежных чувств к родителю, а суровое и грозное обращение отца с сыном еще более охладило Алексея к Петру. Он редко мог видеть родителя, постоянно занятого военными делами. Царевича окружили люди, недружелюбно относившиеся к затеям государя. Это были четверо Нарышкиных, пять князей Вяземских, домоправитель царевича Еварлаков, сын царевичевой кормилицы Колычев, крутицкий архиерей Илларион и несколько протопопов, из которых один – Яков Игнатьев – был духовником царевича и имел на него громадное нравственное влияние. Однажды в Преображенском селе, в своей спальне, пред лежащим на стольце Евангелием, царевич дал своему духовнику клятвенное обещание слушать его во всем, как ангела Божия и Христова апостола, считать его судьей всех своих дел и покоряться во всем его советам. Царевич проводил время сообразно старинным приемам русской жизни: то слушая богослужение и занимаясь душеспасительными беседами, то учреждая пиры, постоянным участником которых был и его духовник. Подобно тому как родитель царевича устроил ради потехи всепьянейший собор и раздавал разные клички членам этого собора, царевич Алексей составил около себя такой же кружок друзей и всех их наделил насмешливыми прозвищами (отец Корова, Ад, Жибанда, Засыпка, Захлюста, Молох, Бритый, Грач и пр.). Они хвастались своим пьянством. «Мы вчера повеселились изрядно, – писал однажды царевич своему духовнику. – Отец духовный Чиж чуть жив отошел до дому, поддержим сыном», а в письме царевича один из его собеседников, Алексей Нарышкин, приписал: «Мы здесь зело в молитвенных подвигах пребываем, я уже третий день не маливался, и главный наш не умножает».
Но забавы царевича не походили на забавы его родителя в том, что царевич всегда относился с сердечным уважением ко всему церковному и не позволял себе делать таких кощунских выходок, какие замечаются в чиноположении Петрова всепьянейшего собора. Зато не менее родителя царевич при случае показывал жестокость и грубость в обращении со своими собеседниками; самого духовника своего, которого называл своим первейшим другом, царевич не раз пугал и за бороду драл. «И другие, – писал ему этот духовник, – от милостивого наказания твоего и побой изувечены и хрычат кровью». Своего наставника Вяземского царевич также драл за волосы и бил палкой. Несмотря на такие грубые вспышки, царевич Алексей, будучи по природе бесхарактерным, находился под влиянием своих друзей и особенно Якова Игнатьева, который служил ему тайным посредником по отношению к заточенной матери. При его посредстве царевич однажды съездил к ней в Суздаль, но царевна Наталья, любимая сестра Петра, проведала об этом и донесла брату. Царь сильно разгневался и потребовал сына к себе в Польшу, где он в то время находился. Царевич обратился к Екатерине и только ее ходатайству обязан был тем, что получил от родителя прощение.
Царевич Алексей Петрович и его супруга, принцесса Софья-Шарлотта Брауншвейг-Вольфенбюттельская
В 1709 году царевич по воле родителя был оторван от московского круга друзей, отправлен в Дрезден учиться геометрии и фортификации, а через два года женился на сестре супруги немецкого императора Карла VI, вольфенбюттельской принцессе Шарлотте. Брак был совершен в Торгау 14 октября 1711 года в присутствии Петра. Алексей не чувствовал никакой любви к этой особе и женился на ней единственно из угождения воле родителя, не смея ему противиться по трусости и слабости характера. Супруга его была совсем не такая женщина, чтобы впоследствии расположить к себе сердце мужа и оказать на него доброе нравственное влияние. Это была немка до костей, до глубины души, она окружила себя исключительно единоземцами, не терпела русских и всей России. Молодая чета поселилась в Петербурге, в особом дворце, но жила не роскошно, и кронпринцесса, как титуловали в то время жену царевича, беспрестанно жаловалась, что ей дают мало средств. Петр пытался приучить своего сына любить то, что сам любил, и посылал его по разным поручениям, например, наблюдать за постройкой судов в Ладоге, но царевич повиновался нехотя, из-под палки, и не показывал ни малейшего расположения следовать туда, куда направлял его отец. Алексей боялся родителя, сам родитель впоследствии объявлял, что, желая приучить сына к делу, не только бранил его, но и бивал палкой. Однажды Петр хотел проэкзаменовать сына из геометрии и фортификации. Царевич боялся, что царь заставит его при себе чертить планы, и чтобы избавиться от такого неприятного испытания, выстрелил себе из пистолета в ладонь; пуля не попала в руку, но рука была обожжена. Отец увидел обожженную руку сына и допрашивал его, что это значит. Алексей чем-то отолгался, но избавился от угрожавшего ему испытания. Все в нем составляло противоположность отцу: Петра занимали кораблестроение, военное искусство, всякого рода ремесла и промыслы; царевич с любовью углублялся в чтение благочестивых книг, в рассказы о чудесах и видениях, которым Петр не верил. Чем более Петр всматривался в поведение своего сына, тем более приходил к убеждению, что он не годится быть его преемником на престоле, к чему готовило Алексея право рождения. Петр перестал им заниматься и в продолжение многих месяцев не говорил с ним ни слова, но не решался отстранить его от престолонаследия, потому что некем было его заменить.
Царевич Петр Петрович
В 1714 году Екатерина стала беременной, но в то же время была уже во второй раз беременной и супруга Алексея Шарлотта. Кронпринцесса разрешилась от бремени 12 октября сыном Петром, а через десять дней скончалась. Тогда Петр в самый день погребения невестки вручил сыну письмо, в котором укорял его за то, что он не показывал никакой охоты к занятиям делами правления, а наиболее за то, что царевич «ниже слышать хощет о воинском деле, чем мы от тьмы к свету вышли». Царь убеждал его исправиться, а в случае неисправления грозил отрешить от наследства. Письмо это было подписано задним числом, за 16 дней до его отдачи, а на другой день после отдачи Екатерина родила Петру сына, Петра. Царевич советовался с близкими лицами, Вяземским и Александром Кикиным, обращался также к людям сильным: адмиралу Апраксину и князю Василию Владимировичу Долгорукому. Кикин и Вяземский прямо советовали ему удалиться на покой, а князь Василий Долгорукий говорил ему двусмысленные слова: «Давай писем хоть тысячу, еще когда-то будет; старая пословица: “улита едет, когда-то будет”; это не запись с неустойкой, как мы преж сего меж себя давывали». Хитрый боярин дал царевичу понять, что, по его соображениям, как он ни вывертывайся, а ему несдобровать. Через три дня после получения письма царевич послал царю ответ, в котором сознавался, что «памяти весьма лишен и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению». Он отрекался от наследства, предоставляя его своему новорожденному брату, и призывал в свидетели Бога, что не станет более претендовать на корону.
Петр после этого заболел так тяжело, что даже исповедовался и причащался в чаянии кончины. По выздоровлении, уже в 1716 голу, царь написал царевичу письмо, служившее как бы ответом на то, которое царевич писал до болезни родителя. Петр написал сыну, что не верит клятве, и привел изречение Давида: «всяк человек ложь». «Да, наконец, – выражался Петр, – если бы ты и истинно хотел хранить клятву, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства своего не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело». Затем Петр дал ему на выбор: или изменить свой нрав и сделаться достойным наследником престола, или постричься в монахи. «Иначе, – заканчивал свое письмо Петр, – я с тобой, как со злодеем, поступлю».
Испуганный царевич обратился опять за советом к Вяземскому и Кикину. Оба советовали ему идти в монастырь. Кикин прибавил при этом: «Ведь клобук не гвоздем к голове прибит, можно его и снять, а вперед что будет – кто знает!» Сообразно этому совету царевич написал Петру: «Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения».
Но Петр через неделю посетил сына и сказал ему: «Это молодому человеку нелегко, одумайся, не спеши, подожди полгода».
Вскоре Петр уехал за границу. Алексей остался в Петербурге в томительной нерешительности. Его приятель Кикин уехал за границу высмотреть для царевича какое-нибудь убежище в случае крайней опасности.
В августе 1717 года Петр из-за границы прислал сыну письмо и требовал: или ехать к нему, не мешкая более недели, или постричься и уведомить отца, в каком монастыре и в какое время он пострижен. Это до того испугало царевича, что он решился бежать. «Я вижу, – говорил он, – что мне сам Бог путь правит. Мне снилось, что я церкви строю».
Заняв у Меншикова и у некоторых других лиц несколько тысяч червонцев, Алексей поехал как будто к отцу по его приказанию, а на самом деле – с намерением укрыться от его гнева и найти защиту у кого-нибудь из иноземных государей. На дороге в Либаве Алексей свиделся с Кикиным, возвращавшимся в отечество. Кикин советовал ему ехать в Вену и отдаться под покровительство цезаря. Так царевич и поступил. Он поехал в Вену под вымышленным именем польского шляхтича Коханского.
21 ноября старого стиля в 9 часов вечера царевич, оставив свой багаж и прислугу в гостинице, находившейся в Леопольдштадте, сам поехал во Внутренний город[199 - Так называются части города Вены.], остановился на площади в трактире «Bei Klapperer» и отправил оттуда своего служителя к вице-канцлеру Шенборну с просьбой допустить его по важному делу. Шенборн был уже раздет и объявил посланному, что он оденется и пойдет к царевичу сам; но не успел Шенборн одеться, как царевич явился к нему, и первым его делом было попросить удалиться от всех и выслушать его наедине.
– Я пришел искать протекции у императора, моего свояка; пусть он спасет жизнь мою; меня хотят погубить и моих бедных детей – лишить короны.
– Успокойтесь, – сказал ему Шенборн, – вы здесь в совершенной безопасности. Расскажите спокойно, в чем ваше несчастье и чего вы желаете.
Царевич продолжал:
– Отец хочет меня погубить, а я ни в чем не виноват. Я не раздражал его, я слабый человек. Меня Меншиков так нарочно воспитал; меня споили, умышленно расстроили мое здоровье; теперь отец говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к правлению, хочет меня постричь и засадить в монастырь, чтоб отнять наследство… Я не хочу в монастырь… Пусть император охраняет мою жизнь.