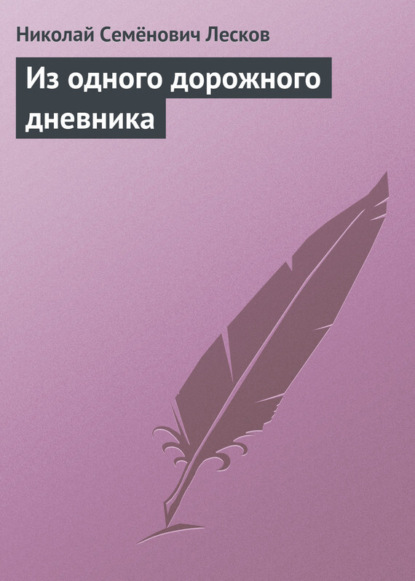По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из одного дорожного дневника
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Доброй ночи пану!
– Иди, иди.
– Больше ничего не нужно?
– Да иди, надоел до смерти.
– Надоел! Чего надоел? Пан все шутит с бедного еврея.
– Иди же, Абрам!
– Иду, иду. Прощайте, пане!
Абрам затворил дверь, но тотчас отворил ее снова и сказал: «А як пан что надумает или что потребуется, то я ту зараз в каморке сплю; пусть только пан кукнет – я зараз».
– Иди от меня, Абрам! – крикнул я, окончательно выведенный из терпения.
– Иду, пане; доброй ночи.
«Чтоб тебя черт взял с твоею услужливостью!» – подумал я и запер дверь на ключ.
Спать мне, однако, не хотелось, потому что я выспался днем. Попробовал читать, но это оказалось неудобным, потому что глаза у меня разболелись от жестокого катара и покраснели, дополняя мое сходство с окунем. Я записал четыре последние вчерашние строчки моего дневника, лег в постель и погасил свечку. Вскоре, однако, я удостоверился, что если бы я и способен был заснуть тотчас после освобождения от нашествия Абрама, то этого мне не удалось бы. В нумере моих соседок поднялась ужасная возня, о которой могут иметь понятие люди, вкусившие от прелестей семейной драмы. Ночью, когда все кругом спит, каждое движение, каждый звук гораздо слышнее, чем днем, и потому дощатая перегородка и щелистая дверь, отделявшие меня от моих соседок, как будто вовсе исчезли, и я слышал их в трех шагах от себя. Прежде всего больная гостья брала ножную ванну и жаловалась потом на крайнюю слабость. Ее уложили в постель, и горничная девушка стала выносить воду, а панна Ксавера ходила по комнате, укачивая изредка взвизгивающего ребенка. Но не прошло часа, как с больной сделался жестокий припадок истерики. Я слышал, как тетка и панна Ксавера держали ей руки, как больная дергалась в конвульсиях на скрипучей кровати. Она хохотала, рыдала, звала Генриха, кляла себя, людей… Ужасный припадок! Я в жизнь мою не видал такого жестокого припадка.
Часа через полтора, однако, все утихло; больная уснула, и в комнате только изредка перешептывались, но так тихо, что я ничего не мог расслышать, и сам незаметно уснул. Не знаю, долго ли я проспал, кажется, очень недолго. Меня разбудил слабый детский плач в комнате моих соседок.
– Дайте мне ее, тетя! – слабо проговорила больная.
– Спи, спи, мой друг, я ее закачаю, – отвечала тетка.
– Нет, тетя, дайте; она, бедная, голодна; я покормлю ее.
Тетка подала девочку, и мне было слышно, как стал глотать проголодавшийся ребенок. Каждый глоток материнского молока щелкал ровно и отрывисто, проходя через маленькое горлышко младенца.
Некоторое время продолжалось молчание.
– Что ты из себя сделала, Зося? – сказала, наконец, тетка.
– Что, тетя?
– Страх на тебя смотреть.
– Это вам так кажется. Я совсем здорова.
– Какое там здоровье!
– Право, здорова. Это я немного простудилась, застудила груди, и только. Теперь все пройдет, – добавила она, помолчав немного.
– Вас-то я только перепугала, – проговорила опять больная.
– Полно глупости говорить.
– Право! Сколько хлопот наделала.
– Э! Стыдись.
– Ну, ну, не сердитесь же, тетя моя добрая. А невеста наша спит?
– Спит; что ей пока делается?
– Красавица моя! Какая она милочка; посмотрите на нее, тетя: точно спящий Амур.
– Давно ли ты была сто раз лучше ее.
– Ну где же там лучше, тетя?
– Мне лгать нечего: она мне дочь, а ты племянница.
– Она еще не расцвела, – сказала больная.
– Пожалуй, и не расцветет, а завянет, как ты.
– Далось же вам, тетя, что завяла я, да завяла. С чего вы это берете?
– Будет тоже, может быть, реветь коровою, как ты.
– Тетя! Когда ж это я ревела?
– Знаю, мой друг, все знаю.
– Нечего знать, тетя, – отвечала, вздохнув, молодая женщина.
– А глаза-то с чего запухли?
– От ветра. – Больная сама тихонько рассмеялась над собою и, вздохнув, проговорила: – Что же делать-то, что делать, тетя? Разом ничего не переделаешь: нужно терпение, сила воли, твердость, спокойствие, а последнего-то у меня и нет, в том вся и беда.
– А скоро и здоровья не станет.
– Станет, не бойтесь, кто любит, тот живуч.
– Из какой это книжки?
– Из той, что у меня бьется под ребром.
– А!
– Не сердитесь же, теточка.
– Чего сердиться! Мне просто жаль тебя, бесхарактерную женщину, и только.
– Иди, иди.
– Больше ничего не нужно?
– Да иди, надоел до смерти.
– Надоел! Чего надоел? Пан все шутит с бедного еврея.
– Иди же, Абрам!
– Иду, иду. Прощайте, пане!
Абрам затворил дверь, но тотчас отворил ее снова и сказал: «А як пан что надумает или что потребуется, то я ту зараз в каморке сплю; пусть только пан кукнет – я зараз».
– Иди от меня, Абрам! – крикнул я, окончательно выведенный из терпения.
– Иду, пане; доброй ночи.
«Чтоб тебя черт взял с твоею услужливостью!» – подумал я и запер дверь на ключ.
Спать мне, однако, не хотелось, потому что я выспался днем. Попробовал читать, но это оказалось неудобным, потому что глаза у меня разболелись от жестокого катара и покраснели, дополняя мое сходство с окунем. Я записал четыре последние вчерашние строчки моего дневника, лег в постель и погасил свечку. Вскоре, однако, я удостоверился, что если бы я и способен был заснуть тотчас после освобождения от нашествия Абрама, то этого мне не удалось бы. В нумере моих соседок поднялась ужасная возня, о которой могут иметь понятие люди, вкусившие от прелестей семейной драмы. Ночью, когда все кругом спит, каждое движение, каждый звук гораздо слышнее, чем днем, и потому дощатая перегородка и щелистая дверь, отделявшие меня от моих соседок, как будто вовсе исчезли, и я слышал их в трех шагах от себя. Прежде всего больная гостья брала ножную ванну и жаловалась потом на крайнюю слабость. Ее уложили в постель, и горничная девушка стала выносить воду, а панна Ксавера ходила по комнате, укачивая изредка взвизгивающего ребенка. Но не прошло часа, как с больной сделался жестокий припадок истерики. Я слышал, как тетка и панна Ксавера держали ей руки, как больная дергалась в конвульсиях на скрипучей кровати. Она хохотала, рыдала, звала Генриха, кляла себя, людей… Ужасный припадок! Я в жизнь мою не видал такого жестокого припадка.
Часа через полтора, однако, все утихло; больная уснула, и в комнате только изредка перешептывались, но так тихо, что я ничего не мог расслышать, и сам незаметно уснул. Не знаю, долго ли я проспал, кажется, очень недолго. Меня разбудил слабый детский плач в комнате моих соседок.
– Дайте мне ее, тетя! – слабо проговорила больная.
– Спи, спи, мой друг, я ее закачаю, – отвечала тетка.
– Нет, тетя, дайте; она, бедная, голодна; я покормлю ее.
Тетка подала девочку, и мне было слышно, как стал глотать проголодавшийся ребенок. Каждый глоток материнского молока щелкал ровно и отрывисто, проходя через маленькое горлышко младенца.
Некоторое время продолжалось молчание.
– Что ты из себя сделала, Зося? – сказала, наконец, тетка.
– Что, тетя?
– Страх на тебя смотреть.
– Это вам так кажется. Я совсем здорова.
– Какое там здоровье!
– Право, здорова. Это я немного простудилась, застудила груди, и только. Теперь все пройдет, – добавила она, помолчав немного.
– Вас-то я только перепугала, – проговорила опять больная.
– Полно глупости говорить.
– Право! Сколько хлопот наделала.
– Э! Стыдись.
– Ну, ну, не сердитесь же, тетя моя добрая. А невеста наша спит?
– Спит; что ей пока делается?
– Красавица моя! Какая она милочка; посмотрите на нее, тетя: точно спящий Амур.
– Давно ли ты была сто раз лучше ее.
– Ну где же там лучше, тетя?
– Мне лгать нечего: она мне дочь, а ты племянница.
– Она еще не расцвела, – сказала больная.
– Пожалуй, и не расцветет, а завянет, как ты.
– Далось же вам, тетя, что завяла я, да завяла. С чего вы это берете?
– Будет тоже, может быть, реветь коровою, как ты.
– Тетя! Когда ж это я ревела?
– Знаю, мой друг, все знаю.
– Нечего знать, тетя, – отвечала, вздохнув, молодая женщина.
– А глаза-то с чего запухли?
– От ветра. – Больная сама тихонько рассмеялась над собою и, вздохнув, проговорила: – Что же делать-то, что делать, тетя? Разом ничего не переделаешь: нужно терпение, сила воли, твердость, спокойствие, а последнего-то у меня и нет, в том вся и беда.
– А скоро и здоровья не станет.
– Станет, не бойтесь, кто любит, тот живуч.
– Из какой это книжки?
– Из той, что у меня бьется под ребром.
– А!
– Не сердитесь же, теточка.
– Чего сердиться! Мне просто жаль тебя, бесхарактерную женщину, и только.