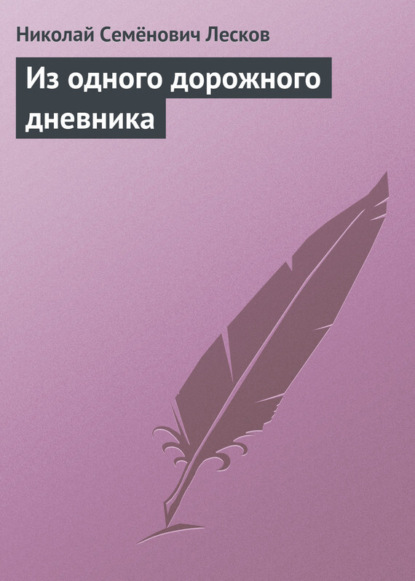По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из одного дорожного дневника
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не вставайте; я вам налью чаю.
– Нет, благодарю; я не пью, не умывшись.
– Але ж сапог нет, – отвечала она, снова лукаво улыбаясь, – простудит пан ноги.
– Пошлите мне Абрама.
– Абрама?
– Да, Абрама.
– На что пану тот Абрам?
– Пожалуйста, пошлите.
– Хорошо, я пошлю.
Еврейка пожала плечами и, сделав презрительную улыбку, вышла из комнаты.
– Чего, пану? – крикнул Абрамка, вскочивший с несколько сконфуженным лицом.
– Во-первых, тише говори, потому что здесь кругом спят люди; потом сейчас принеси мои сапоги и затем не смей показываться, когда я тебя не зову.
Абрам ушел молча, принес вычищенные сапоги и не явился даже убрать самовар.
В 10 часов пришел К—ч, и мы отправились смотреть развалины Коложи. Коложею здесь называются остатки православной церкви, выстроенной пленными калужцами. Впоследствии эта церковь принадлежала базилянам, а потом совсем упразднена и теперь находится в таком положении, что поправить ее или хотя как-нибудь поддержать совсем невозможно. Обрывистый берег, на котором стоят остатки гродненской Коложи, ежегодно осыпается и уносит с собою часть развалин. Стена, обращенная к реке, уже упала вниз, и только куски кирпичей, застрявшие в береговых углублениях, свидетельствуют о пути, по которому стена летела к Неману. Остальные три стены дали очень широкие трещины и тоже угрожают неожиданным падением. Внутренность Коложи испещрена круглыми отверстиями: это горшки, вмазанные в стены вместе с кирпичами. Один из этих горшков я видел в виленском музее. Цветом он очень напоминает муравленный русский горшок, а фигурою похож на молочные кубаны, которые делают около Кром, в Орловской губернии. На одной из наружных стен Коложи есть кресты, сделанные из вставленных между кирпичами поливных зеленых кафель. Около Коложи есть сад, совершенно запущенный, дом, где жили последние базиляне, тоже запущенный, и огороды. Говорят, что отцы базиляне и на бесплодной гродненской почве умели получать прекрасные садовые и огородные плоды, держали красивый рогатый скот и славились своим гостеприимством и хлебосольством. Теперь здесь кругом все пусто и бесцветно; на огороде виднеются тощие кочни капусты, и ветер стучит кусками отстающей крыши. В хате со въезда мы нашли одну бабу, которая ничего не умела нам рассказать. Поля, по которым мы приезжали от города к Коложе, засеяны картофелем. Грунт такой же белый и холодный, как и по всему литовскому тракту. В Гродне есть улица, называемая «Калужскою». Полагают, что здесь жили калужане, приведенные в плен литовцами. Ни порядочных магазинов, ни красивых улиц в Гродне я не видал. Дом губернатора, низенький, одноэтажный, очень характеристичен. Он еще старой литовской постройки. Торговой жизни в Гродно вовсе не заметно, и вообще, по мнению обывателей, город этот не имеет будущности и во многом уже уступает Белостоку, отстоящему от него на 75 верст по Варшавской железной дороге. Побродив по улицам, в 2 часа мы зашли обедать в клуб. Здесь есть даже русские газеты: «Петербургские ведомости», «Искра» и «Журнал министерства народного просвещения». За очень хороший обед, две рюмки старой водки и 2 бутылки хорошего пива с нас взяли 1 р. 80 копеек. Непонятная дешевизна в голодном крае, в городе, живущем исключительно привозным издалека хлебом, который теперь становится дороже, потому что Варшавская железная дорога увеличила потребности съестных припасов, но, проходя по местности бедной и не соприкасаясь с пунктами, производящими отпуск хлеба, нимало не способствует увеличению продовольственных продуктов.
Находясь еще под влиянием впечатлений прошедшей ночи, я спросил К—ча: «Как развивается в польском обществе идея о женской эмансипации?»
– Да как видите в литературе.
– Ну, я не могу сказать, что знаю польскую литературу.
– В беллетристике можно ясно видеть положение этой идеи.
– Да если судить по беллетристике, так мы вас опередили.
– Чем это?
– У нас женский протест необыкновенно силен.
– Положение, верно, хуже.
– Ну, нет, этого сказать нельзя.
– В чем же протест?
– Свободы требуют.
– Какой свободы?
– Независимости чувству, уничтожения обязательных отношений.
– Разводов хотят, что ли? Или брак совсем долой?
– Я до сих пор еще не видал ни одной русской протестантки, которая уяснила бы мне, чего она хочет, – отвечал я.
– У нас этого нет. У нас, конечно, случается всякое, люди не ангелы; но женщина крепко держится семьи и мужа.
– Это, может быть, женщины стародавнего покроя?
– Нет, и молодые. Развод у нас невозможен, и случаи разводов очень редки.
– А житье врознь?
– Необыкновенно редко, и то у магнатов: а в среднем классе и в низшем едва ли встретите.
– Стало быть, в семьях все рай земной?
– Ну, рай не рай, деваться некуда. Наши женщины в семье необыкновенно терпеливы, тягучи, сносливы. Они, пожалуй, биготки; у них есть много странностей и недостатков, вследствие которых они дома не так обаятельны, как на бале. В раю с ними себя не всегда почувствуешь, – добавил К—ч, улыбаясь, – но зато всегда почувствуешь себя возле жены дома. Они не любят проводить век в сборах и, войдя в дом мужа, раз навсегда входят в права жены. О! Наши женщины сами немножко деспотки; чего им эмансипироваться?
– Деспотки?
– То есть, как деспотки! Видите, здесь жене не приходит в голову мысль расставаться. Разве негодяй-муж ее бросит, а сама она к разлуке шага сделать не задумает. Наши женщины очень серьезно смотрят на…
– Ну, а если в семье нет лада?
– Она станет искать его.
– А как не сыщет?
– О! Это очень редко. Я вам говорю, они необыкновенно тягучи. Они переиспытают все средства и не теряют надежды даже тогда, когда ее уже, кажется, совсем нет.
– Но есть же исключения? По некоторым данным можно с вами не согласиться, – сказал я, припоминая двоих моих знакомых, вывезших жен из Варшавы.
– Исключения есть везде, но, надеюсь, мы говорим не об исключениях. Развратные жены есть и в Америке; но американская беллетристика не переполнена ими именно потому, что экземпляры эти суть исключения. Наша литература тоже свободна от требований вашей темной эмансипации, потому что в обществе нет этого требования.
– Так у вас парижским бракам не сочувствуют?
– Положительно нет. Наши женщины слишком знают жизнь и не поставят на карту ни себя, ни детей. Э! Да у нас об этом и разговоров нет, – добавил К—ч, махнув рукою.
Диковинное дело! В половине варшавской чугунки уже не верят в социализм и не ждут счастья от брака вне брака. А по обоим концам Николаевской железной дороги немало людей, которые очень легко верят первому, и еще больше таких, которые ждут всего хорошего от второго. За Москву, к Курску в одну сторону и к Саратову в другую, над социализмом подсмеиваются; но из трех дам, встречающихся в любой гостиной, одна непременно уверена, что все несчастья человеческого рода происходят от того, что существует брак, или, яснее выразиться, что женщина не может, по своему произволу, сходиться и расходиться по первому желанию, не неся за это никакого упрека от общества. Нынешним летом я ехал в дилижансе по выходящему из Москвы шоссе. Со мною ехали три незнакомые, еще довольно молодые дамы. В разговорах мало-помалу оказалось, что все они замужем, и все не живут со своими мужьями. Сверх того, каждая из них еще вспомнила, по крайней мере, трех своих приятельниц, которые тоже с мужьями разъехались.
Экая благодать какая! Интересно было бы собрать сведения, как это идет: из провинций ли в столицу собираются особы, не годные к сожительству в браке, или столицы служат для них рассадниками?
13-го сентября. Гродно.
Вчера мы не выехали. Зато я ночью прекрасно выспался и вдобавок видел наяву пани Софью, которую, до разговора с К—чем, считал «последнею из могикан» в своем роде. Видел я ее вот каким образом: только что я возвратился после обеда из клуба, Абрам приотворил дверь на один дюйм и, просунув нос, прошептал:
– Нет, благодарю; я не пью, не умывшись.
– Але ж сапог нет, – отвечала она, снова лукаво улыбаясь, – простудит пан ноги.
– Пошлите мне Абрама.
– Абрама?
– Да, Абрама.
– На что пану тот Абрам?
– Пожалуйста, пошлите.
– Хорошо, я пошлю.
Еврейка пожала плечами и, сделав презрительную улыбку, вышла из комнаты.
– Чего, пану? – крикнул Абрамка, вскочивший с несколько сконфуженным лицом.
– Во-первых, тише говори, потому что здесь кругом спят люди; потом сейчас принеси мои сапоги и затем не смей показываться, когда я тебя не зову.
Абрам ушел молча, принес вычищенные сапоги и не явился даже убрать самовар.
В 10 часов пришел К—ч, и мы отправились смотреть развалины Коложи. Коложею здесь называются остатки православной церкви, выстроенной пленными калужцами. Впоследствии эта церковь принадлежала базилянам, а потом совсем упразднена и теперь находится в таком положении, что поправить ее или хотя как-нибудь поддержать совсем невозможно. Обрывистый берег, на котором стоят остатки гродненской Коложи, ежегодно осыпается и уносит с собою часть развалин. Стена, обращенная к реке, уже упала вниз, и только куски кирпичей, застрявшие в береговых углублениях, свидетельствуют о пути, по которому стена летела к Неману. Остальные три стены дали очень широкие трещины и тоже угрожают неожиданным падением. Внутренность Коложи испещрена круглыми отверстиями: это горшки, вмазанные в стены вместе с кирпичами. Один из этих горшков я видел в виленском музее. Цветом он очень напоминает муравленный русский горшок, а фигурою похож на молочные кубаны, которые делают около Кром, в Орловской губернии. На одной из наружных стен Коложи есть кресты, сделанные из вставленных между кирпичами поливных зеленых кафель. Около Коложи есть сад, совершенно запущенный, дом, где жили последние базиляне, тоже запущенный, и огороды. Говорят, что отцы базиляне и на бесплодной гродненской почве умели получать прекрасные садовые и огородные плоды, держали красивый рогатый скот и славились своим гостеприимством и хлебосольством. Теперь здесь кругом все пусто и бесцветно; на огороде виднеются тощие кочни капусты, и ветер стучит кусками отстающей крыши. В хате со въезда мы нашли одну бабу, которая ничего не умела нам рассказать. Поля, по которым мы приезжали от города к Коложе, засеяны картофелем. Грунт такой же белый и холодный, как и по всему литовскому тракту. В Гродне есть улица, называемая «Калужскою». Полагают, что здесь жили калужане, приведенные в плен литовцами. Ни порядочных магазинов, ни красивых улиц в Гродне я не видал. Дом губернатора, низенький, одноэтажный, очень характеристичен. Он еще старой литовской постройки. Торговой жизни в Гродно вовсе не заметно, и вообще, по мнению обывателей, город этот не имеет будущности и во многом уже уступает Белостоку, отстоящему от него на 75 верст по Варшавской железной дороге. Побродив по улицам, в 2 часа мы зашли обедать в клуб. Здесь есть даже русские газеты: «Петербургские ведомости», «Искра» и «Журнал министерства народного просвещения». За очень хороший обед, две рюмки старой водки и 2 бутылки хорошего пива с нас взяли 1 р. 80 копеек. Непонятная дешевизна в голодном крае, в городе, живущем исключительно привозным издалека хлебом, который теперь становится дороже, потому что Варшавская железная дорога увеличила потребности съестных припасов, но, проходя по местности бедной и не соприкасаясь с пунктами, производящими отпуск хлеба, нимало не способствует увеличению продовольственных продуктов.
Находясь еще под влиянием впечатлений прошедшей ночи, я спросил К—ча: «Как развивается в польском обществе идея о женской эмансипации?»
– Да как видите в литературе.
– Ну, я не могу сказать, что знаю польскую литературу.
– В беллетристике можно ясно видеть положение этой идеи.
– Да если судить по беллетристике, так мы вас опередили.
– Чем это?
– У нас женский протест необыкновенно силен.
– Положение, верно, хуже.
– Ну, нет, этого сказать нельзя.
– В чем же протест?
– Свободы требуют.
– Какой свободы?
– Независимости чувству, уничтожения обязательных отношений.
– Разводов хотят, что ли? Или брак совсем долой?
– Я до сих пор еще не видал ни одной русской протестантки, которая уяснила бы мне, чего она хочет, – отвечал я.
– У нас этого нет. У нас, конечно, случается всякое, люди не ангелы; но женщина крепко держится семьи и мужа.
– Это, может быть, женщины стародавнего покроя?
– Нет, и молодые. Развод у нас невозможен, и случаи разводов очень редки.
– А житье врознь?
– Необыкновенно редко, и то у магнатов: а в среднем классе и в низшем едва ли встретите.
– Стало быть, в семьях все рай земной?
– Ну, рай не рай, деваться некуда. Наши женщины в семье необыкновенно терпеливы, тягучи, сносливы. Они, пожалуй, биготки; у них есть много странностей и недостатков, вследствие которых они дома не так обаятельны, как на бале. В раю с ними себя не всегда почувствуешь, – добавил К—ч, улыбаясь, – но зато всегда почувствуешь себя возле жены дома. Они не любят проводить век в сборах и, войдя в дом мужа, раз навсегда входят в права жены. О! Наши женщины сами немножко деспотки; чего им эмансипироваться?
– Деспотки?
– То есть, как деспотки! Видите, здесь жене не приходит в голову мысль расставаться. Разве негодяй-муж ее бросит, а сама она к разлуке шага сделать не задумает. Наши женщины очень серьезно смотрят на…
– Ну, а если в семье нет лада?
– Она станет искать его.
– А как не сыщет?
– О! Это очень редко. Я вам говорю, они необыкновенно тягучи. Они переиспытают все средства и не теряют надежды даже тогда, когда ее уже, кажется, совсем нет.
– Но есть же исключения? По некоторым данным можно с вами не согласиться, – сказал я, припоминая двоих моих знакомых, вывезших жен из Варшавы.
– Исключения есть везде, но, надеюсь, мы говорим не об исключениях. Развратные жены есть и в Америке; но американская беллетристика не переполнена ими именно потому, что экземпляры эти суть исключения. Наша литература тоже свободна от требований вашей темной эмансипации, потому что в обществе нет этого требования.
– Так у вас парижским бракам не сочувствуют?
– Положительно нет. Наши женщины слишком знают жизнь и не поставят на карту ни себя, ни детей. Э! Да у нас об этом и разговоров нет, – добавил К—ч, махнув рукою.
Диковинное дело! В половине варшавской чугунки уже не верят в социализм и не ждут счастья от брака вне брака. А по обоим концам Николаевской железной дороги немало людей, которые очень легко верят первому, и еще больше таких, которые ждут всего хорошего от второго. За Москву, к Курску в одну сторону и к Саратову в другую, над социализмом подсмеиваются; но из трех дам, встречающихся в любой гостиной, одна непременно уверена, что все несчастья человеческого рода происходят от того, что существует брак, или, яснее выразиться, что женщина не может, по своему произволу, сходиться и расходиться по первому желанию, не неся за это никакого упрека от общества. Нынешним летом я ехал в дилижансе по выходящему из Москвы шоссе. Со мною ехали три незнакомые, еще довольно молодые дамы. В разговорах мало-помалу оказалось, что все они замужем, и все не живут со своими мужьями. Сверх того, каждая из них еще вспомнила, по крайней мере, трех своих приятельниц, которые тоже с мужьями разъехались.
Экая благодать какая! Интересно было бы собрать сведения, как это идет: из провинций ли в столицу собираются особы, не годные к сожительству в браке, или столицы служат для них рассадниками?
13-го сентября. Гродно.
Вчера мы не выехали. Зато я ночью прекрасно выспался и вдобавок видел наяву пани Софью, которую, до разговора с К—чем, считал «последнею из могикан» в своем роде. Видел я ее вот каким образом: только что я возвратился после обеда из клуба, Абрам приотворил дверь на один дюйм и, просунув нос, прошептал: