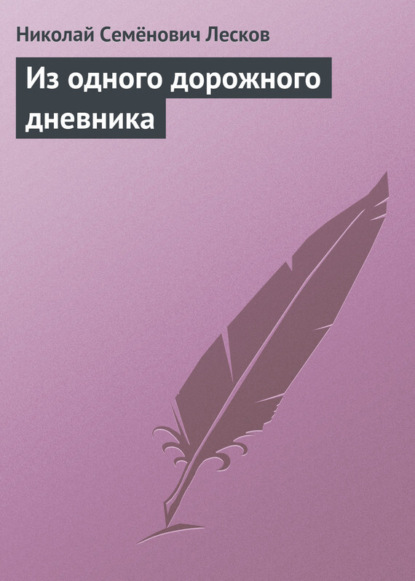По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из одного дорожного дневника
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, так что же?
– Твое промотал.
– То есть не умел распорядиться.
– С этого места теперь сгонят.
– Отчего же? Помещик им очень доволен; ну, а не это место, так другое будет. Плакать не станем.
– Да двух старших за руки, а Мальвинку за пазуху, да и в поход! – иронически и даже злобно сказала тетка.
Больная долго молчала и потом, вздохнув, спросила спокойно и решительно: «Чего же вы от меня хотите? Что, по-вашему, я должна делать?»
– Забирать детей и ехать к отцу.
– Нет, этого я не сделаю.
– Ну, и голодай сама, и мори детей.
– У детей есть все, что им пока нужно.
– А у самой что осталось?
– Тетя! Отчего вы мне этого не говорили, пока у нас была Кастановка?
– Тогда не то было.
– То же самое.
– По крайней мере, ты жила пристойно; на возе не ездила. Тогда можно было еще ждать лучшего.
– Я и теперь жду лучшего и верю, что оно придет.
– Когда рак свистнет.
Больная сделала движение на кровати, которая резко скрипнула.
– Боже мой! – сказала она, – да неужели дети мои будут счастливее, если я разлучу их с отцом, которого они любят и который их любит!
– Как он их любит?
– Как умеет, так и любит; больше, может быть, чем думают.
– А о себе ты не думаешь?
– О себе?
– Да, о себе?
– Позвольте, тетя: я вас не понимаю. Мое счастье в том, чтоб воспитывать детей и видеть их вместе с их отцом, который знает, что у него нет большего друга, как я.
– До встречи с первой юбкой.
– Он человек, в котором не воспитана воля, но он знает свои пороки, он любит детей, он страдает, он хочет быть иным человеком.
– Пусть по-твоему; пусть исправляется, но пока что будет, не мучь же ты себя.
– Чем?
– Нуждою.
– Тетя! Что вы обо мне думаете?
– Как что?
– Что я такое: жена или содержанка?– Больная сделала ударение на последнем слове. – Ведь только содержанки живут, пока хорошо живется, а жены так не делают.
– С тобой не сговоришь, – отрывисто ответила тетка.
– А правда, что не сговорите, тетя; ложитесь лучше спать.
– Спи с Богом!
– Благодарю, тетя! – Кровать опять скрипнула, и в комнате настала совершенная тишина, только изредка раздавались сдержанные вздохи больной, да панна Ксавера два раза рассмеялась сквозь сон. Спала ли панна Софья, Бог ее знает; но я имею основание в этом сомневаться, потому что слышно было, как она беспрестанно ворочалась на постели. Разговор этот меня очень встревожил, но я заснул, когда было уже совсем светло. В 7 часов кто-то постучался в мою дверь. Отпер – смотрю, Абрам, и с самоваром в руках.
– Зачем так рано?
– Чем рано, пане?
– Семь часов.
– Ну! Восьмой час. А я скажу пану: какой я презент (подарок) пану приготовил!
– Какой презент?
– Ну, уж пан увидит, – и Абрам, захватив мои сапоги и платье, убежал, оставив самовар без чайного прибора.
Через пять минут после выхода Абрама дверь снова отворилась и молодая полненькая евреечка внесла поднос с чайником и двумя стаканами.
– День добрый, пану! – сказала она прежде, чем успела дойти до стола, на котором стоял кипящий самовар.
– День добрый, – отвечал я, поднимая на голову свое одеяло.
– Залить пану чай?
– Нет, благодарю: я сам залью.
– Зачем беспокоиться! Простудиться можно, – улыбаясь, отвечала еврейка и, не говоря ничего более, заварила чай.
– Твое промотал.
– То есть не умел распорядиться.
– С этого места теперь сгонят.
– Отчего же? Помещик им очень доволен; ну, а не это место, так другое будет. Плакать не станем.
– Да двух старших за руки, а Мальвинку за пазуху, да и в поход! – иронически и даже злобно сказала тетка.
Больная долго молчала и потом, вздохнув, спросила спокойно и решительно: «Чего же вы от меня хотите? Что, по-вашему, я должна делать?»
– Забирать детей и ехать к отцу.
– Нет, этого я не сделаю.
– Ну, и голодай сама, и мори детей.
– У детей есть все, что им пока нужно.
– А у самой что осталось?
– Тетя! Отчего вы мне этого не говорили, пока у нас была Кастановка?
– Тогда не то было.
– То же самое.
– По крайней мере, ты жила пристойно; на возе не ездила. Тогда можно было еще ждать лучшего.
– Я и теперь жду лучшего и верю, что оно придет.
– Когда рак свистнет.
Больная сделала движение на кровати, которая резко скрипнула.
– Боже мой! – сказала она, – да неужели дети мои будут счастливее, если я разлучу их с отцом, которого они любят и который их любит!
– Как он их любит?
– Как умеет, так и любит; больше, может быть, чем думают.
– А о себе ты не думаешь?
– О себе?
– Да, о себе?
– Позвольте, тетя: я вас не понимаю. Мое счастье в том, чтоб воспитывать детей и видеть их вместе с их отцом, который знает, что у него нет большего друга, как я.
– До встречи с первой юбкой.
– Он человек, в котором не воспитана воля, но он знает свои пороки, он любит детей, он страдает, он хочет быть иным человеком.
– Пусть по-твоему; пусть исправляется, но пока что будет, не мучь же ты себя.
– Чем?
– Нуждою.
– Тетя! Что вы обо мне думаете?
– Как что?
– Что я такое: жена или содержанка?– Больная сделала ударение на последнем слове. – Ведь только содержанки живут, пока хорошо живется, а жены так не делают.
– С тобой не сговоришь, – отрывисто ответила тетка.
– А правда, что не сговорите, тетя; ложитесь лучше спать.
– Спи с Богом!
– Благодарю, тетя! – Кровать опять скрипнула, и в комнате настала совершенная тишина, только изредка раздавались сдержанные вздохи больной, да панна Ксавера два раза рассмеялась сквозь сон. Спала ли панна Софья, Бог ее знает; но я имею основание в этом сомневаться, потому что слышно было, как она беспрестанно ворочалась на постели. Разговор этот меня очень встревожил, но я заснул, когда было уже совсем светло. В 7 часов кто-то постучался в мою дверь. Отпер – смотрю, Абрам, и с самоваром в руках.
– Зачем так рано?
– Чем рано, пане?
– Семь часов.
– Ну! Восьмой час. А я скажу пану: какой я презент (подарок) пану приготовил!
– Какой презент?
– Ну, уж пан увидит, – и Абрам, захватив мои сапоги и платье, убежал, оставив самовар без чайного прибора.
Через пять минут после выхода Абрама дверь снова отворилась и молодая полненькая евреечка внесла поднос с чайником и двумя стаканами.
– День добрый, пану! – сказала она прежде, чем успела дойти до стола, на котором стоял кипящий самовар.
– День добрый, – отвечал я, поднимая на голову свое одеяло.
– Залить пану чай?
– Нет, благодарю: я сам залью.
– Зачем беспокоиться! Простудиться можно, – улыбаясь, отвечала еврейка и, не говоря ничего более, заварила чай.