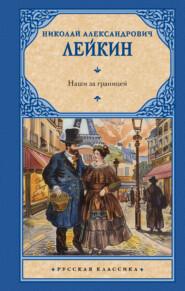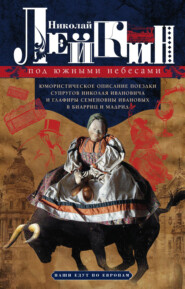По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Саврасы без узды. Истории из купеческой жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну вот! Уж и с водкой. Будет с тебя, что и так граненый графин с рюмками.
– Да… С каждым годом народ-то умудряется все больше и больше… – протягивает купец. – Чего доброго, опять задумают строить Вавилонскую башню до небес.
– Да ведь Вавилон-то, говорят, провалился сквозь землю за это.
– То Содом. А Вавилон и посейчас стоит, только там безъязычные англичане родятся. Так я опять об дряни-то. Мы вот в Апраксином переулке живем. Так у нас по квартирам ходил один немец и деревянные катушки из-под ниток сбирал. Спрашивали тут у нас, на что ему эти самые катушки. «Мыло, – говорит, – из них варить буду».
– Знаю я этого немца, – слышен голос. – Он, окромя того, сургуч с конвертов сбирает. Только про сургуч он нам сказывал, что на такую потребу, чтоб родителю своему памятник на могилу отлить. Проклял, вишь ты, его родитель евонный – вот он, чтоб заклятие с себя снять, и сбирает ему сургуч на памятник. Еле ходит немец, словно на тараканьих ногах, и совсем нутром помутившись от этой анафемы.
– Помутишься! Родительская анафема хуже семи лихорадок измает. А то вот, господа, есть такие люди, что билеты от конки сбирают.
– Это в лекарство. Те от груди пьют, чтоб мокроту гнало. Заварят как бы чай и пьют.
– Вовсе и не в лекарство, вовсе и не от груди. А дело в том, что англичане в газетах объявили, что кто десять миллионов билетов соберет и в город Англию предоставит, тому они хмельные острова отдадут.
– Какие хмельные острова?
– Мадерные. Где мадера и ром делается. Отняли они их от турок да стали замечать, что очень уж спиваться с кругу начали и совсем от делов отбились, так вот, что себе не мило, то попу в кадило.
– Вы это про билеты конно-лошадиной дороги? – слышится вопрос.
– Про них самых.
– Вот не в ту жилу и попали. Англичане такой интерес держут, чтоб тридцать миллионов почтовых марок собрать! Что им конно-лошадиные билеты! Какой в них вкус? А кто тридцать миллионов марок сберет и представит ихнему банкиру, то банкир сейчас жениться обещался. Триста миллионов у него.
– А ежели мужчина предоставит?
– Эта публикация только для женского пола относится. Одна гувернантка сбирала. И уж совсем было собрала, осталось всего каких-нибудь полсотни собрать – вдруг пожар, и все прахом пошло! Сразу с горя рехнулась, и такая штука, что в одну ночь у ней полголовы с отчаяния поседело: одна половина черная осталась, а другая – как лен белая.
– Дозвольте узнать, с чего это опять сегодня лектричество зажгли? – спрашивает какая-то женщина.
– Лектричество-то с чего палят? А сегодня в манеже, на конской выставке медали лошадям раздавали, ну вот по сему случаю и зажгли.
– Лошадям медали? Да что вы, батюшка! Не хотите ответить, так не надо.
– Что ж тут удивительного? Откуда вы приехали? Ноне и телятам медали давали. Вон будет цветочная выставка, так и на древеса навесят. Какая-нибудь камелия в цвету и будет в серебряной или золотой медали.
– Ах эдакие… А я думала… Ну, пардон.
– Ничего-с. Окромя того, почетное гражданство лошадям раздавали.
– Почетное дипломство, – поправляет кто-то.
– Все равно: что дипломство, что гражданство. Все-таки почет большой. Уж та лошадь, у которой почетная бумага, – ее в солдаты не возьмут, она от конской повинности освобождена.
– И купцы получали?
– Купцы. То есть опять-таки купеческие жеребцы. И такое торжество в буфете на выставке было, что страсть! Одного рысака на радостях начали даже шампанским поливать.
Через Невский по направлению к памятнику Екатерины переходят молодой человек и девушка.
– При керосине я имел любовное объяснение, при сальной и стеариновой свечке тоже, раз даже и при восковой покусился; при газе – былое дело, при бенгальском огне – то же самое, теперь позвольте мне при электрическом свете свое сердечное откровение сделать. Авось чрез это самое моя пламенность удачнее будет, – говорит он.
– Ах, оставьте, пожалуйста! Все-то вы с интригами, – отвечает она.
– Какая ж тут интрига, коли я даже душу свою перед вами выворотить могу.
– Ну что ж из этого? Выворотите, а в ней и окажется дырка.
– Мерси за комплимент. Прощайте! Стоило после этого вам на Пасху сахарное яйцо с музыкой дарить! А я еще такое мечтание имел, чтоб впоследствии драповое пальто с плюмажем…
Молодой человек раскланивается и отходит.
– Петр Иваныч! Куда же вы? – кричит ему вслед девушка. – Уж и сказать ничего нельзя!
Мамка
В одном семейном доме собрались вечером на Святой неделе гости и в ожидании партии в преферанс, вист или стукалку пили чай в гостиной и разговаривали. Были тут молодые люди, пожилые и старики; были холостые и женатые. Разговор шел о разных предметах, но как-то плохо клеился. Внимание всех мужчин было обращено на нарядную, молодую и красивую мамку-кормилицу, поминутно мелькавшую то в спальной, то в столовой, то в прихожей. Время от времени мамка, подходя к дверям, заглядывала в гостиную и с любопытством смотрела на гостей. Это была совсем русская красавица: полная, белая, румяная, темнобровая. Роскошный шелковый штофный сарафан, повойник и белая кисейная рубашка делали ее еще привлекательнее. Мужчины всех возрастов чуть не отвертели себе головы, оборачиваясь в ту сторону, где появлялась мамка, и отвечали на вопросы дам невпопад.
– А куличи, Петр Анкудиныч, вы у себя дома пекли или в булочной покупали? – спрашивала тощая дама солидного кругленького толстячка с сердоликовой печатью на часовой цепочке.
– Да, дома-с… Нельзя без кулича. Только булочник Иванов слишком много изюму и апельсинной корки в него положил, – отвечал толстячок, потирая лысину, и тут же прибавил: – Ах, мамка-то – какая прелесть!
– То есть как же это? Пекли дома, а булочник Иванов изюм клал? – недоумевала дама.
– Нет-с, дома мы куличей не пекли. Это я так… Вы спрашиваете, а я на мамку загляделся. Не стоит дома печь, больше припасов испортят, чем напекут.
– А почем платили?
– Два рубли дал за мамку и рубль за пасху… Яйца дома красили.
– Как за мамку?
– Ах, что я!.. Я вот все на мамку-то любуюсь. Два рубли за кулич и рубль за пасху. Дорогонько, да зато уж и прелесть же! Просто кровь с молоком, а рыхлость – восторг.
– Да вы опять про мамку?
– Нет-с, я про кулич!.. Вот я все думаю: христосовался я с мамкой или не христосовался? Впопыхах-то я и забыл. Кажется, что не христосовался. Лучше похристосоваться.
Солидный толстяк встал с места и направился в столовую, где мелькал сарафан мамки.
– Христос воскрес, матушка! – сказал он.
– Да я с вами, барин, уже христосовалась, – отвечала мамка. – Вы ко мне подходили.
– Что ты! Что ты! Это, верно, был не я, а другой кто-нибудь, и ты ошиблась. Здесь есть такой же полный мужчина, как и я, и даже лицом на меня похож.
– Ах, сударь, да неужто я дура беспамятная? Окромя того, у меня глаза есть. Вы еще меня щетиной своей укололи. Вот и полтинник мне в руку сунули.