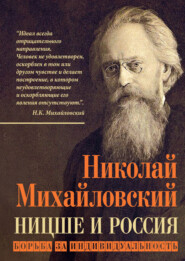По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Десница и шуйца Льва Толстого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Десница и шуйца Льва Толстого
Николай Константинович Михайловский
«Есть два типа социологических исследований. Одни исследователи принимают за точку отправления судьбы общества или цивилизации, сводят задачу науки к познанию существующего и не могут или не желают дать руководящую нить для практики. Другие отправляются от судеб личности, полагая, что общество и цивилизация сами по себе цены не имеют, если не служат удовлетворению потребности личности; далее эти исследователи думают, что наука обязана дать практике нужные указания и изучать не только существующее, а и желательное…»
Николай Константинович Михайловский
Десница и шуйца Льва Толстого[1 - Десница – правая рука, шуйца – левая рука (ред.)]
I
Есть два типа социологических исследований. Одни исследователи принимают за точку отправления судьбы общества или цивилизации, сводят задачу науки к познанию существующего и не могут или не желают дать руководящую нить для практики. Другие отправляются от судеб личности, полагая, что общество и цивилизация сами по себе цены не имеют, если не служат удовлетворению потребности личности; далее эти исследователи думают, что наука обязана дать практике нужные указания и изучать не только существующее, а и желательное. Который же из этих двух типов социологических исследований одобряется и который отвергается гр. Толстым?
Изучив сочинения этого замечательного писателя со всем тщанием, на какое я способен, я отвечаю: не знаю. И это не потому, что он, должно быть из боязни модного слова, несколько презирает «социологию». Можно всю жизнь говорить прозой, даже не зная слова «проза». Не важно, нравится кому-нибудь или нет слово социология. Важно то, что всякий, изучающий какое-нибудь общественное явление, необходимо держится одного из двух поименованных типов социологического исследования. Надо держаться которого-нибудь одного, потому что они логически исключают друг друга. Логически – да, но фактически они могут уживаться рядом, и в таком случае шуйца не будет знать, что делает десница, и наоборот. Шуйца и десница гр. Толстого находятся именно в таких взаимных отношениях. Поэтому-то я и отвечаю на свой вопрос: не знаю. Не знаю потому, что из сочинений гр. Толстого можно извлечь очень резкие суждения в пользу обоих, логически исключающих друг друга типов исследования.
Много лет тому назад гр. Толстой занялся педагогиею и занялся так, как у нас очень редко кто занимается своим делом. Он не только не принял на веру какой бы то ни было готовой теории образования и воспитания, но, так сказать, изрыл всю область педагогии вопросами. Это зачем? какие основания такого-то явления? какая цель такого-то? – вот с чем подходил гр. Толстой и к самой сути педагогии и к разным ее подробностям. Делал он это с истинно замечательною смелостью. Смелость бывает разного рода. Есть смелость дикарей, подбегающих к самым жерлам направленных на них пушек, чтобы заткнуть их своими шляпами; это – смелость невежд, не имеющих понятия о трудностях предпринимаемого ими дела. Есть смелость Угрюм-Бурчеевых, смелость мраколюбцев, почерпаемая в беззаветной ненависти к свету. Есть смелость нравственно пустопорожних людей, готовых идти в любой поход без всякого умственного и нравственного багажа, без знаний и убеждений и не рассчитывающих на победу, но и в поражении не видящих чего-нибудь печального или позорного. Есть смелость отчаяния, когда человек сознает, что дело его проиграно, и бросается в самый пыл битвы, чтобы погибнуть. Есть смелость бретеров, жаждущих борьбы для процесса борьбы. Есть, наконец, смелость людей, глубоко преданных своему делу и верящих, что оно не сегодня-завтра восторжествует, что оно должно восторжествовать. Ввиду идеала, который им так ясен и близок, им не приходится гнуться перед господствующими мнениями, не приходится в оставленном ими храме видеть все-таки храм и в низверженном ими внутри себя кумире все-таки бога. Педагогические воззрения гр. Толстого налицо (они собраны в IV томе его сочинений), и всякий непредубежденный человек должен признать, что смелость его была последнего рода. Он, например, открыто восставал против университетского образования в такое время, когда общество ценило его очень высоко; но восставал, надо заметить, совсем не с точки зрения Магницкого, ныне у московских ученых опять получающей вес и значение. Он отрицал университеты не потому, что боялся света и свободы, и не потому, что желал какой-нибудь монополии высшего образования, предоставления его исключительно какому-нибудь одному классу общества. Совсем напротив, он находил, что университетское образование не свободно. Далее он, например, говоря, собственно, о народных училищах, самым серьезным образом повторял вопрос знаменитой г-жи Простаковой: зачем нужна география? Тут двойная смелость. Смело задать этот вопрос, но еще смелее указать, что он был уже задан одним из наиболее осмеянных литературных типов и стал даже некоторой притчей во языцех. Я убежден, что ни один самый завзятый мраколюбец, даже полумифический Аскоченский это сделать не посмеет, а посмеет только человек свободного и пытливого ума, вложивший свой особенный смысл в вопрос матери Митрофанушки. Только человек, поднятый знанием дела и любовью к нему на известную высоту, осмелится придать некоторое значение вопросу глупой Простаковой и тут же рядом скептически взглянуть на какое-нибудь изречение весьма ученого и даже умного мужа. Но понятное дело, что такая смелость и свобода отношений к изучаемому предмету не могут прийтись всем по плечу. Всегда найдутся люди, которые, гоняясь за дешевыми лаврами, высыпят целых три короба либеральных, но не идущих к делу возражений в таком роде: а! так, значит, вы солидарны с г-жой Простаковой? Поздравввляю! Затем начинается победоносное нашествие на г-жу Простакову, которое оканчивается, разумеется, победой, а победа над глупой, грубой и необразованной г-жой Простаковой убеждает возражателей и кое-кого из читателей, что они необыкновенно умные и высокообразованные люди. Нет поэтому ничего удивительного в том, что воззрения, высказанные гр. Толстым самым резким, определенным образом, но с подробным мотивированием в журнале «Ясная Поляна», были встречены неодобрительно. Даже г. Страхов, которого трудно представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе, даже и тот, хотя и погладил его по головке, но в значительной степени против шерсти. Большинство видело в «яснополянских» теориях, сомнениях и вопросах только мистический ультрапатриотизм и славянофильство, то есть то именно, что и ныне валят господа педагоги на гр. Толстого, как шишки на бедного Макара.
Из критических статей, вызванных педагогическою ересью «Ясной Поляны», для нас особенно любопытна статья г. Маркова, появившаяся в «Русском вестнике». Любопытна она, впрочем, только потому, что гр. Толстой ответил на нее замечательной статьей «Прогресс и определение образования» (Сочинения, т. IV, 171–215). Статья г. Маркова мне только и известна по ответу гр. Толстого, я не счел нужным ее разыскивать. Репутация гр. Толстого двойственна: как из ряду вон выходящего беллетриста и как плохого мыслителя. Эта репутация обратилась уже в какую-то аксиому, не требующую никаких доказательств. Только силой непрокритикованного предания и можно объяснить, например, такой факт. В московском обществе любителей российской словесности кто-то читал отрывок из не напечатанной еще тогда второй части «Анны Карениной». «С.-Петербургским ведомостям» немедленно пишут (телеграфировать бы надо!), что отрывок изумителен, превосходен, велик и проч. И в подтверждение приводится такая черта: когда Анна Каренина, уже пораженная стрелой Амура, возвращается в Петербург и встречается с мужем, то ей кажется, будто у него выросли уши! Корреспондент так и ставит восклицательный знак, выражая тем свое изумление перед психологической глубиной и эстетической силой этой подробности. Бывают люди, репутация которых как остроумцев до такой степени установилась, что им стоит только поздравить именинника, разинуть рот, мигнуть, попросить стакан чаю и т. п., чтобы все присутствующие пришли в необычайно веселое настроение. Так-то вот и с гр. Толстым. А между тем, может быть, тот же самый корреспондент «С.-Петербургских ведомостей» считает себя вправе смотреть на педагогические теории гр. Толстого сверху вниз. Это очень возможно, во-первых потому, что этому соответствует утвердившаяся репутация гр. Толстого, а во-вторых потому, что холопское унижение стоит всегда рядом с холопской заносчивостью. Я не знаю, придется ли мне говорить о гр. Толстом как беллетристе. Вероятно, придется. Здесь замечу только следующее. Говоря об нем как о первоклассном художнике, обыкновенно подразумевают не только его творческую силу, но и язык, сильный, точный, сжатый, выразительный и проч. Вот и г. Бунаков, в письме в редакцию «Семьи и школы» (1874, № 10), пишет, что напечатанная в «Отечественных записках» статья гр. Толстого есть сплошная нелепость и «ложь, написанная увлекательно, остроумно и таким прекрасным языком, каким умеет писать один только автор „Войны и мира“. Тут сказывается все та же двойственная репутация гр. Толстого, которая, однако, как и большинство ходячих репутаций, далеко не вполне основательна. Читатель, надеюсь, сейчас убедится, что первая же статья гр. Толстого, на которую я обращаю его внимание, – „Прогресс и определение образования“, отличается, напротив, редкою трезвостью, ясностью и силою мысли и вместе с тем языком крайне неточным, неправильным, а подчас и совершенно неуклюжим.
Гр. Толстой дал следующее определение: „Образование есть деятельность человека, имеющая своим основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образования“. Это сказано до такой степени неточно, неправильно, неуклюже, до такой степени не по-русски, что определение выходит крайне плохое. Однако тут виновата не мысль гр. Толстого, заслуживающая, напротив, большого внимания, а только его неумение выразить свою мысль. Занявшись практически педагогией, гр. Толстой пожелал найти такое определение образования, которое указывало бы его цель и, следовательно, момент прекращения деятельности образовывающего и образовывающегося; определение это должно было дать критерий педагогики, то есть некоторую истину, с высоты которой можно бы было решить вопрос о том, чему и как следует учить. Гр. Толстой рассуждает так. В обществе действует несколько причин, побуждающих одних образовывать, а других образовываться. Возьмем сначала деятельность образовывающегося, ученика. Он может учиться для того, чтобы избежать наказания, – это, по определению гр. Толстого, „учение на основании послушания“; для получения награды или для того, чтобы быть лучше других, – „учение на основании самолюбия“; для получения выгодного положения в свете, – „учение на основании материальных выгод и честолюбия“. Гр. Толстой все тем же неточным и неуклюжим языком утверждает, что „на основании этих трех разрядов строились и строятся различные педагогические школы: протестантские – на послушании, католические, иезуитские – на основании соревнования и самолюбия, наши российские – на основании материальных выгод, гражданских преимуществ и честолюбия“. Могут ли быть эти основания введены в науку? Нет, отвечает гр. Толстой, главным образом по двум причинам: 1) „при таких основаниях нет общего критериума педагогики, – и богослов и естественник одновременно считают свои школы непогрешительными, а не свои школы положительно вредными“; 2) потому, что при системе образования, построенной на одном из перечисленных начал, „приобретаются привычки послушания, раздраженное самолюбие и материальные выгоды; но это, конечно, не суть прямые цели образования“. Деятельность образовывающего также управляется различными мотивами, из которых главные: „желание сделать людей такими, которые были бы для нас полезны (помещики, отдававшие дворовых в ученье и в музыканты, правительство, приготовляющее для себя офицеров, чиновников и инженеров)“; послушание и материальные выгоды; самолюбие; „желание сделать других людей участниками в своих интересах, передать им свои убеждения и с этою целью передать им свои знания“. Только этот последний мотив, только побуждение учителя уравнять с собой знания ученика и соответственное побуждение ученика сравняться в знании с учителем – гр. Толстой признает достойным лечь во главу угла науки педагогии. Как только образовывающий передал свои знания образовывающемуся, – цель образования на данном пункте достигнута: ученик может идти дальше, искать новых учителей, но учитель свое дело сделал, то есть прямое, непосредственное дело образования. Но равенство знаний может быть достигнуто не на низшей, а только на высшей ступени знания „по той простой причине, что ребенок может узнать то, что я знаю, а я не могу забыть того, чтО я знаю; и еще потому, что мне может быть известен образ мысли прошедших поколений, а прошедшим поколениям не может быть известен мой образ мысли“. Это-то и есть „неизменный закон движения вперед образования“. Вот что хотел сказать гр. Толстой своим неуклюжим определением образования. Я желал бы выяснить шуйцу и десницу гр. Толстого по возможности независимо от педагогики и затем уже приложить найденное к спору гр. Толстого с педагогами. Прием этот кажется мне потому удобным, что мы сразу получим, таким образом, руководящую нить, и нам не нужно будет долго засиживаться на мелочах и частностях текущей педагогической распри, которые выяснены уже достаточно. Тем не менее обойти на этот раз педагогику совсем – не представляется никакой возможности. Я должен привести теперь же по крайней мере один вывод, который делает гр. Толстой из своего определения образования, собственно для того, чтобы показать, что определение это есть не бесплодная экскурсия в область отвлеченной мысли. На основании своего определения образования гр. Толстой считает возможным указать следующую цель науки педагогики: она должна изучать условия, благоприятствующие и препятствующие совпадению стремлений образовывающих и образовывающихся в одной общей цели. Этого-то совпадения, по мнению гр. Толстого, и нет в деле народного образования. Народ хочет учиться, правительства и частные лица хотят его учить, но стремления эти не имеют до сих пор общей точки, не совпадают. Отсюда все трагикомические подробности народного образования. Для устранения их нужно одно – полная свобода для образовывающихся выбора программы учения. К этому последнему результату приводят гр. Толстого и некоторые другие соображения. Но для нас пока достаточно и сказанного.
Замечательно, что упомянутая статья „Русского вестника“ (г. Маркова) направлена, как можно судить по цитатам гр. Толстого, не столько против приведенного определения образования и выводов из него, сколько против самой задачи гр. Толстого. Г. Марков считает нелепыми самые вопросы о цели и критерии педагогики. Он пишет: „Ясную Поляну“ смущает то обстоятельство, что в различные времена люди учат различному и различно. Схоластики одному, Лютер другому, Руссо по-своему, Песталоцци опять по-своему. Она видит в этом невозможность установить критериум педагогики и на этом основании отвергает педагогику. А мне кажется, она сама указала на этот необходимый критериум, приводя упомянутые примеры. Критериум – в том, чтобы учить, соображаясь с потребностями времени. Он прост и в совершенном согласии с историей и логикой. Лютер оттого только и мог быть учителем целого столетия, что сам был созданием своего века, думал его мыслию и действовал по его вкусу. Иначе его огромное влияние было бы или невозможно, или сверхъестественно; не походи он на своих современников, он бы исчез бесплодно, как непонятное, никому не нужное явление, – пришелец среди народа, которого даже языка он не понимает. То же и с Руссо и всяким другим. Руссо формулировал в своих теориях накипевшую ненависть своего века к формализму и искусственности, его жажду простых, сердечных отношений. Это была неизбежная реакция против версальского склада жизни, и, если бы только один Руссо чувствовал ее, – не явился бы век романтизма, не явились бы универсальные замыслы переродить человечество, декларации прав, Карлы Мооры и все подобное…6 Мне непонятно, чего бы хотел гр. Толстой от педагогии. Он все о крайней цели, о незыблемом критериуме хлопочет. Нет этих – так, по его мнению, не нужно никаких. Отчего же не вспомнит он о жизни отдельного человека, о своей собственной? Ведь он, конечно, не знает крайней цели своего существования, не знает общего философского критериума для деятельности всех периодов своей жизни. А ведь живет же он и действует; и оттого только живет и действует, что в детстве имел одну цель и один критериум, в молодости другие, теперь опять новые, и так далее».
Вот образец социологического исследования первого типа. Здесь налицо все признаки этого рода исследований. Г. Марков принимает за точку отправления судьбы общества или цивилизации и предлагает учить и учиться не тому, чтO тот или другой учитель или ученик считает нужным, полезным, избранным, а тому, чтO «соответствует потребностям времени», то есть потребностям известного исторического момента. Вместе с тем г. Марков сводит задачу науки к познанию существующего, так как отвергает надобность и возможность для педагога подняться выше существующего порядка вещей или вообще как-нибудь от него отклониться. Тем самым, наконец, г. Марков отказывается дать руководящую нить практике. Сказать: учите, соображаясь с потребностями времени, – значит ничего не оказать, потому что потребности времени остаются невыясненными. Я, впрочем, не намерен утомлять читателя собственным своим разбором мнений г. Маркова, во-первых потому, что не в них совсем дело, а во-вторых потому, что я не сумел бы сделать этот разбор лучше гр. Толстого. В своем ответе г. Маркову он стоит на истинно философской высоте, и, если бы не портили дела некоторые частности, почти исключительно зависящие от неправильности и неточности выражений, статья «Прогресс и определение образования» была бы безукоризненна во всех отношениях.
«Со времен Гегеля и знаменитого афоризма: „что исторично, то разумно“, – говорит гр. Толстой, – в литературных и изустных спорах, в особенности у нас, царствует один весьма странный умственный фокус, называющийся историческое воззрение.
Вы говорите, например, что человек имеет право быть свободным, судиться на основании только тех законов, которые он сам признает справедливыми, а историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известный исторический момент, обусловливающий известное историческое законодательство и историческое отношение к нему народа. Вы говорите, что вы верите в бога, – историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известные религиозные воззрения и отношения к ним человечества. Вы говорите, что Илиада есть величайшее эпическое произведение, – историческое воззрение отвечает, что Илиада есть только выражение исторического сознания народа в известный исторический момент. На этом основании историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте Илиады, а только указывает вам то место, которое наша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимает в истории: оно только сознает, но сознает не путем непосредственного сознания, а путем исторических умозаключений. Скажите, что вы любите или верите во что-нибудь, – историческое воззрение говорит: любите и верьте, и ваша любовь и вера найдут себе место в нашем историческом воззрении. Пройдут века, и мы найдем то место, которое вы будете занимать в истории; но вперед знайте, что то, что вы любите, не безусловно прекрасно, и то, во что вы верите, не безусловно справедливо; но забавляйтесь, дети, – ваша любовь и вера найдут себе место и приложение. К какому хотите понятию стоит только приложить слово историческое, – и понятие это теряет свое жизненное, действительное значение и получает только искусственное и неплодотворное значение в каком-то искусственно составленном историческом миросозерцании».
Вовсе не надо быть педантом, чтобы с некоторым недоумением остановиться перед этими невозможными «не только, а только», «только сознает, но сознает не путем сознания» и т. п., испещряющими речь знаменитого русского писателя. Но бог с ним, с языком гр. Толстого. Я упоминаю об нем только для того, чтобы лишний раз обратить внимание читателя на неосновательность ходячих репутаций. Больше я этой скучной материи касаться не буду. Читатель предупрежден и не станет строить какие-либо выводы на отдельных выражениях гр. Толстого, которые своею грамматическою неуклюжестью и логическою неправильностью слишком часто только затемняют, даже извращают мысль автора. Будем следить только за мыслью гр. Толстого. Она этого стОит, по крайней мере с моей точки зрения, с точки зрения профана, потому что из приведенных неуклюжих строк так и бьет тот дух жизни, который, нам, профанам, дороже всего. Очевидно, что суть протеста гр. Толстого против того, что он называет историческим воззрением, сосредоточивается в подчеркнутых мною словах. Значения исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности, гр. Толстой вовсе не отрицает. Он очень хорошо знает, что Илиада, известные понятия о божестве, известный общественный строй – суть продукты исторических условий. Но он хочет не только знать, какое место в истории занимают его идеалы: он хочет жить ими и, следовательно, знать их настоящую, теперешнюю цену, независимо от истории. В другом месте гр. Толстой говорит весьма определительно: «Статья „Русского вестника“ думает, что школы не могут и не должны быть изъяты из-под исторических условий. Мы думаем, что эти слова не имеют смысла, во-первых потому, что изъять из-под исторических условий нельзя ничего ни на деле, ни даже в мыслях. Во-вторых потому, что ежели открытие законов, на которых строилась и должна строиться школа, есть, по мнению г. Маркова, изъятие из-под исторических условий, то мы полагаем, что наша мысль, открывшая известные законы, действует тоже в исторических условиях, но что нужно опровергнуть или признать самую мысль путем мысли для того, чтобы разъяснить ее, а не отвечать на нее тою истиною, что мы живем в исторических условиях». Из этого видно, что г. Марков совершенно понапрасну рассыпал цветы своего красноречия. Гр. Толстому очень хорошо известна сила исторических условий. Она ему известна даже лучше, чем г. Маркову, или по крайней мере соображения о ней проводятся гр. Толстым дальше и последовательнее. Предполагая даже, что потребности времени суть нечто для всех ясное и определенное, я, с точки зрения все той же силы исторических условий, имею полное право восставать против этих потребностей времени, признавать их ложными, дрянными, желать их изменения, делать соответственные усилия и проч. Потому что, если во мне зародились известные сомнения и желания, так ведь они не с неба свалились, они тоже определены историческими условиями. И если мои сомнения и желания признаются кем-нибудь неосновательными, то оппонент мой должен оставить исторические условия в покое и представить какие-нибудь иные аргументы «от разума» или «от опыта». Историческими условиями можно оправдать всякую нелепость и всякую мерзость, для чего нет никакой надобности в длинных рассуждениях, к которым любят прибегать в подобных случаях: довольно указать на существование нелепости или мерзости, – тем самым они уже оправданы. Но это будет, собственно говоря, не оправдание, а празднословие, очень удобно опрокидываемое несколькими словами; теми самыми словами, которые сказал гр. Толстой: человек, стремящийся стереть с лица земли существующие нелепости и мерзости, есть тоже продукт истории. Против этого аргумента возражений нет. В своем ответе г. Маркову гр. Толстой поставил и разрешил (я не говорю, что это не было делаемо другими, задолго до гр. Толстого) теоретический вопрос высочайшей важности. Больших усилий стоило людям убедиться, что нет действий без причины, что и их людские действия, мысли, желания, чувства возникают в конце известного ряда явлений, сменяющих друг друга с физическою необходимостью. Убеждение это завоевывалось шаг за шагом, пробивая себе дорогу сквозь целый лес предрассудков. И только в сравнительно недавнее время оно восторжествовало благодаря соединенным усилиям статистиков, историков, психологов, физиологов, философов. Но, к сожалению, мысль о «законосообразности» человеческих действий, не успев даже наметить весь круг своих результатов, уже успела заразиться двумя исконными наследственными недугами человечества – фатализмом и оптимизмом. Удивляться надо в самом деле, какие это цепкие и прилипчивые болезни. Трудно даже найти в истории мысли теорию, которая не была бы хоть на короткое время покрыта злокачественною и отвратительною сыпью оптимизма и фатализма. А идея необходимости или законосообразности человеческих действий находится в условиях, особенно благоприятных для заражения. Фатализм есть учение или взгляд, не допускающий возможности влияния личных усилий на ход событий. Понятное дело, что этому взгляду очень удобно заразить собой теорию необходимости человеческих действий. Каждый из нас, жалких детищ вращающегося во вселенной ничтожного комка грязи, называемого землей, есть нечто вроде шашки, которую сила событий передвигает с одной клетки шахматной доски на другую. Шашка может иметь в ходе игры важное и не важное значение, но она жестоко ошибается, когда думает, что сама становится на такую-то клетку и могла бы, если бы захотела, стать на другую. В таком роде рассуждают многие статистики, историки и другие ученые люди не только в теоретической области познания существующего, а и в практической сфере жизни. Нам, профанам, эти рассуждения глубоко противны, мы их не можем переварить. И когда ученые люди говорят нам с презрительно-снисходительным видом: «Что ж делать! наука не может сказать ничего иного», – мы отвечаем: «Что ж делать! эта наука нас не удовлетворяет». Но мы замечаем, что она не удовлетворяет не только нас, а и самих ученых людей. Например, ученые люди говорят и пишут друг другу панегирики. За что? ведь не пишут же они панегириков камню, падающему на землю сообразно законам тяжести, и траве, начинающей весной зеленеть на лугах. Ученое открытие есть такое же звено известной цепи причинно связанных явлений, как и рост травы и падение камня; оно не может появиться раньше осуществления известных исторических условий, и ученый, сделавший открытие, есть опять-таки не больше как шашка, поставленная ходом игры на определенную клетку. Ученые люди бранят наше невежество и стараются просветить нас. За что бранят и зачем стараются? Одну шашку так же мало резонно бранить, как другой шашке мало резонно стараться. Очевидно, что есть сферы мысли, в которых теория необходимости наших действий, их полнейшей зависимости от данных исторических условий удовлетворяет человеческую природу, но есть и такие, где она равно не удовлетворяет и ученых и неученых людей, где теория исторических условий на каждом шагу путается в противоречиях и сама себя закалывает. Это – сфера практической мысли. Задним числом, конечно, можно доказать, что Лютер, например, только потому и мог быть учителем целого столетия, что «сам был созданием своего века, думал его мыслью и действовал по его вкусу». Совершенно справедливо, что, не будь у него многочисленных и многосторонних связей с своим временем и своим народом, он пролетел бы как падучая звезда. Но дело в том, что если бы сам Лютер не верил, что думает своею собственною мыслью и действует по своему собственному вкусу, то реформацию поднял бы не он, а кто-нибудь другой. Пусть, связанный историческими условиями по рукам и по ногам, Лютер обманывался, думая, что он свободно выбрал себе цель, – этот обман неизбежен в практической деятельности: он есть один из необходимых факторов тех самых исторических условий, незыблемость которых провозглашают фаталисты.
Гордые ученые и вдвое более гордые полуученые люди очень любят восклицать: без обмана! Восклицание это, конечно, очень хорошее и способное собрать вокруг восклицающего толпу людей с разинутым от умиления ртом. Но отчего же гордые ученые и вдвое более гордые полуученые люди не подумают о том, что наиболее разработанные отрасли физической науки допускают иногда заведомый обман и не конфузятся этого? Метафизики говорят: реальный мир есть обман. Наиболее разработанные отрасли физической науки говорят: обман так обман, нам до этого дела нет, мы признаем данный мир существующим, потому что того требуют условия человеческой природы, а может, это и в самом деле обман. Наиболее разработанные отрасли физической науки вводят в свои построения таких гипотетических деятелей, которых себе вполне ясно даже представить нельзя; это – обманы, но наука держится их, потому что в настоящую по крайней мере минуту ничто, кроме них, не дает возможности ориентироваться в известных рядах фактов. Почему же это науки разработанные не боятся обмана в такой мере, как науки (если только это науки) социальные, в которых кто во что горазд, в которых сколько голов, столько умов, в которых нет почти ничего прочного, установившегося, общепринятого? Да именно оттого, я думаю, что то – науки разработанные, а это – так, что-то вроде наук. Вполне светский человек может себе позволить некоторые уклонения от установившихся в его кругу нравов и обычаев и сделает так, что уклонения эти не только не будут колоть глаза, но даже усилят основной тон принятого порядка. Неофит, напротив, человек неопытный, не слившийся всем своим существом с известной общественной атмосферой, будет держаться каждой буквы светского кодекса, но именно эти его старания и изобличат в нем человека неопытного и неофита. Так же и с наукой. Давно ли у нас, например, так много толковали о необходимости индуктивного метода и крайней вредности дедуктивного. Между тем как раз в это время истинные ученые, хоть и не очень гордые, с величайшим успехом применяли дедукцию и двигали ею науку исполинскими шагами вперед. Они уже прошли ту ступень развития, на которой индукция признавалась единственным научным методом, и прилагали к делу, смотря по условиям своих задач, то наведение, то вывод. Эти же истинные, хоть и не очень гордые ученые рассуждают так: обман – вещь нехорошая, но если уж в том или другом случае без него по условиям человеческой природы обойтись нельзя, так делать нечего; надо только помнить, что это – обман, введенный в исследование с определенною целью, и что мы имеем право пользоваться им только в определенных случаях и под определенными условиями. Очевидно, что допущенный в науку в таком виде обман даже перестает быть обманом и становится просто орудием науки. А гордые социологи продолжают восклицать: без обмана! Не желая уподобляться Кифе Мокиевичу, я не стану рассуждать о том, что было бы, если бы люди действительно перестали обманываться насчет свободы своей деятельности. Но вот что я могу сказать, не боясь быть опровергнутым ученейшими из ученых: в момент деятельности я сознаю, что ставлю себе цель свободно, совершенно независимо от влияния исторических условий; пусть это – обман, но им движется история; я признаю, что и соседи мои выбирают себе цели жизни свободно; на этом только и держится возможность личной ответственности и нравственного суда, которых нельзя же вычеркнуть из человеческой души. Действительно, их вычеркнуть нельзя, надо признать их существование, а между тем они находятся в противоречии с познанием причинной связи явлений. Приходится осуждать то, что в данную минуту не может не существовать. Как тут быть? Это противоречие известно с очень давних пор, и много умных и глупых, ученых и неученых голов билось над его разрешением. Эти головы придумали три выхода. Одни, закалая на алтаре познания причинной связи явлений личную ответственность, совесть и нравственный суд, стоят на своем: без обмана! Но это не выход, потому что чувство ответственности, совесть и потребность нравственного суда суть вполне реальные явления психической жизни, допускающие наблюдения и вообще научные приемы исследования; они до такой степени реальны, что сами жрецы познания не чужды им в момент жертвоприношения; они произносят нравственный суд и сознают свое жертвоприношение действием свободным. Другие приносят, напротив, в жертву причинную связь явлений, утверждая, что человек свободен. Если это и выход из затруднения, то во всяком случае он не может быть принят наукой, потому что совершенно свободных явлений познавать нельзя, а наука только познает. Третьи, наконец, признавая противоречие между свободою и необходимостью неразрешимым по существу, говорят, что иногда мы должны признавать человеческие действия свободными, а иногда необходимыми.
К числу этих третьих принадлежит и гр. Толстой. На первый взгляд, это решение самое неудовлетворительное, наименее научное, потому что ему недостает единства и последовательности. Но это только на первый взгляд. Вы идете в место, лежащее на запад от вас; по дороге вы натыкаетесь на пропасть, которую обходите, уклоняясь к северу, потом круто сворачиваете к югу, потому что прямо перед вами непроходимое болото: несмотря на эти отклонения от пути на запад, вы идете единственной верной дорогой, потому что, направляясь по-вороньему, все прямо, вы провалитесь, утонете и вообще не дойдете до цели своей прогулки. Так и единство и последовательность в науке состоят вовсе не в том, чтобы всегда и везде употреблять одни и те же приемы исследования, а в том, чтобы всегда и везде смотреть на вещи так, как того требуют условия научной задачи. Этим достигается не только единство науки, но, что всего важнее, и примирение науки с жизнью. Поставьте только себя в положение гр. Толстого. Он поставил себе жизненную, живую цель, работает для нее, наконец, как ему кажется, достиг ее: узнал, чему и как следует учить. Вдруг является ученый человек, г. Марков, и говорит: каким вы, однако, вздором занимаетесь! разве вы можете придумать какое-нибудь свое собственное решение этого вопроса, независимое от исторических условий, в которых вы живете? Понятно ли читателю все безобразие этого рипоста г. Маркова, хотя в основании его лежит несомненная истина: гр. Толстой, как и всякий другой, не может вылезти из исторических условий. Дело в том, что в словах г. Маркова есть истина, но она пристраивается им совсем не к месту. Это часто бывает, что ученые люди суют несомненные истины не туда, где им нужно быть. Очки превосходная вещь, но когда мартышка надевала их себе на хвост, она делала большую ошибку. Мы, профаны, считаем своим священным правом, которого у нас отнять никто не может, право нравственного суда над собой и другими, право познания добра и зла, право называть мерзавца мерзавцем. Законосообразность человеческих действий есть великая истина, но она не должна посягать на это право, хотя бы уже потому, что она с ним ничего не поделает. В этой импотенции не к месту пристроенной истины заключается, собственно, комическая сторона ученых набегов на наше право называть мерзавца мерзавцем. Не будь ее, этой комической стороны, можно было бы ужаснуться тому неслыханному насилию над человеческой личностью, которое позволяют себе некоторые ученые люди, стараясь убедить нас, что мерзавец есть только продукт истории и что мы не смеем даже помыслить о деятельности по собственному вкусу, независимо от «исторических условий» и «потребностей времени». Дыба, испанский осел, нюренбергская железная девица, все ужасы инквизиции и русских застенков были бы милыми игрушками в сравнении с этим насилием, если бы только оно могло когда-нибудь переселиться из области словоизвержения в область живой действительности. Теперь дух насилия выражается только тем, что, как очень неправильно по форме, но очень метко и верно говорит гр. Толстой, «историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте Илиады, а только указывает вам то место, которое наша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимают в истории». Это – несомненное выражение духа насилия. Исторический воззритель, если такое существительное возможно, только потому стремится отравить вам известное наслаждение, что сам он не способен его оценить. Собственные свои цели он преследует так, как будто бы они имели вечную, непреходящую цену. Вон, например, Спенсер сочиняет социологию, которая должна остаться истинною даже в отдаленнейшем мраке будущего, а радикалу и торию говорит: благословляю вас на все ваши глупости, потому что они свое определенное место в истории займут; вы оба врете, но ничего, продолжайте, законами истории предписано вам обоим несколько времени поврать и затем умолкнуть (см. «Изучение социологии»). Ясно, что Спенсер потому только может так относиться к радикалу и торию, что ему совершенно чужды волнующие их интересы, что ему решительно все равно, восторжествует ли который-нибудь из них, и вообще все равно, как пойдут дела, о которых спорят торий и радикал. Когда речь идет о скверных каминных щипцах и неудобных аптекарских склянках, Спенсер совершенно изменяет тон: он не говорит, что скверные щипцы займут свое место в истории, он просто говорит, что щипцы скверны, потому что относится к щипцам и склянкам как живой человек. Величественные запрещения искать чего-нибудь, не помышляя об исторических условиях, и столь же величественные дозволения врать сообразно историческим условиям – суть продукты умственной мертвечины, мертвенного отношения к явлениям.
Итак, значение исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности, несомненно, но столь же несомненны право и возможность для личности судить о явлениях жизни без отношения к месту их в истории, а сообразно той внутренней ценности, которую им придает та или другая личность в каждую данную минуту. Это неизбежно вытекает из условий человеческой природы. Противоречие между необходимостью и свободой по существу неразрешимо, и мы должны попеременно опираться то на ту, то на другую. Когда на одну, когда на другую? Гр. Толстой отвечает на этот вопрос в статье «Прогресс и определение образования». Но резче и рельефнее выходит ответ, данный в много осмеянном одними и много расхваленном другими философском приложении к «Войне и миру». Там есть ряд определений, из которых я приведу следующие два: «Действия людей подлежат общим, неизменным законам, выражаемым статистикой. В чем же состоит ответственность человека перед обществом, понятие о которой вытекает из сознания свободы? – вот вопрос права. Поступки человека вытекают из его прирожденного характера и мотивов, действующих на него. Что такое есть совесть и сознание добра и зла поступков, вытекающих из сознания свободы? – вот вопрос этики». (Сочинения, VIII, 166.) В русской литературе мне известна только одна постановка вопроса о необходимости и свободе человеческих действий, совпадающая с постановкою гр. Толстого и не уступающая ей в ясности и категоричности. Она сделана одним из сотрудников «Отечественных записок в статье „Г. Кавелин как психолог“» («Отечественные записки» 1872, № 11). «Вопрос о произвольности не существует для науки. Психология неизбежно рассуждает, как бы он был решен отрицательно. Логика и этика столь же неизбежно рассуждают, как бы он был решен положительно».
Человек, будучи обязан признать всякое историческое явление законосообразным, имеет, однако, логическое и нравственное право, бороться с ним, признавая его пагубным, вредным, безнравственным. Отсюда прямой вывод, что исторический ход событий сам по себе совершенно бессмыслен и, взятый в своей грубой, эмпирической целости, может оказаться таким смешением добра и зла, что последнее перевесит первое. Гр. Толстой делает этот вывод. Он не только подвергает осмеянию афоризм «что исторично, то разумно», но, кроме того, довольно подробно анализируя ходячее понятие прогресса, приходит к заключению, что исторический путь, которым идет Западная Европа и на который сравнительно недавно вступила Россия, отнюдь не усыпан розами. Гр. Толстой полагает далее, что этот путь развития не есть единственный и что он может и должен быть избегнут Россией. Известно, что совершенно так же смотрят на дело славянофилы и их выродки – «почвенники». При ближайшем, однако, рассмотрении анализа прогресса гр. Толстого оказывается, что он самым существенным образом отличается от славянофильских воззрений. Читатель в этом сейчас убедится.
Покончив с фатализмом, гр. Толстой обращается к оптимизму. Г. Марков полагал, что искать критерия образования нет никакой надобности, потому что дело и без него очень просто: «каждый век кидает в общую кучу свою горсть, и чем дольше мы живем, тем выше поднимается эта куча, тем выше и мы с ней поднимаемся». Таким образом, все идет к лучшему в сем наилучшем из миров, шипов становится все меньше, а розы цветут и благоухают все роскошнее, Гр. Толстой находит, что этот образ кучи, возрастающей и вместе с тем поднимающей нас, далеко не передает истинного смысла истории. Движения истории он не отрицает, но он не согласен признавать верхние, позднейшие слои исторической кучи лучшими только потому, что они – верхние, позднейшие. Он требует для оценки исторических явлений иных, более сложных приемов, к выработке которых приступает весьма оригинальным образом. Именно он задает себе вопрос: кто признает рост исторической кучи, обыкновенно называемый прогрессом, кто признает его благом? «Так называемое общество, незанятые классы, по выражению Бокля». Рассматривая некоторые, наиболее выдающиеся «явления прогресса» (мы условились не придираться к неточности и неправильности выражений), гр. Толстой приходит к заключению, что они действительно суть благо для «незанятых классов». Например, по телеграфным проволокам «пролетает мысль о том, что возвысилось требование на такой-то предмет торговли и как потому нужно возвысить цену на этот предмет, или мысль о том, что я, русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу укрепилась нервами, обнимаю моего обожаемого супруга и прошу прислать мне в наискорейшем времени сорок тысяч франков»; сообщаются сведения о «дешевизне или дороговизне сахара или хлопчатой бумаги, о низвержении короля Оттона, о речи, произнесенной Пальмерстоном и Наполеоном III». Из всего этого незанятые классы извлекают огромные выгоды и много удовольствия. Извлекают они их и из книгопечатания, из улучшенных путей сообщения. Но почему же народ, девять десятых всего населения цивилизованных стран, «занятые классы» относятся к благам цивилизации по малой мере равнодушно, а то прямо враждебно? Потому, отвечает гр. Толстой, что блага цивилизации для народа вовсе не блага, они или проходят совершенно мимо его, или приносят ему больше зла, чем пользы. Г. Марков ссылался на Маколея. Гр. Толстой утверждает, что из знаменитой 3-й главы первой части истории Маколея можно выудить только следующие, наиболее выдающиеся факты: «1) Народонаселение увеличилось, – так что необходима теория Мальтуса. 2) Войска не было, теперь оно стало огромно, с флотом – то же самое. 3) Число мелких землевладельцев уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала на половину больше, цены же на все увеличились, и удобств в жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятирилась. Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют, и английские дамы стали писать без орфографических ошибок». Гр. Толстой убежден, что совокупность этих явлений, их общий характер несомненно выгоден для незанятых классов, которые поэтому с своей точки зрения имеют все резоны признавать его благом, но они не имеют права навязывать свое воззрение народу; народ, опять-таки с своей точки зрения, имеет тоже все резоны относиться к перечисленным фактам вполне равнодушно, а отчасти и враждебно. «Интересы общества (под обществом гр. Толстой разумеет так называемые образованные классы) и народа всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, тем невыгоднее другому». Сообразно этому распределяются и понятия «общества» и народа о том или другом историческом явлении в отдельности и об общем направлении истории. Но, спрашивается, неужели мы можем положиться на мнения людей грубых и невежественных, «проводящих жизнь на полатях, в курной избе или за сохою, ковыряющих сами себе лапти и ткущих себе рубахи, никогда не читавших ни одной книги, раз в две недели снимающих с насекомыми рубаху, по солнышку и по петухам узнающих время и не имеющих других потребностей, как лошадиная работа, спанье, еда и пьянство?» Гр. Толстой самым решительным образом становится на сторону грубого, грязного и невежественного народа. «Я полагаю, – говорит он, – что эти люди, называемые дикими, и целые поколения этих диких суть точно такие же люди и точно такое же человечество, как Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты. Я полагаю, что поколения работников носят в себе точно те же человеческие свойства и в особенности свойство искать где лучше, как рыба где глубже, как и поколения лордов, баронов, профессоров, банкиров и т. д. В этой мысли подтверждает и мое личное, без сомнения, малозначащее убеждение, состоящее в том, что в поколениях работников лежит и больше силы и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров, и, главное, подтверждает меня в этой мысли то простое наблюдение, что работник точно так же саркастически и умно обсуживает барина и смеется над ним за то, что он не знает – что соха, что сволока, что гречиха, что крупа; когда сеять овес, когда гречу; как узнать какой след; как узнать, тельна ли корова, или нет? и за то, что барин живет, всю жизнь ничего не делая, и т. п. Точно так же, как обсуживает барин работника и подтрунивает над ним за то, что тот говорит табе и сабе, фитанец, плант и т. п., и за то, что он в праздник напивается как животное и не знает, как рассказать дорогу. То же наблюдение поражает меня, когда два человека, разойдясь между собою, совершенно искренно называют друг друга дураками и подлецами. Еще более поражает меня это наблюдение в столкновениях восточных народов с европейскими. Индейцы считают англичан варварами и злодеями, англичане – индейцев; японцы – европейцев; европейцы – японцев; даже самые прогрессивные народы – французы считают немцев тупоголовыми, немцы считают французов безмозглыми. Из всех этих наблюдений я вывожу то умозаключение, что ежели прогрессисты считают народ не имеющим права обсуждать своего благосостояния и народ считает прогрессистов людьми, озабоченными корыстными, личными видами, то из этих противоположных воззрений нельзя вывести справедливости ни той, ни другой стороны. И потому я должен склониться на сторону народа, на том основании, что: 1) народа больше, чем общества, и что потому должно предположить, что бРльшая доля правды на стороне народа; 2) и главное потому, что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям, как-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественные произведения (Илиада, руские песни). Прогрессисты же не могли бы существовать без народа». В конце концов гр. Толстой объясняет, что «весь интерес истории заключается для него не в прогрессе цивилизации, а в прогрессе общего благосостояния. Прогресс же благосостояния, – продолжает он, – по нашим убеждениям, не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большею частию противоположен ей. Ежели есть люди, которые думают противное, то это должно быть доказано. Доказательств же этих мы не находим ни в непосредственном наблюдении явлений жизни, ни на страницах историков, философов и публицистов… Эти люди признают без всякого основания вопрос о тождестве общего благосостояния и цивилизации решенным».
Но, может быть, прогресс, как он выразился в истории Западной Европы, есть нечто фатальное, нечто неизбежно обязательное как для самой Европы в будущем, так и для других стран, стоящих на низших ступенях цивилизации? Из предыдущего уже видно, что гр. Толстой должен был отвечать на этот вопрос отрицательно. Он так и отвечает. Он говорит, что «не считает этого движения неизбежным». Обращаясь к России, он делает несколько беглых замечаний о разнице в условиях ее жизни и жизни Западной Европы. Я приведу только одно из этих замечаний. Упомянув о мнении Маколея, что благосостояние рабочего народа измеряется высотой заработной платы, гр. Толстой спрашивает: «Неужели мы, русские, до такой степени не хотим знать и не знаем положения своего народа, что повторим такое бессмысленное и ложное для нас положение? Неужели не очевидно для каждого русского, что заработная плата для русского простолюдина есть случайность, роскошь, на которой ничего нельзя основывать? Весь народ, каждый русский человек без исключения назовет несомненно богатым степного мужика с старыми одоньями хлеба на гумне, никогда не видавшего в глаза заработной платы, и назовет несомненно бедным подмосковного мужика в ситцевой рубашке, получающего постоянно высокую заработную плату. Не только невозможно в России определять богатство степенью заработной платы, но смело можно сказать, что в России появление заработной платы есть признак уменьшения богатства и благосостояния. Это правило мы, русские, изучающие свой народ, можем проверить во всей России и потому, не рассуждая о богатстве всей Европы, можем и должны сказать, что для России, то есть для большей массы русского народа, высота заработной платы не только не служит мерилом благосостояния, но одно появление заработной платы показывает упадок народного богатства».
Этим исчерпываются, кажется, все существенные пункты статьи «Прогресс и определение образования». Теперь я прошу объяснить мне: что общего между приведенными воззрениями и мистицизмом, фатализмом, оптимизмом, квасным патриотизмом, славянофильством и проч., в которых только ленивый не упрекает гр. Толстого. Без сомнения, его анализ понятий прогресса и цивилизации далеко не полон (автор, впрочем, и не ставил себе целью полноту анализа), страдает и другими недостатками. Но дело, не в этом. Я обращаю только внимание читателя на точку зрения гр. Толстого. Она, прежде всего, не нова. Она установлена лет приблизительно за тридцать до занимающей нас статьи, но отнюдь не славянофилами, а европейскими социалистами. Если где искать у гр. Толстого славянофильских или «почвенных» тенденций, так именно в указанной статье, которая, собственно говоря, представляет целую политическую программу в сжатом, скомканном виде. Между тем здесь-то и выступает всего резче непричастность гр. Толстого к славянофильству. В статье нет и помину об одной из любимейших тем славянофильства, – о великой роли, предназначенной провидением славянскому миру, долженствующему стереть с лица земли или по крайней мере совершенно посрамить мир романо-германский. Мало того, что тема эта не затронута в статье, – гр. Толстой и вообще не написал на нее ни одной строки, – статья отрицает ее в самом корне, ибо гр. Толстой признает, что исторический ход событий сам по себе неразумен, бессмыслен, что для человека неустранимо сознание возможности с ним бороться, свободно ставя перед собой идеалы. Гр. Толстой с своей обычной смелостью бросает перчатку историческим условиям, вовсе не имея в виду, соответствуют они или не соответствуют началам русского, а тем паче славянского национального духа. Мистицизм, уверенный, что им уловлены пути, которыми провидение направляет человечество к известной цели, и пошлая трезвость, не знающая нравственной оценки исторических явлений, обе эти крайности, так часто совпадающие, уничтожены гр. Толстым одним ударом. Не отрицая законов истории, он провозглашает право нравственного суда над историей, право личности судить об исторических явлениях не только как о звеньях цепи причин и следствий, но и как о фактах, соответствующих или не соответствующих ее, личности, идеалам. Право нравственного суда есть вместе с тем и право вмешательства в ход событий, которому соответствует обязанность отвечать за свою деятельность. Живая личность со всеми своими помыслами и чувствами становится деятелем истории на свой собственный страх. Она, а не какая-нибудь мистическая сила, ставит цели в истории и движет к ним события сквозь строй препятствий, поставляемых ей стихийными силами природы и исторических условий. Гр. Толстой во всех своих доводах опирается единственно на разум и логические доказательства, – что было бы для славянофила почти невозможным подвигом при рассуждениях о русском народе и европейской цивилизации. Правда, как и славянофилы, гр. Толстой много говорит о народе и скептически относится к благам европейской цивилизации. Но разве сочувствие народу и критика европейской цивилизации составляют монополию славянофилов? Во всяком случае, гр. Толстой иначе относится к обоим этим пунктам славянофильской программы. Хотя славянофилы и много толковали о «народе», но почти всегда разумели под этим словом стихийную совокупность людей, говорящих русским языком и населяющих Россию. Гр. Толстой не признает этого единства русских людей или по крайней мере усматривает в нем такие два крупные обособления, что считает возможным приравнивать их отношения к отношениям враждебных национальностей. Для него «общество» и народ стоят друг перед другом в таких же, если можно так выразиться, нравственных позах, как французы и немцы в тот момент, когда они взаимно величают друг друга безмозглыми и пустоголовыми. Интересы «общества» и народа, говорит он, всегда противоположны. Правда, славянофилы также указывали на рознь идеалов и интересов высших и низших слоев совокупности русских людей. Они полагали, что рознь эта порождена Петровским переворотом, и только им. Говорят, что и гр. Толстой относится к Петровским реформам отрицательно. Я этого не знаю, потому что печатно гр. Толстой в таком смысле не высказывался. Во всяком случае, это весьма возможно. Но я почти уверен, что печатное изложение мнений гр. Толстого о Петровской реформе вполне обнаружило бы его непричастность к славянофильству, хотя бы уж потому, что Русь допетровскую он не может себе представлять в розовом свете. И в допетровской Руси существовали раздельно народ, «занятые классы» и, как выражается гр. Толстой, «общество», правда грубое, грязное, невежественное, но все-таки «общество». Что гр. Толстой именно так смотрит на дело, это видно из общего характера вышеприведенных его воззрений и из некоторых прямых указаний. Очень любопытно, например, следующее замечание. В статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» гр. Толстой рассуждает, между прочим, о преподавании истории и об том, следует ли ребятам только сообщать сведения, или же давать пищу их патриотическому чувству. Рассказав о впечатлении, произведенном на детей повестью о Куликовской битве, он замечает: «Но если удовлетворять национальному чувству, что же останется из всей истории? 612, 812 года – и всего». Это – замечание глубоко верное само по себе и вполне совпадающее с общим тоном десницы гр. Толстого. Действительно, 1612, 1812 года и отчасти времена монгольского ига суть единственные моменты национальной русской истории, в которые не было никакой розни между целями и интересами «общества» и народа. Много других блестящих войн вела Россия, и для «общества», для «незанятых классов» Суворовский переход через Альпы или венгерская кампания могут представлять даже больший патриотический интерес, чем 1612 и даже 1812 год. «Общество» знает цену тем отвлеченным началам, ради которых Суворов переходил через С.-Готард или русские войска ходили усмирять венгров. Народ – профан в этих отвлеченных началах: они не будят в нем никаких необыденных чувств, потому что не имеют с ним жизненной связи. И я уверен, что рассказ о почти невероятном подвиге перехода через Чертов мост или о том, что Гёргей пожелал сдаться русским, а не австрийцам, – не могут возбудить в народе ни патриотической гордости, ни вообще какого бы то ни было живого интереса, несмотря на то, что в обоих этих случаях русское оружие покрылось неувядаемою славой. Худо ли это, хорошо ли это – другой вопрос, но это – так. Гр. Толстой, в той же статье о преподавании истории, неподражаемо мастерски передает сцену оживления, возбужденного в яснополянской школе рассказом о войне 1812 года, особенно тот момент, когда, по определению одного из учеников, Кутузов, наконец, «окарачил» Наполеона. Суворов, Потемкин, Румянцев и другие славные русские полководцы «окарачивали» почище Кутузова, но они всегда останутся для народа бледными и неинтересными фигурами. Вот что, я думаю, хотел сказать гр. Толстой своим замечанием об исключительном, с точки зрения народа, характере 1612 и 1812 годов. Глубоко патриотическая подкладка «Войны и мира» в связи с другими причинами утвердила во многих убеждение, что гр. Толстой есть квасной патриот, славянофил, что он падает ниц перед всем, что отзывается пресловутой и едва ли кому-нибудь понятной «почвой», что он верит в какое-то мистическое величие России и проч. Одни радовались, другие бранились, а между тем это убеждение решительно ни на чем не основано. Оно не оправдывается даже шуйцей гр. Толстого, о которой – в следующий раз. Я не отрицаю случайных совпадений воззрений гр. Толстого с тем или другим пунктом славянофильского учения, но это совпадения именно только случайные. Гр. Толстой написал резко патриотическую хронику Отечественной войны, он написал бы, вероятно, таковую же хронику событий смутного времени. Не спорю, он впал бы, может быть, при этом в некоторую односторонность и преувеличение в оценке грехов и заслуг той или другой исторической личности, того или другого исторического факта. Но одно верно: роста и развития московской, допетровской Руси он никогда не изобразит розовыми, угодными для славянофилов красками. Не напишет он также ничего подобного «Богатырям» г. Чаева или «Пугачевцам» гр. Сальяса. Сравнение этих романов с «Войной и миром» очень соблазнительно и, смею думать, было бы небезынтересно с точки зрения профана. Но я должен отказаться от этой соблазнительной темы. Скажу только следующее. Ни от читателей, ни от критики не укрылась подражательность произведений гг. Чаева и Сальяса; слишком очевидно было, что эти писатели рабски копируют манеру «Войны и мира». Порешено было, что это плохие копии, и только, все было сведено к степени таланта. Только наш уважаемый сотрудник, г. Скабичевский, взглянул на дело несколько иначе. Но, будучи все-таки уверен в славянофильстве гр. Толстого, он, мне кажется, далеко не вполне измерил глубину различия между «Войной и миром», с одной стороны, и «Пугачевцами» и «Богатырями» – с другой. Гг. Чаев и Сальяс действительно рабски копировали манеру «Войны и мира» и изо всех сил старались то же слово так же молвить. Насколько неудачны оказались их старания, это дело второстепенное, ввиду того, что они не сумели схватить главного и существеннейшего в воззрениях гр. Толстого. Они, гг. Чаев и Сальяс, могут любую страницу русской истории, не моргнув глазом, обработать на манер «Войны и мира», и выйдет ни хуже, ни лучше, чем «Богатыри» и «Пугачевщина», а гр. Толстой призадумается. А если, паче чаяния, не призадумается и в суворовских, например, походах времен императора Павла увидит общенародное русское дело, то напишет вещь плохую, сравнительно, разумеется говоря. Вещь эта будет потому плоха, что гр. Толстой не верит в единство целей и интересов всех людей, говорящих русским языком, на протяжении всей русской истории. Он знает, что единство это есть явление крайне редкое в русской, как и в европейской истории, что много нужно условий для совпадения славы оружия с интересами и идеалами народа. Он лишен первобытной невинности и наивности людей, считающих возможным и даже обязательным гореть патриотическим пламенем при всякой победе русского оружия и вообще на всякой громкой странице русской истории. И если бы он вздумал заставить своих героев пламенеть по таким же поводам, по каким пламенеют почти все «герои», то есть положительные типы гг. Чаева и Сальяса, – это было бы пламя фальшивое, бледное, негодное, недостойное мыслящего и убежденного xудoжникa. Повторяю, случайные совпадения мнений гр. Толстого с славянофильскими воззрениями разных оттенков возможны и существуют, но общий тон его убеждений, по моему мнению, самым резким образом противоречит как славянофильским и почвенным принципам, так и принципам «официальной народности». В этом меня нисколько не разубеждают и слухи об отрицательном отношении гр. Толстого к Петровской реформе. Надо, впрочем, заметить, что только первые, старые славянофилы ненавидели и презирали Петра. Теперешние же эпигоны славянофильства относятся к нему совсем иначе. Года два тому назад я был приглашен на вечер, на котором должен был присутствовать один довольно известный петербургский славянофил. «Живого славянофила увидите», – заманивали меня. Я пошел смотреть на живого славянофила. Он оказался человеком очень говорливым, красноречивым и, между прочим, с большим пафосом доказывал, что Петр был «святорусский богатырь», «чисто русская широкая натура», что в нем целиком отразились начала русского народного духа. Это напомнило мне, что тоже прикосновенный к славянофильству г. Страхов одно время очень старался доказать, что нигилизм есть одно из самых ярких выражений начал русского народного духа… Я думаю, что если гр. Толстой исполнит приписываемое ему намерение написать роман из времен Петра Великого, то оставит эти несчастные начала народного духа, которые каждый притягивает за волосы к чему хочет, совсем в стороне. Быть может, он потщится свалить Петра с пьедестала как личность, быть может, он казнит в нем человека, толкнувшего Россию на путь европейских форм раздвоенности народа и «общества». Славянофильства тут все-таки не будет. Критика европейской цивилизации, представленная в статье о прогрессе гр. Толстым, и критика славянофильская не только не имеют между собою ничего общего, но мудрено даже найти два исследования одного и того же предмета, более противоположные и по исходным точкам, и по приемам, и по результатам. Прошу читателя сравнить воззрения гр. Толстого с следующими, например, строками, заимствованными из статьи «Зигзаги и арабески русского домоседа», напечатанной в № 4 «Дня» за 1865 год. Уверяю вас, что я не рылся в книгах для того, чтобы выудить этот перл. Мне хотелось найти что-нибудь подходящее для сравнения. Я взял первое попавшееся под руку славянофильское издание и, перевернув несколько страниц, нашел следующее:
«Всяким довольством обильна, величавым покоем полна, протекала когда-то старинная дворянская жизнь домоседская: мед, пиво варили, соленья солили и гостей угощали на славу – избытком некупленных, богом дарованных благ. И этой спокойно-беззаботной жизни не смущала залетная мысль, а если бушевала подчас кровь – пиры и охота, шуты и веселье разгулом утоляли взволновавшуюся буйную кровь». Затем идет длинное, все в том же шутовском стиле, описание запустения дворянской домоседской жизни. Все это просто подход, автору просто хочется сказать, что Южной России нужны железные дороги. Поговорив и о русских красавицах, и об удалых тройках, и еще невесть об чем, автор подступает, наконец, с божией помощью, к Илье Муромцу, ну, а уж известное дело, что от Ильи Муромца можно прямым путем до чего угодно дойти. Автор и доходит: «Не старцев, калик перехожих, ждет томящийся избытком богатств несбытных, земель непочатых южнорусский край – ждет он железного пути от срединной Москвы к Черному морю. Ждет его могучего соловьиного свиста древний престольный город Киев; встрепенется, оживет в нем старый русский дух богатырский; воссияют ярким золотом потемневшие златоглавые церкви, и звонче раздастся колокольный тот звон, что со всех концов земли русской утомленные силы, нажитое, накопленное горе ко святым пещерам зовет, облегченье, обновленье дает. Торный, широкий след проложила крепкая вера нетронутая да тяжелая, жизнию вскормленная скорбь народная – к городу Киеву. Но на перепутье другом создали силы народной жизни новый город Украины, Харьков торговый, – бьет ключом здесь торговая русская жизнь, север с югом здесь мену ведет, и стремятся сюда свежие, ретивые русские рабочие силы, к непочатым землям Черноморья и Дона, к просторным новороссийским степям, к Крыму безлюдному, что стоном стонет, рабочих рук просит. И сильный борец против Киева древнего – юный город, народной жизнью вновь указанный, созданный. Томятся, ждут города и земли – к кому направится новый желанный путь, кому дастся сила, кому бесплодие, бессилие?» Редакция «Дня», с своей стороны, не желая уступить в паясничестве своему корреспонденту, делает такое примечание от себя: «Моря и Москвы хочет доступить Киев, – пуще моря Москва нужна Харькову: Киеву – первый почет, да жаль обидеть и Харькова. Или Русь-богатырь так казной-мошной отощала и ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму за единый раз добыть обоих путей, обоих морей, железом сягнуть до Черного через Киев-град и Азовское на цепь к Москве через Харьков взять, чтобы никому в обиду не стало?»
Я не об том говорю, что гр. Толстой унизится до такого паясничества только в том случае, если у него бог разум отнимет. Это само собой разумеется. Я обращаю внимание читателей на внутреннюю подделку фактов и понятий, выглядывающую из-под этой нелепой, режущей ухо подделки речи. Нужды «дворян-домоседов» обставляются звоном киевских колоколов, Ильей Муромцем, каликами перехожими, и выходит так, как будто бы уж не о дворянах-домоседах речь идет, а о величии всей России. Вместо дворян-домоседов подсовывается «Русь-богатырь». С паясничеством или без паясничества, но славянофилы всегда очень удобно справлялись с материальными благами проклятой ими европейской цивилизации. Они только «духа» европейского не любили, они предпочитали начала русского или славянского духа. Много они об этом духе толковали, и потому выходило так, что они – необыкновенно возвышенные идеалисты, до которых гр. Толстому, как до звезды небесной, далеко. В самом деле, он критикует европейскую цивилизацию совсем не с точки зрения какого бы то ни было «духа», а с точки зрения такой прозаической и материальной вещи, как «общее благосостояние». С этой точки зрения он признает телеграфы, железные дороги, книгопечатание, заработную плату и другие «явления прогресса», которых он не перечисляет, явлениями выгодными для известной, малой части русской нации и невыгодными для другой, большей. Уличайте его в преувеличении, в парадоксах, доказывайте, что его точка зрения неверна, но не валите же на него того, в чем он ни на волос не грешен. Не называйте его славянофилом, когда мудрено найти точку зрения более противоположную славянофильской, чем та, на которой он стоит. Я далек от мысли признавать славянофилов людьми, сознательно подтасовывавшими факты и понятия – напротив, наиболее видные славянофилы были люди вполне искренние. Но тем не менее, оставляя в стороне их богословские воззрения и панславизм (об чем гр. Толстой не написал во всю свою жизнь ни одной строчки), не трудно видеть, что они провозили немало контрабанды под флагом начал русского народного духа. В экономическом отношении сделать из России Европу легче всего при помощи славянофильской программы, за вычетом из нее одного только пункта – поземельной общины. Как это на первый взгляд ни странно, но оно так. Славянофилы никогда не протестовали против утверждения в России европейских форм кредита, промышленности, экономических предприятий. Они требовали только, чтобы производительные силы России и ее потребители находились в русских руках. Так, например, они требовали покровительства русской промышленности, попросту говоря, высоких тарифов. Обставляя это требование орнаментами в вышеприведенном стиле, то есть рассуждениями о величии России и восклицаниями о каликах перехожих и киевских колоколах, славянофилы не смущались тем, что покровительственная торговая политика выгодна не России, а русским заводчикам. Под покровом киевских колоколов и калик перехожих они, сами того не замечая, стремились ускорить появление в России господствующих в Европе отношений между трудом и капиталом, то есть того, что сами они готовы были отрицать на словах и что составляет самое больное место европейской цивилизации. Гарантируйте русским фабрикантам десяток-другой лет отсутствия европейской конкуренции, и вы не отличите России от Европы в экономическом отношении. Недаром весьма просвещенные русские заводчики проникаются необычайною любовью к России всякий раз, когда заходит речь о тарифе. Недаром один из ораторов заседающего в эту минуту в Петербурге «съезда главных по машиностроительной промышленности деятелей», кажется известный своим красноречием г. Полетика, воскликнул: тогда (то есть после десятка-другого лет отсутствия европейской конкуренции) мы встретим врагов России русскою грудью и русским железом! Вот образчик чисто славянофильского пафоса. Русская грудь, русское железо и враги России играют тут такую же роль, как киевские колокола и Илья Муромец в паясничестве «Дня» и его корреспондента из дворян-домоседов: совсем об них речи нет, совсем они ненужны, совсем они даже бессмысленны, потому что врага нужно встречать просто хорошим железом, а будет ли оно русское или английское – это не суть важно. Русская грудь, русское железо и враги России притянуты сюда в качестве флага, прикрывающего контрабанду, скрадывающего разницу между Россией и русскими заводчиками. Этим-то скрадыванием и занимались всегда славянофилы. Они знали себе одно: или Русь-богатырь так казной-мошной истощала и ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму иметь своих собственных русских заводчиков, свои собственные акционерные общества, своих собственных русских концессионеров железных дорог и проч. Все выработанные и освященные европейской цивилизацией формы экономической жизни принимались славянофилами с распростертыми объятьями, со звоном киевских и других колоколов, если они обставлялись русскими и обруселыми именами собственными. А тем самым вызывалось изменение начал русской экономической жизни в чисто европейском смысле. Но изменение не могло ограничиться экономической стороной общественной жизни. Допустим, что русские фабриканты обеспечены от европейской конкуренции, что вследствие этого Русь-богатырь имеет своих собственных святорусских пролетариев и свою собственную святорусскую буржуазию; что значительная часть деревенского населения, стянувшись к городам, передала свои земли собственным святорусским лендлордам и фермерам; что появилась более или менее высокая заработная плата, появление которой гр. Толстой считает для России признаком упадка народного богатства и проч. Таким образом, русская промышленность и русское сельское хозяйство процветают. Как отзовется это изменение на других сторонах русской жизни? Вовсе не надо быть пророком, чтобы ответить на этот вопрос, потому что означенное изменение уже отчасти совершается. Мы видим, например, что народ забывает те свои, чисто народные песни, которые так восхищали славянофилов, как выражение начал русского духа, и запевает:
Мы на фабрике живали,
Мелки деньги получали, —
Мелки деньги пятаки
Посносили в кабаки.
Или:
Я куплю свому милому
Тот ли бархатный жилет.
Этой перемене должно, конечно, соответствовать и изменение нравственного характера русского рабочего люда. Политические условия страны опять-таки необходимо должны измениться, экономическая сила буржуазии и лендлордов необходимо повлечет ее по пути развития одного из европейских политических типов. В конце концов знаменитых начал русского духа не останется даже на семена, хотя процесс начался звоном киевских колоколов и вызовам тени Ильи Муромца.
Может показаться, что первые славянофилы гораздо глубже и, главное, проницательнее ненавидели европейскую цивилизацию. Я об этом спорить не буду. Замечу только, что Киреевские, Хомяков были поглощены преимущественно богословскими и философско-историческими, вообще отвлеченными, теоретическими интересами, что зависело от условий времени. Как только жизнь выдвинула на очередь вопросы практические, так немедленно обнаружилось внутреннее противоречие славянофильской доктрины, ее бессознательное тяготение к провозу европейской контрабанды под флагом начал русского народного духа. Вообще я вовсе не претендую на хотя бы даже приблизительно полный очерк славянофильства и связанных с ним учений. Славянофильство имело много почтенных сторон и оказало немало ценных услуг русскому обществу, чего, впрочем, отнюдь нельзя сказать о его преемниках, о тех межеумках, которые получили название «почвенников», – умалчиваю о головоногих «Гражданина». Я имею в виду только один, но весьма существенный признак славянофильства: в трогательной идиллии или с бурным пафосом, серьезно или при помощи буффонады, но славянофилы упорно отождествляли интересы и цели «незанятых классов» (древней или новой России) с интересами классов занятых, вдвигая их в национальное единство. Это справедливо и относительно первых славянофилов. Не стану этого доказывать, а просто сошлюсь на г. Страхова. Этот часто очень тонкий и меткий писатель назвал Ренана французским славянофилом. А Ренан смотрит на вещи так: «Мы уничтожили бы человечество, если бы не допустили, что целые массы должны жить славою и наслаждением других. Демократ называет глупцом крестьянина старого порядка, работавшего на своих господ, любившего их и наслаждавшегося высоким существованием, которое другие ведут по милости его пота. Конечно, тут есть бессмыслица при той узкой, запертой жизни, где все делается с закрытыми дверями, как в наше время. В настоящем состоянии общества преимущества, которые один человек имеет над другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствием или благородством другого кажется дикостью; но не всегда так было. Когда Губбио или Ассиз глядел на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовал. Тогда все участвовали в жизни всех; бедный наслаждался богатством богатого, монах радостями мирянина, мирянин молитвами монаха, для всех существовало искусство, поэзия, религия». Г. Страхов прав: это – истинно славянофильские воззрения.
Но это не суть воззрения гр. Толстого. Любопытно, что г. Страхов (статья его о Ренане напечатана в сборнике «Гражданина»), которого нельзя себе представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе и который, впрочем, столь же охотно преклоняет колена перед г. Н. Данилевским и – я не знаю – может быть, даже перед кн. Мещерским; любопытно, что г. Страхов вполне согласен с Ренаном. Он тоже верит, что толки об «общем благосостоянии» порождены постыдною завистью, сменившею восторг крестьянина старого порядка («молодшего брата»?) перед «свадебной кавалькадой молодого господина». Но, говорит г. Страхов, Россия гарантирована от толков в «общем благосостоянии» и от духа зависти, гарантирована глубокими началами русского народного духа, которому противен «житейский материализм». Увы! на эти гарантии наложил руку не кто иной, как – horribile dictu![2 - страшно сказать! (лат.) – Ред.] – гр. Лев Толстой. Он, так много превознесенный, меряет западную цивилизацию не началами русского духа и не какими-нибудь возвышенными мерками смиренномудрия и терпения, а «общим благосостоянием»! Он только потому отрицает эту цивилизацию, что она не ведет к общему благосостоянию, и справься она с этим пунктом, – гр. Толстой не будет ничего иметь против нее, Он, гр. Толстой, не смущаясь соображениями г. Страхова о зависти, утверждает, что «молодшему брату» действительно нет никакой причины радоваться на «кавалькаду молодого господина». Этого мало. На гнилом Западе мало ли что делается. Но и русский молодший брат, по мнению гр. Толстого, нисколько не заинтересован в том, что «русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу укрепилась нервами и обнимает своего обожаемого супруга»; нечего ему радоваться и тому, что русский купец или фабрикант исправно получает телеграммы о дороговизне или дешевизне сахара или хлопчатой бумаги. Молодший брат «только слышит гудение проволок и только стеснен законом о повреждении телеграфов». «Мысли, с быстротою молнии облетающие вселенную, не увеличивают производительности его пашни, не ослабляют надзора в помещичьих и казенных лесах, не прибавляют силы в работах ему и его семейству, не дают ему лишнего работника. Все эти великие мысли только могут нарушить его благосостояние, а не упрочить или улучшить, и могут только в отрицательном смысле быть занимательными для него». Вместо того чтобы приглашать молодшего брата радоваться процветанию отечественной литературы, гр. Толстой уверяет, что «сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды»; и «чтобы человеку из русского народа полюбить чтение „Бориса Годунова“ Пушкина или историю Соловьева, надо этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям».
Довольно. Прегрешение гр. Толстого очевидно. Я лично, впрочем, вижу во всем этом не прегрешение, а десницу гр. Толстого, свежую и здоровую часть его воззрений. Я отнюдь не думаю утверждать, чтобы все положительные и отрицательные результаты, к которым пришел гр. Толстой, были вполне верны. Главный и общий их недостаток состоит в излишней простоте. В самом деле, они до такой степени просты, что не могут вполне соответствовать действительности, всегда сложной и запутанной. Но дело не в этом. Раз установлена известная точка зрения на вещи, все остальное дело поправимое. Только за точку зрения гр. Толстого я и стою. И я искренно говорю, что не понимаю ни того, почему гр. Толстой прослыл мистиком, оптимистом, фаталистом, славянофилом, квасным патриотом и проч., ни того, почему его воззрения прошли бесследно в шестидесятых годах, когда мы были более или менее восприимчивы к свежей, оригинальной, хотя бы и парадоксальной мысли, ни, наконец, того, почему его воззрения возбудили такой шум теперь, когда…
II
В статье «О народном образовании» (старой, напечатанной в IV т. сочинений) Толстой говорит: «Мы, русские, живем в исключительно счастливых условиях относительно народного образования; наша школа не должна выходить, как в средневековой Европе, из условий гражданственности, не должна служить известным правительственным или религиозным целям, не должна вырабатываться во мраке отсутствия контроля над ней общественного мнения и отсутствия высшей степени жизненного образования, не должна с новым трудом и болями проходить и выбиваться из того cercle vicieux[3 - порочного круга (франц.). – Ред.], который столько времени проходили европейские школы, cercle vicieux, состоящий в том, что школа должна была двигать бессознательное образование, а бессознательное образование двигать школу. Европейские народы победили эту трудность, но в борьбе не могли не утратить многого. Будем же благодарны за труд, которым мы призваны пользоваться, и по тому самому не будем забывать, что мы призваны совершить новый труд на этом поприще».
Таким образом, граф Толстой, провозглашающий право и обязанность личности бороться с историческими условиями во имя ее идеалов и отрицающий прошлый ход европейской цивилизации, подает руку последним и лучшим плодам этой цивилизации. Эта рука есть десница графа Толстого. Ах, если бы у него не было шуйцы!.. Если бы не имели повода пристегиваться к его громкому имени всякие проходимцы, всякие пустопорожние люди и межеумки, по заслугам не пользующиеся сочувствием общества… Какой бы вес имело тогда каждое его слово и какое благотворное влияние имела бы эта вескость!..
Какова бы, однако, ни была шуйца графа Толстого, но уже из предыдущего видно, до какой степени недобросовестно относятся к нему многие наши критики, как хвалители, так и хулители. Замечательны, в самом деле, усилия, употребляемые многими для смешения гр. Толстого со всем, что только есть темного и промозглого в нашей литературе. По поводу статьи «Отечественных записок» и «Анны Карениной» в мрачных, поросших плесенью, пропитанных гнилостью и сыростью подвалах «Гражданина» и «Русского мира» раздались радостные вопли! Своды подвалов тряслись от криков: наш! наш! Он – певец священных радостей и забав «культурных слоев общества» и изобличитель «науки, им ослушной, суеты и пустоты»! Обитателям подвалов простительно это ликование. Понятно, что им лестно пристегнуться к светлому имени. Понятно также, что им не ясен истинный характер воззрений гр. Толстого на радости и забавы «культурных слоев общества». Много мерзостных подробностей быта этих слоев изображено в «Анне Карениной», и обитатели подвалов, пещерные люди, троглодиты, с гордостью указывали на эти подробности, как на нечто такое, чего не способны проделать «разночинцы». Еще бы! Но бог с ними, с пещерными людьми. Им многое простится, потому что они почти ничего не понимают. Совсем иначе приходится взглянуть на статью г. Евгения Маркова: «Последние могикане русской педагогии», напечатанную в № 5 «Вестника Европы». Статьи, более недобросовестной, более, скажу прямо, наглой мне давно не приходилось читать. Г. Марков тщательно облекается в полную парадную форму либерализма, ежеминутно брякает шпорами либерализма и потряхивает блестящими эполетами либерализма. Статья пропитана лирическим и патетическим жаром и тем не менее каждая ее строчка, так сказать, точеная, деланная, высиженная с весьма непохвальною целью. Звоном и блеском, которого так много, что даже в глазах рябит и тошно становится, прикрывается не непонимание, а простая передержка. Надо заметить, что автор есть тот самый г. Марков, который некогда полемизировал в «Русском вестнике» с гр. Толстым и которому последний отвечал статьей «Прогресс и определение образования». Я узнал об этом из следующего величественного заявления г-на Маркова: «С гр. Л. Н. Толстым мы встречаемся не в первый раз. В 1862 г. мы напечатали в „Русском вестнике“ статью под заглавием „Теория и практика яснополянской школы“, в которой сделали, по возможности, полный анализ как теоретических заблуждений, так и практических достоинств яснополянской школы. Педагогический журнал гр. Л. Н. Толстого закончился ответною статьей на нашу статью и не возобновлялся больше. Мы не были настолько нескромны, чтобы приписать нашему посильному анализу решение гр. Толстого прекратить защиту исповедуемой им теории обучения, но все-таки надеялись, что и наши замечания имели, вместе со школьным опытом гр. Толстого, некоторое влияние на изменение его педагогических убеждений. Поэтому теперь, когда оказывается, что гр. Толстой вновь поднимает старое копье и выступает с проповедью тех самых педагогических начал, которые выставлял он в 1862 году, на нас даже лежит некоторая нравственная обязанность не отказываться от состязания и явиться на защиту тех общеевропейских основ народного обучения, которые мы отстаивали против гр. Толстого двенадцать лет назад».
Право, мне жаль г. Маркова. Двенадцать лет человек был убежден, что он убедил и победил, спокойно занимался изучением итальянской живописи, недобросовестностью адвокатов, красотами Крыма и многими другими предметами, – вдруг оказывается, что враг и не думал класть оружие! Положение истинно трагическое. Я не думаю, однако, чтобы из него надлежало выходить при помощи тех приемов, которые г. Марков почему-то называет исполнением «нравственной обязанности».
Сердца русских педагогов должны трепетать от радости. Статья гр. Толстого налетела на них, как неожиданная туча, разразившаяся дождем и градом; цветы педагогии были прибиты к земле и еле-еле поднимали свои растрепанные венчики к небу, прося солнца и тишины. Вся литература, точно сговорившись, дружно поддержала гр. Толстого, а полемические опыты гг. Евтушевского, Бунакова, Медникова, редакции «Семьи и школы» и проч. были так слабы, так незаметны… Но мало-помалу сквозь тучу стали пробиваться солнечные лучи. Первым лучом была статья г. Цветкова в «Русском вестнике», появившаяся тотчас же вслед за статьей гр. Толстого в «Отечественных записках». Г. Цветков есть пещерный человек, троглодит, и нападение его на новую педагогию в лице барона Корфа должно было приятно щекотать самолюбие педагогов, как и всякое нападение, исходящее из среды пещерных людей. Но все-таки это был только, так сказать, отрицательный солнечный луч. Мало-помалу и в литературе то там то сям стали проскальзывать более или менее приятные для педагогов вещи (я думаю, тут много помогло педагогам появление в «Русском вестнике» «Анны Карениной»), а наконец… наконец, взошло и солнце, явилась статья г. Маркова «Последние могикане русской педагогии» в майской книжке «Вестника Европы». Восемь месяцев пребывали педагоги в томительном ожидании, восемь месяцев г. Евгений Марков работал, работал, работал… Результат налицо. Статья г. Маркова во многих отношениях далеко превосходит полемические опыты гг. Медникова, Евтушевского, Бунакова и проч. Те только старались быть развязными; но всякому было ясно, что они чего-то конфузятся. Г. Марков действительно развязен и к конфузу не имеет ни склонностей, ни способности. Гордиев узел полемики гг. Медников, Евтушевский, Бунаков и проч. старались распутать бойко и с колкостью, но так как они своим саном учителей юношества более приучены к степенности, то колкость и бойкость им не удавалась; при распутывании узла у них нервически дрожали руки, нервная дрожь слышалась и в голосе. Г. Марков, памятуя пример Александра Македонского, не распутывает узла, а разрубает его. Гг. Медников, Евтушевский, Бунаков и проч. имели вид скромных «штафирок», бьющих на то, чтобы действия их имели характер солидности, и, будучи втянуты в полемику, наносили удары столь неграциозно и неуклюже, что напоминали собой разыгравшуюся корову, держащую хвост на отлете вверх и несколько вбок. Г. Марков имеет, напротив, вид блестящего военного офицера из кавалеристов, с лихо закрученными усами, вполне уверенного в своей непобедимости и все дела обделывающего «по-военному». Педагоги вели войну почти исключительно оборонительную и только изредка делали вылазки наступательного характера. Г. Марков презирает оборонительную войну; он наступает, вторгается в неприятельскую страну, жжет, рубит, расстреливает, вешает, налагает контрибуции. Понятно, что сердца педагогов должны трепетать от радости при виде такого победоносного союзника. Он обладает именно теми качествами, недостаток которых обнаружили педагоги; он есть именно такой герой, каким бы они хотели быть, но по привычке к гражданской деятельности быть не могут.
По человечеству, я рад за господ педагогов, если мир действительно осенил их взбаламученные души. Но я должен все-таки сказать, что, будь я педагог, я бы не обрадовался такому союзнику, как г. Марков. Мне казалось бы, что такой союзник компрометирует меня и мое дело, компрометирует именно своею развязностью и неконфузливостью.
Главная задача г. Маркова состоит в том, чтобы смешать гр. Толстого если не прямо с грязью, то хоть с г. Цветковым, автором статьи «Новые идеи в нашей народной школе», напечатанной в № 9 «Русского вестника». Г. Цветков есть один из «птенцов гнезда Каткова», то есть нечто вообще злобное, мрачное, воюющее с ветряными мельницами, ежеминутно готовое уличить в государственном преступлении и верстовой столб на большой дороге, и кротко блеющего барашка, и сороку, и ворону, и я не знаю кого и что. Одного штриха будет достаточно для убеждения читателя в том, что г. Цветков есть действительно птенец гнезда Каткова. Найдя в книге барона Корфа «Наш друг» несколько практических сельскохозяйственных советов (едва ли особенно нужных и полезных) и несколько указаний на полезных и вредных животных, г. Цветков разражается такими громами: «Без сомнения, проштудировав о любви ради пользы и выгоды, и о барышах, и о чистом доходе, ученики будут наведены, чтобы и без помощи учителя предложить себе вопросы вроде следующих: какую пользу приносит дряхлый старик, слабый ребенок, калека, больной? За что следует любить их? Какой чистый барыш могут принести мне яблоки, что растут за забором соседа?»
Казалось бы, переход от вредоносности суслика или мыши к воровству соседних яблок невозможен, немыслим. Но нас давно уже приучили к такого рода переходам, мало того, притупили в нас способность возмущаться этими вольтами и передержками. Было время, – оно от нас очень недалеко, – когда этих виртуозов можно было даже опасаться, но своим изумительным усердием и необычайным искусством, добытым продолжительною практикой, они достигли неожиданного результата: репутации шутов, подчас действительно смешащих, но в большинстве случаев слишком назойливых и надоедливых. Теперь их никто не боится, никто их кликушеством не возмущается, редко кого они смешат. Прочтут люди, пожмут плечами, и конец. Иначе и быть не может.
Фельетонисты «Русского мира» и критики «Русского вестника» все обличают кого-то в разрушении семьи, а увидав в последнем романе гр. Толстого Анну Каренину, Облонского, Вронского, самым осязательным образом разрушающих семейное начало, вдруг восклицают: «Вот люди, сохраняющие среди новых общественных наслоений лучшие предания культурного общества!» Эти несчастные уверены, что они говорят комплимент «культурному обществу»! Такое самозаушение было смешно, пока оно было внове, но теперь, глядя на него, можно только плечами пожать, потому что шутовство это уже надоело. Г. Цветков очень хорошо знает, что истребление овражков составляет в некоторых губерниях повинность; он, вероятно, держит у себя кошку, исправно истребляющую мышей, и вдруг проникается необычайной симпатией к овражкам и мышам и за наименование их бароном Корфом вредными и любви недостойными обвиняет почтенного барона в подговоре к истреблению стариков, калек и к воровству соседних яблок… Г. Цветков – русский клерикал, то есть нечто нравственно безногое, безрукое и безголовое, ибо клерикализм не имеет у нас на Руси ни даже подобия почвы. Духовенство русское никогда не обнаруживало ни желания захватить в свои руки воспитание юношества, ни того уменья, с которым ухватились за это дело, например, иезуиты или протестантские пасторы. Да и вообще прошедшее и настоящее русского духовенства таково, что мало-мальски серьезный русский клерикализм просто невозможен. Я полагаю, этого и доказывать нечего. Так вот с этим-то невозможным г. Цветковым г. Марков и желал смешать гр. Толстого. Достигает он этого способами поистине изумительными. Он, собственно говоря, очень хорошо понимает, что гр. Толстой – сам по себе, а г. Цветков – сам по себе. Статьи этих писателей появились почти единовременно. Г. Марков великодушно допускает, что это совпадение случайное. Он даже прямо говорит, что «удары, направляемые на нашу зарождающуюся народную школу, идут из двух совершенно противоположных лагерей». «И радикал (гр. Толстой) и клерикал (г. Цветков), – продолжает г. Марков, – сошлись в общей ненависти к нашей народной школе за ее общечеловеческий и общеевропейский характер и разными орудиями, с разным искусством, из разных побуждений дружно добиваются одной и той же цели – избиения русской народной школы. Этот искусственный минутный союз напоминает такие же искусственные минутные союзы теперешних французских политических партий, где легитимисты идут то рядом с бонапартистами, то рядом с ультрарадикалами, чтобы обессилить единственную, пугающую их партию просвещенного и сознательного либерализма».
Г. Марков делает в этих словах совершенно верное и даже подходящее, но не совсем полное сравнение. Справедливо, что крайние партии во Франции часто вступают в минутные союзы; справедливо и то, что подобные союзы наичаще заключаются ввиду партии, которую г. Марков называет «партией просвещенного и сознательного либерализма» и которую правильнее было бы характеризовать русской поговоркой: ни богу свечка, ни черту кочерга. Но г. Марков не сказал, как поступают в подобных случаях люди «просвещенного и сознательного либерализма»: они мешают шашки, валят с больной головы на здоровую, валят грехи, например, бонапартистов на «ультрарадикалов» и стараются наловить в этой мутной воде как можно больше рыбы. Так поступает и г. Марков относительно г. Цветкова и гр. Толстого. Считая себя, вероятно, человеком просвещенного и сознательного либерализма, г. Марков не гнушается приемами смешения шашек, выработанными людьми просвещенного и сознательного либерализма в Европе. Он, открыто заявляющий, что г. Цветков и гр. Толстой суть представители совершенно противоположных лагерей, что они действуют различными орудиями и из различных побуждений, он в той же статье, нимало не смущаясь, кладет их обоих в ступу просвещенного и сознательного либерализма и с азартом толчет их вместе пестом «жалких слов».
Приведя из статьи гр. Толстого несколько фраз, г. Марков замечает: «Итак, ясно, что вина новой школы, по гр. Толстому, в том, что она изменила науке, недостаточно научна». Да, гр. Толстой указывает и доказывает это. Г-ну Маркову, по его словам, «дорога та живая идея, которая действует в новой школе и которая, собственно, и возмущает педагогов иного пошиба». Прекрасно. Г-ну Маркову надлежало бы только показать публике эту «живую идею», доказать всем смущенным статьей гр. Толстого, что последний говорит неправду, что наша педагогия вполне научна. Ведь это кажется так просто: покажите научные основания, в силу которых г. Миропольский уличает в невежестве барона Корфа и рекомендует благодарить создателя, который нам дал наружные уши, а вот рыбам так не дал; покажите научные основания, которыми руководствуется г. Белов, распевая:
Супцу нет уже нисколько, —
Все уж скушал мой сынок,
или г. Бунаков, задавая вопрос: сколько у курицы ног? и летает ли лошадь? Покажите эти научные основания – и спор немедленно прекратится. Если бы гр. Толстой и продолжал из упрямства твердить свое, ему бы никто не верил и оставался бы он гласом вопиющего в пустыне. Но г. Марков более склонен блистать эполетами и шпорами просвещенного либерализма, чем говорить дело. Поэтому он оставляет упрек гр. Толстого без рассмотрения и, только отметив его, иронически продолжает: «Новая школа готова совсем исправиться, стать неизмеримо научнее… но вдруг, повернувшись, встречает нападение г-на Цветкова. Он ей говорит: 1) Новая школа виновата в том, что она стремится дать массу научных фактов и сведений. 2) Новая школа, вместо того чтобы читать „божественное“», и т. д., и т. д.
Вы возмущены, читатель. И я вас понимаю. Г. Марков, рассыпавший в своей статье об адвокатах сильные выражения, вроде «прелюбодей мысли» и «софисты XIX века», брезгает даже софизмом, – он просто передергивает. Речь идет о гр. Толстом. Опровергните его и принимайтесь потом за г. Цветкова, – это ведь люди совершенно противоположных лагерей, действующие различными орудиями и из различных побуждений. Какое же дело гр. Толстому до того, в чем обвиняет новую школу г. Цветков, и обратно – какой резон г. Цветкову отвечать за гр. Толстого? Но г. Марков идет и дальше на этом скользком пути смешения шашек. Он систематизирует прием, который, я боюсь, приличествует только прелюбодеям мысли, возводит его в критический принцип.
Он говорит: «Мы не можем представить лучшего опровержения нашим оппонентам, как устроив между ними такую очную ставку; всецелое противоречие свидетелей, – на основании которого еще премудрый ветхозаветный судия посрамил двух старцев, оклеветавших невинную Сусанну, – считается окончательным доводом несправедливости на самом строгом судебном процессе. Поэтому мы не видим нужды приводить после этого (поэтому после этого?), в разъяснение истинных целей и сущности новой педагогии, какие-либо авторитетные свидетельства, хотя могли бы сделать это без малейшего труда. Что два союзника, одновременно производящие свое нападение с двух различных флангов, вдруг стукнулись лбами, означает одно: что они двигались в темноте и что они нападали на пустоту». Как вам нравится, читатель, этот новоявленный критический прием? Некто утверждает, что педагоги не могут представить в оправдание своей системы научных оснований и что они не сообщают ученикам новых сведений. Другой говорит, что педагоги сообщают слишком много научных сведений. Является г. Марков и, подражая премудрому ветхозаветному судии, объявляет, бряцая шпорами просвещенного либерализма: вы противоречите друг другу, следовательно вы оба врете, а поэтому я не стану после этого доказывать, что современная педагогия хороша, – это само собой ясно. Напрасно, г. Марков. Это вовсе не ясно. И лучше бы вам «без труда» набрать авторитетных свидетельств, чем трудиться над чисткой эполет просвещенного либерализма. Кроме барышень, которые «к военным людям так и льнут», блеском эполет никого и ни в чем убедить нельзя. Кто вас знает, может быть, вы и в самом деле можете доказать, что современная педагогия вполне научна и сообщает такое именно количество сведений, которое нужно. Отзвонили бы, да и с колокольни долой, а теперь вы можете звонить сколько вашей душе будет угодно и все-таки не вырвете у ереси гр. Толстого ни одной души, ибо слишком ясно, что вы занимаетесь прелюбодеянием мысли. Положим, что существует убеждение в неподвижности земли и солнца и что вы, г. Марков, разделяете это убеждение (конечно вы для этого слишком просвещенны, но, положим, к примеру). Вы присутствуете при астрономическом споре, в котором на ваших единомышленников нападают с одной стороны люди, доказывающие, что земля обращается около солнца, а с другой стороны – люди, верящие, что солнце вертится около земли. Вы, со свойственною вам развязностью, объясняете: и те и другие врут, ибо противоречат друг другу, а еще премудрый ветхозаветный судия и проч.: поэтому, я не стану доказывать после этого, что солнце и земля неподвижны, – это само собой ясно. Без сомнения, такой критический прием и добытый им результат весьма удобны, но могут ли они кого-нибудь убедить?
Николай Константинович Михайловский
«Есть два типа социологических исследований. Одни исследователи принимают за точку отправления судьбы общества или цивилизации, сводят задачу науки к познанию существующего и не могут или не желают дать руководящую нить для практики. Другие отправляются от судеб личности, полагая, что общество и цивилизация сами по себе цены не имеют, если не служат удовлетворению потребности личности; далее эти исследователи думают, что наука обязана дать практике нужные указания и изучать не только существующее, а и желательное…»
Николай Константинович Михайловский
Десница и шуйца Льва Толстого[1 - Десница – правая рука, шуйца – левая рука (ред.)]
I
Есть два типа социологических исследований. Одни исследователи принимают за точку отправления судьбы общества или цивилизации, сводят задачу науки к познанию существующего и не могут или не желают дать руководящую нить для практики. Другие отправляются от судеб личности, полагая, что общество и цивилизация сами по себе цены не имеют, если не служат удовлетворению потребности личности; далее эти исследователи думают, что наука обязана дать практике нужные указания и изучать не только существующее, а и желательное. Который же из этих двух типов социологических исследований одобряется и который отвергается гр. Толстым?
Изучив сочинения этого замечательного писателя со всем тщанием, на какое я способен, я отвечаю: не знаю. И это не потому, что он, должно быть из боязни модного слова, несколько презирает «социологию». Можно всю жизнь говорить прозой, даже не зная слова «проза». Не важно, нравится кому-нибудь или нет слово социология. Важно то, что всякий, изучающий какое-нибудь общественное явление, необходимо держится одного из двух поименованных типов социологического исследования. Надо держаться которого-нибудь одного, потому что они логически исключают друг друга. Логически – да, но фактически они могут уживаться рядом, и в таком случае шуйца не будет знать, что делает десница, и наоборот. Шуйца и десница гр. Толстого находятся именно в таких взаимных отношениях. Поэтому-то я и отвечаю на свой вопрос: не знаю. Не знаю потому, что из сочинений гр. Толстого можно извлечь очень резкие суждения в пользу обоих, логически исключающих друг друга типов исследования.
Много лет тому назад гр. Толстой занялся педагогиею и занялся так, как у нас очень редко кто занимается своим делом. Он не только не принял на веру какой бы то ни было готовой теории образования и воспитания, но, так сказать, изрыл всю область педагогии вопросами. Это зачем? какие основания такого-то явления? какая цель такого-то? – вот с чем подходил гр. Толстой и к самой сути педагогии и к разным ее подробностям. Делал он это с истинно замечательною смелостью. Смелость бывает разного рода. Есть смелость дикарей, подбегающих к самым жерлам направленных на них пушек, чтобы заткнуть их своими шляпами; это – смелость невежд, не имеющих понятия о трудностях предпринимаемого ими дела. Есть смелость Угрюм-Бурчеевых, смелость мраколюбцев, почерпаемая в беззаветной ненависти к свету. Есть смелость нравственно пустопорожних людей, готовых идти в любой поход без всякого умственного и нравственного багажа, без знаний и убеждений и не рассчитывающих на победу, но и в поражении не видящих чего-нибудь печального или позорного. Есть смелость отчаяния, когда человек сознает, что дело его проиграно, и бросается в самый пыл битвы, чтобы погибнуть. Есть смелость бретеров, жаждущих борьбы для процесса борьбы. Есть, наконец, смелость людей, глубоко преданных своему делу и верящих, что оно не сегодня-завтра восторжествует, что оно должно восторжествовать. Ввиду идеала, который им так ясен и близок, им не приходится гнуться перед господствующими мнениями, не приходится в оставленном ими храме видеть все-таки храм и в низверженном ими внутри себя кумире все-таки бога. Педагогические воззрения гр. Толстого налицо (они собраны в IV томе его сочинений), и всякий непредубежденный человек должен признать, что смелость его была последнего рода. Он, например, открыто восставал против университетского образования в такое время, когда общество ценило его очень высоко; но восставал, надо заметить, совсем не с точки зрения Магницкого, ныне у московских ученых опять получающей вес и значение. Он отрицал университеты не потому, что боялся света и свободы, и не потому, что желал какой-нибудь монополии высшего образования, предоставления его исключительно какому-нибудь одному классу общества. Совсем напротив, он находил, что университетское образование не свободно. Далее он, например, говоря, собственно, о народных училищах, самым серьезным образом повторял вопрос знаменитой г-жи Простаковой: зачем нужна география? Тут двойная смелость. Смело задать этот вопрос, но еще смелее указать, что он был уже задан одним из наиболее осмеянных литературных типов и стал даже некоторой притчей во языцех. Я убежден, что ни один самый завзятый мраколюбец, даже полумифический Аскоченский это сделать не посмеет, а посмеет только человек свободного и пытливого ума, вложивший свой особенный смысл в вопрос матери Митрофанушки. Только человек, поднятый знанием дела и любовью к нему на известную высоту, осмелится придать некоторое значение вопросу глупой Простаковой и тут же рядом скептически взглянуть на какое-нибудь изречение весьма ученого и даже умного мужа. Но понятное дело, что такая смелость и свобода отношений к изучаемому предмету не могут прийтись всем по плечу. Всегда найдутся люди, которые, гоняясь за дешевыми лаврами, высыпят целых три короба либеральных, но не идущих к делу возражений в таком роде: а! так, значит, вы солидарны с г-жой Простаковой? Поздравввляю! Затем начинается победоносное нашествие на г-жу Простакову, которое оканчивается, разумеется, победой, а победа над глупой, грубой и необразованной г-жой Простаковой убеждает возражателей и кое-кого из читателей, что они необыкновенно умные и высокообразованные люди. Нет поэтому ничего удивительного в том, что воззрения, высказанные гр. Толстым самым резким, определенным образом, но с подробным мотивированием в журнале «Ясная Поляна», были встречены неодобрительно. Даже г. Страхов, которого трудно представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе, даже и тот, хотя и погладил его по головке, но в значительной степени против шерсти. Большинство видело в «яснополянских» теориях, сомнениях и вопросах только мистический ультрапатриотизм и славянофильство, то есть то именно, что и ныне валят господа педагоги на гр. Толстого, как шишки на бедного Макара.
Из критических статей, вызванных педагогическою ересью «Ясной Поляны», для нас особенно любопытна статья г. Маркова, появившаяся в «Русском вестнике». Любопытна она, впрочем, только потому, что гр. Толстой ответил на нее замечательной статьей «Прогресс и определение образования» (Сочинения, т. IV, 171–215). Статья г. Маркова мне только и известна по ответу гр. Толстого, я не счел нужным ее разыскивать. Репутация гр. Толстого двойственна: как из ряду вон выходящего беллетриста и как плохого мыслителя. Эта репутация обратилась уже в какую-то аксиому, не требующую никаких доказательств. Только силой непрокритикованного предания и можно объяснить, например, такой факт. В московском обществе любителей российской словесности кто-то читал отрывок из не напечатанной еще тогда второй части «Анны Карениной». «С.-Петербургским ведомостям» немедленно пишут (телеграфировать бы надо!), что отрывок изумителен, превосходен, велик и проч. И в подтверждение приводится такая черта: когда Анна Каренина, уже пораженная стрелой Амура, возвращается в Петербург и встречается с мужем, то ей кажется, будто у него выросли уши! Корреспондент так и ставит восклицательный знак, выражая тем свое изумление перед психологической глубиной и эстетической силой этой подробности. Бывают люди, репутация которых как остроумцев до такой степени установилась, что им стоит только поздравить именинника, разинуть рот, мигнуть, попросить стакан чаю и т. п., чтобы все присутствующие пришли в необычайно веселое настроение. Так-то вот и с гр. Толстым. А между тем, может быть, тот же самый корреспондент «С.-Петербургских ведомостей» считает себя вправе смотреть на педагогические теории гр. Толстого сверху вниз. Это очень возможно, во-первых потому, что этому соответствует утвердившаяся репутация гр. Толстого, а во-вторых потому, что холопское унижение стоит всегда рядом с холопской заносчивостью. Я не знаю, придется ли мне говорить о гр. Толстом как беллетристе. Вероятно, придется. Здесь замечу только следующее. Говоря об нем как о первоклассном художнике, обыкновенно подразумевают не только его творческую силу, но и язык, сильный, точный, сжатый, выразительный и проч. Вот и г. Бунаков, в письме в редакцию «Семьи и школы» (1874, № 10), пишет, что напечатанная в «Отечественных записках» статья гр. Толстого есть сплошная нелепость и «ложь, написанная увлекательно, остроумно и таким прекрасным языком, каким умеет писать один только автор „Войны и мира“. Тут сказывается все та же двойственная репутация гр. Толстого, которая, однако, как и большинство ходячих репутаций, далеко не вполне основательна. Читатель, надеюсь, сейчас убедится, что первая же статья гр. Толстого, на которую я обращаю его внимание, – „Прогресс и определение образования“, отличается, напротив, редкою трезвостью, ясностью и силою мысли и вместе с тем языком крайне неточным, неправильным, а подчас и совершенно неуклюжим.
Гр. Толстой дал следующее определение: „Образование есть деятельность человека, имеющая своим основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образования“. Это сказано до такой степени неточно, неправильно, неуклюже, до такой степени не по-русски, что определение выходит крайне плохое. Однако тут виновата не мысль гр. Толстого, заслуживающая, напротив, большого внимания, а только его неумение выразить свою мысль. Занявшись практически педагогией, гр. Толстой пожелал найти такое определение образования, которое указывало бы его цель и, следовательно, момент прекращения деятельности образовывающего и образовывающегося; определение это должно было дать критерий педагогики, то есть некоторую истину, с высоты которой можно бы было решить вопрос о том, чему и как следует учить. Гр. Толстой рассуждает так. В обществе действует несколько причин, побуждающих одних образовывать, а других образовываться. Возьмем сначала деятельность образовывающегося, ученика. Он может учиться для того, чтобы избежать наказания, – это, по определению гр. Толстого, „учение на основании послушания“; для получения награды или для того, чтобы быть лучше других, – „учение на основании самолюбия“; для получения выгодного положения в свете, – „учение на основании материальных выгод и честолюбия“. Гр. Толстой все тем же неточным и неуклюжим языком утверждает, что „на основании этих трех разрядов строились и строятся различные педагогические школы: протестантские – на послушании, католические, иезуитские – на основании соревнования и самолюбия, наши российские – на основании материальных выгод, гражданских преимуществ и честолюбия“. Могут ли быть эти основания введены в науку? Нет, отвечает гр. Толстой, главным образом по двум причинам: 1) „при таких основаниях нет общего критериума педагогики, – и богослов и естественник одновременно считают свои школы непогрешительными, а не свои школы положительно вредными“; 2) потому, что при системе образования, построенной на одном из перечисленных начал, „приобретаются привычки послушания, раздраженное самолюбие и материальные выгоды; но это, конечно, не суть прямые цели образования“. Деятельность образовывающего также управляется различными мотивами, из которых главные: „желание сделать людей такими, которые были бы для нас полезны (помещики, отдававшие дворовых в ученье и в музыканты, правительство, приготовляющее для себя офицеров, чиновников и инженеров)“; послушание и материальные выгоды; самолюбие; „желание сделать других людей участниками в своих интересах, передать им свои убеждения и с этою целью передать им свои знания“. Только этот последний мотив, только побуждение учителя уравнять с собой знания ученика и соответственное побуждение ученика сравняться в знании с учителем – гр. Толстой признает достойным лечь во главу угла науки педагогии. Как только образовывающий передал свои знания образовывающемуся, – цель образования на данном пункте достигнута: ученик может идти дальше, искать новых учителей, но учитель свое дело сделал, то есть прямое, непосредственное дело образования. Но равенство знаний может быть достигнуто не на низшей, а только на высшей ступени знания „по той простой причине, что ребенок может узнать то, что я знаю, а я не могу забыть того, чтО я знаю; и еще потому, что мне может быть известен образ мысли прошедших поколений, а прошедшим поколениям не может быть известен мой образ мысли“. Это-то и есть „неизменный закон движения вперед образования“. Вот что хотел сказать гр. Толстой своим неуклюжим определением образования. Я желал бы выяснить шуйцу и десницу гр. Толстого по возможности независимо от педагогики и затем уже приложить найденное к спору гр. Толстого с педагогами. Прием этот кажется мне потому удобным, что мы сразу получим, таким образом, руководящую нить, и нам не нужно будет долго засиживаться на мелочах и частностях текущей педагогической распри, которые выяснены уже достаточно. Тем не менее обойти на этот раз педагогику совсем – не представляется никакой возможности. Я должен привести теперь же по крайней мере один вывод, который делает гр. Толстой из своего определения образования, собственно для того, чтобы показать, что определение это есть не бесплодная экскурсия в область отвлеченной мысли. На основании своего определения образования гр. Толстой считает возможным указать следующую цель науки педагогики: она должна изучать условия, благоприятствующие и препятствующие совпадению стремлений образовывающих и образовывающихся в одной общей цели. Этого-то совпадения, по мнению гр. Толстого, и нет в деле народного образования. Народ хочет учиться, правительства и частные лица хотят его учить, но стремления эти не имеют до сих пор общей точки, не совпадают. Отсюда все трагикомические подробности народного образования. Для устранения их нужно одно – полная свобода для образовывающихся выбора программы учения. К этому последнему результату приводят гр. Толстого и некоторые другие соображения. Но для нас пока достаточно и сказанного.
Замечательно, что упомянутая статья „Русского вестника“ (г. Маркова) направлена, как можно судить по цитатам гр. Толстого, не столько против приведенного определения образования и выводов из него, сколько против самой задачи гр. Толстого. Г. Марков считает нелепыми самые вопросы о цели и критерии педагогики. Он пишет: „Ясную Поляну“ смущает то обстоятельство, что в различные времена люди учат различному и различно. Схоластики одному, Лютер другому, Руссо по-своему, Песталоцци опять по-своему. Она видит в этом невозможность установить критериум педагогики и на этом основании отвергает педагогику. А мне кажется, она сама указала на этот необходимый критериум, приводя упомянутые примеры. Критериум – в том, чтобы учить, соображаясь с потребностями времени. Он прост и в совершенном согласии с историей и логикой. Лютер оттого только и мог быть учителем целого столетия, что сам был созданием своего века, думал его мыслию и действовал по его вкусу. Иначе его огромное влияние было бы или невозможно, или сверхъестественно; не походи он на своих современников, он бы исчез бесплодно, как непонятное, никому не нужное явление, – пришелец среди народа, которого даже языка он не понимает. То же и с Руссо и всяким другим. Руссо формулировал в своих теориях накипевшую ненависть своего века к формализму и искусственности, его жажду простых, сердечных отношений. Это была неизбежная реакция против версальского склада жизни, и, если бы только один Руссо чувствовал ее, – не явился бы век романтизма, не явились бы универсальные замыслы переродить человечество, декларации прав, Карлы Мооры и все подобное…6 Мне непонятно, чего бы хотел гр. Толстой от педагогии. Он все о крайней цели, о незыблемом критериуме хлопочет. Нет этих – так, по его мнению, не нужно никаких. Отчего же не вспомнит он о жизни отдельного человека, о своей собственной? Ведь он, конечно, не знает крайней цели своего существования, не знает общего философского критериума для деятельности всех периодов своей жизни. А ведь живет же он и действует; и оттого только живет и действует, что в детстве имел одну цель и один критериум, в молодости другие, теперь опять новые, и так далее».
Вот образец социологического исследования первого типа. Здесь налицо все признаки этого рода исследований. Г. Марков принимает за точку отправления судьбы общества или цивилизации и предлагает учить и учиться не тому, чтO тот или другой учитель или ученик считает нужным, полезным, избранным, а тому, чтO «соответствует потребностям времени», то есть потребностям известного исторического момента. Вместе с тем г. Марков сводит задачу науки к познанию существующего, так как отвергает надобность и возможность для педагога подняться выше существующего порядка вещей или вообще как-нибудь от него отклониться. Тем самым, наконец, г. Марков отказывается дать руководящую нить практике. Сказать: учите, соображаясь с потребностями времени, – значит ничего не оказать, потому что потребности времени остаются невыясненными. Я, впрочем, не намерен утомлять читателя собственным своим разбором мнений г. Маркова, во-первых потому, что не в них совсем дело, а во-вторых потому, что я не сумел бы сделать этот разбор лучше гр. Толстого. В своем ответе г. Маркову он стоит на истинно философской высоте, и, если бы не портили дела некоторые частности, почти исключительно зависящие от неправильности и неточности выражений, статья «Прогресс и определение образования» была бы безукоризненна во всех отношениях.
«Со времен Гегеля и знаменитого афоризма: „что исторично, то разумно“, – говорит гр. Толстой, – в литературных и изустных спорах, в особенности у нас, царствует один весьма странный умственный фокус, называющийся историческое воззрение.
Вы говорите, например, что человек имеет право быть свободным, судиться на основании только тех законов, которые он сам признает справедливыми, а историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известный исторический момент, обусловливающий известное историческое законодательство и историческое отношение к нему народа. Вы говорите, что вы верите в бога, – историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известные религиозные воззрения и отношения к ним человечества. Вы говорите, что Илиада есть величайшее эпическое произведение, – историческое воззрение отвечает, что Илиада есть только выражение исторического сознания народа в известный исторический момент. На этом основании историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте Илиады, а только указывает вам то место, которое наша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимает в истории: оно только сознает, но сознает не путем непосредственного сознания, а путем исторических умозаключений. Скажите, что вы любите или верите во что-нибудь, – историческое воззрение говорит: любите и верьте, и ваша любовь и вера найдут себе место в нашем историческом воззрении. Пройдут века, и мы найдем то место, которое вы будете занимать в истории; но вперед знайте, что то, что вы любите, не безусловно прекрасно, и то, во что вы верите, не безусловно справедливо; но забавляйтесь, дети, – ваша любовь и вера найдут себе место и приложение. К какому хотите понятию стоит только приложить слово историческое, – и понятие это теряет свое жизненное, действительное значение и получает только искусственное и неплодотворное значение в каком-то искусственно составленном историческом миросозерцании».
Вовсе не надо быть педантом, чтобы с некоторым недоумением остановиться перед этими невозможными «не только, а только», «только сознает, но сознает не путем сознания» и т. п., испещряющими речь знаменитого русского писателя. Но бог с ним, с языком гр. Толстого. Я упоминаю об нем только для того, чтобы лишний раз обратить внимание читателя на неосновательность ходячих репутаций. Больше я этой скучной материи касаться не буду. Читатель предупрежден и не станет строить какие-либо выводы на отдельных выражениях гр. Толстого, которые своею грамматическою неуклюжестью и логическою неправильностью слишком часто только затемняют, даже извращают мысль автора. Будем следить только за мыслью гр. Толстого. Она этого стОит, по крайней мере с моей точки зрения, с точки зрения профана, потому что из приведенных неуклюжих строк так и бьет тот дух жизни, который, нам, профанам, дороже всего. Очевидно, что суть протеста гр. Толстого против того, что он называет историческим воззрением, сосредоточивается в подчеркнутых мною словах. Значения исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности, гр. Толстой вовсе не отрицает. Он очень хорошо знает, что Илиада, известные понятия о божестве, известный общественный строй – суть продукты исторических условий. Но он хочет не только знать, какое место в истории занимают его идеалы: он хочет жить ими и, следовательно, знать их настоящую, теперешнюю цену, независимо от истории. В другом месте гр. Толстой говорит весьма определительно: «Статья „Русского вестника“ думает, что школы не могут и не должны быть изъяты из-под исторических условий. Мы думаем, что эти слова не имеют смысла, во-первых потому, что изъять из-под исторических условий нельзя ничего ни на деле, ни даже в мыслях. Во-вторых потому, что ежели открытие законов, на которых строилась и должна строиться школа, есть, по мнению г. Маркова, изъятие из-под исторических условий, то мы полагаем, что наша мысль, открывшая известные законы, действует тоже в исторических условиях, но что нужно опровергнуть или признать самую мысль путем мысли для того, чтобы разъяснить ее, а не отвечать на нее тою истиною, что мы живем в исторических условиях». Из этого видно, что г. Марков совершенно понапрасну рассыпал цветы своего красноречия. Гр. Толстому очень хорошо известна сила исторических условий. Она ему известна даже лучше, чем г. Маркову, или по крайней мере соображения о ней проводятся гр. Толстым дальше и последовательнее. Предполагая даже, что потребности времени суть нечто для всех ясное и определенное, я, с точки зрения все той же силы исторических условий, имею полное право восставать против этих потребностей времени, признавать их ложными, дрянными, желать их изменения, делать соответственные усилия и проч. Потому что, если во мне зародились известные сомнения и желания, так ведь они не с неба свалились, они тоже определены историческими условиями. И если мои сомнения и желания признаются кем-нибудь неосновательными, то оппонент мой должен оставить исторические условия в покое и представить какие-нибудь иные аргументы «от разума» или «от опыта». Историческими условиями можно оправдать всякую нелепость и всякую мерзость, для чего нет никакой надобности в длинных рассуждениях, к которым любят прибегать в подобных случаях: довольно указать на существование нелепости или мерзости, – тем самым они уже оправданы. Но это будет, собственно говоря, не оправдание, а празднословие, очень удобно опрокидываемое несколькими словами; теми самыми словами, которые сказал гр. Толстой: человек, стремящийся стереть с лица земли существующие нелепости и мерзости, есть тоже продукт истории. Против этого аргумента возражений нет. В своем ответе г. Маркову гр. Толстой поставил и разрешил (я не говорю, что это не было делаемо другими, задолго до гр. Толстого) теоретический вопрос высочайшей важности. Больших усилий стоило людям убедиться, что нет действий без причины, что и их людские действия, мысли, желания, чувства возникают в конце известного ряда явлений, сменяющих друг друга с физическою необходимостью. Убеждение это завоевывалось шаг за шагом, пробивая себе дорогу сквозь целый лес предрассудков. И только в сравнительно недавнее время оно восторжествовало благодаря соединенным усилиям статистиков, историков, психологов, физиологов, философов. Но, к сожалению, мысль о «законосообразности» человеческих действий, не успев даже наметить весь круг своих результатов, уже успела заразиться двумя исконными наследственными недугами человечества – фатализмом и оптимизмом. Удивляться надо в самом деле, какие это цепкие и прилипчивые болезни. Трудно даже найти в истории мысли теорию, которая не была бы хоть на короткое время покрыта злокачественною и отвратительною сыпью оптимизма и фатализма. А идея необходимости или законосообразности человеческих действий находится в условиях, особенно благоприятных для заражения. Фатализм есть учение или взгляд, не допускающий возможности влияния личных усилий на ход событий. Понятное дело, что этому взгляду очень удобно заразить собой теорию необходимости человеческих действий. Каждый из нас, жалких детищ вращающегося во вселенной ничтожного комка грязи, называемого землей, есть нечто вроде шашки, которую сила событий передвигает с одной клетки шахматной доски на другую. Шашка может иметь в ходе игры важное и не важное значение, но она жестоко ошибается, когда думает, что сама становится на такую-то клетку и могла бы, если бы захотела, стать на другую. В таком роде рассуждают многие статистики, историки и другие ученые люди не только в теоретической области познания существующего, а и в практической сфере жизни. Нам, профанам, эти рассуждения глубоко противны, мы их не можем переварить. И когда ученые люди говорят нам с презрительно-снисходительным видом: «Что ж делать! наука не может сказать ничего иного», – мы отвечаем: «Что ж делать! эта наука нас не удовлетворяет». Но мы замечаем, что она не удовлетворяет не только нас, а и самих ученых людей. Например, ученые люди говорят и пишут друг другу панегирики. За что? ведь не пишут же они панегириков камню, падающему на землю сообразно законам тяжести, и траве, начинающей весной зеленеть на лугах. Ученое открытие есть такое же звено известной цепи причинно связанных явлений, как и рост травы и падение камня; оно не может появиться раньше осуществления известных исторических условий, и ученый, сделавший открытие, есть опять-таки не больше как шашка, поставленная ходом игры на определенную клетку. Ученые люди бранят наше невежество и стараются просветить нас. За что бранят и зачем стараются? Одну шашку так же мало резонно бранить, как другой шашке мало резонно стараться. Очевидно, что есть сферы мысли, в которых теория необходимости наших действий, их полнейшей зависимости от данных исторических условий удовлетворяет человеческую природу, но есть и такие, где она равно не удовлетворяет и ученых и неученых людей, где теория исторических условий на каждом шагу путается в противоречиях и сама себя закалывает. Это – сфера практической мысли. Задним числом, конечно, можно доказать, что Лютер, например, только потому и мог быть учителем целого столетия, что «сам был созданием своего века, думал его мыслью и действовал по его вкусу». Совершенно справедливо, что, не будь у него многочисленных и многосторонних связей с своим временем и своим народом, он пролетел бы как падучая звезда. Но дело в том, что если бы сам Лютер не верил, что думает своею собственною мыслью и действует по своему собственному вкусу, то реформацию поднял бы не он, а кто-нибудь другой. Пусть, связанный историческими условиями по рукам и по ногам, Лютер обманывался, думая, что он свободно выбрал себе цель, – этот обман неизбежен в практической деятельности: он есть один из необходимых факторов тех самых исторических условий, незыблемость которых провозглашают фаталисты.
Гордые ученые и вдвое более гордые полуученые люди очень любят восклицать: без обмана! Восклицание это, конечно, очень хорошее и способное собрать вокруг восклицающего толпу людей с разинутым от умиления ртом. Но отчего же гордые ученые и вдвое более гордые полуученые люди не подумают о том, что наиболее разработанные отрасли физической науки допускают иногда заведомый обман и не конфузятся этого? Метафизики говорят: реальный мир есть обман. Наиболее разработанные отрасли физической науки говорят: обман так обман, нам до этого дела нет, мы признаем данный мир существующим, потому что того требуют условия человеческой природы, а может, это и в самом деле обман. Наиболее разработанные отрасли физической науки вводят в свои построения таких гипотетических деятелей, которых себе вполне ясно даже представить нельзя; это – обманы, но наука держится их, потому что в настоящую по крайней мере минуту ничто, кроме них, не дает возможности ориентироваться в известных рядах фактов. Почему же это науки разработанные не боятся обмана в такой мере, как науки (если только это науки) социальные, в которых кто во что горазд, в которых сколько голов, столько умов, в которых нет почти ничего прочного, установившегося, общепринятого? Да именно оттого, я думаю, что то – науки разработанные, а это – так, что-то вроде наук. Вполне светский человек может себе позволить некоторые уклонения от установившихся в его кругу нравов и обычаев и сделает так, что уклонения эти не только не будут колоть глаза, но даже усилят основной тон принятого порядка. Неофит, напротив, человек неопытный, не слившийся всем своим существом с известной общественной атмосферой, будет держаться каждой буквы светского кодекса, но именно эти его старания и изобличат в нем человека неопытного и неофита. Так же и с наукой. Давно ли у нас, например, так много толковали о необходимости индуктивного метода и крайней вредности дедуктивного. Между тем как раз в это время истинные ученые, хоть и не очень гордые, с величайшим успехом применяли дедукцию и двигали ею науку исполинскими шагами вперед. Они уже прошли ту ступень развития, на которой индукция признавалась единственным научным методом, и прилагали к делу, смотря по условиям своих задач, то наведение, то вывод. Эти же истинные, хоть и не очень гордые ученые рассуждают так: обман – вещь нехорошая, но если уж в том или другом случае без него по условиям человеческой природы обойтись нельзя, так делать нечего; надо только помнить, что это – обман, введенный в исследование с определенною целью, и что мы имеем право пользоваться им только в определенных случаях и под определенными условиями. Очевидно, что допущенный в науку в таком виде обман даже перестает быть обманом и становится просто орудием науки. А гордые социологи продолжают восклицать: без обмана! Не желая уподобляться Кифе Мокиевичу, я не стану рассуждать о том, что было бы, если бы люди действительно перестали обманываться насчет свободы своей деятельности. Но вот что я могу сказать, не боясь быть опровергнутым ученейшими из ученых: в момент деятельности я сознаю, что ставлю себе цель свободно, совершенно независимо от влияния исторических условий; пусть это – обман, но им движется история; я признаю, что и соседи мои выбирают себе цели жизни свободно; на этом только и держится возможность личной ответственности и нравственного суда, которых нельзя же вычеркнуть из человеческой души. Действительно, их вычеркнуть нельзя, надо признать их существование, а между тем они находятся в противоречии с познанием причинной связи явлений. Приходится осуждать то, что в данную минуту не может не существовать. Как тут быть? Это противоречие известно с очень давних пор, и много умных и глупых, ученых и неученых голов билось над его разрешением. Эти головы придумали три выхода. Одни, закалая на алтаре познания причинной связи явлений личную ответственность, совесть и нравственный суд, стоят на своем: без обмана! Но это не выход, потому что чувство ответственности, совесть и потребность нравственного суда суть вполне реальные явления психической жизни, допускающие наблюдения и вообще научные приемы исследования; они до такой степени реальны, что сами жрецы познания не чужды им в момент жертвоприношения; они произносят нравственный суд и сознают свое жертвоприношение действием свободным. Другие приносят, напротив, в жертву причинную связь явлений, утверждая, что человек свободен. Если это и выход из затруднения, то во всяком случае он не может быть принят наукой, потому что совершенно свободных явлений познавать нельзя, а наука только познает. Третьи, наконец, признавая противоречие между свободою и необходимостью неразрешимым по существу, говорят, что иногда мы должны признавать человеческие действия свободными, а иногда необходимыми.
К числу этих третьих принадлежит и гр. Толстой. На первый взгляд, это решение самое неудовлетворительное, наименее научное, потому что ему недостает единства и последовательности. Но это только на первый взгляд. Вы идете в место, лежащее на запад от вас; по дороге вы натыкаетесь на пропасть, которую обходите, уклоняясь к северу, потом круто сворачиваете к югу, потому что прямо перед вами непроходимое болото: несмотря на эти отклонения от пути на запад, вы идете единственной верной дорогой, потому что, направляясь по-вороньему, все прямо, вы провалитесь, утонете и вообще не дойдете до цели своей прогулки. Так и единство и последовательность в науке состоят вовсе не в том, чтобы всегда и везде употреблять одни и те же приемы исследования, а в том, чтобы всегда и везде смотреть на вещи так, как того требуют условия научной задачи. Этим достигается не только единство науки, но, что всего важнее, и примирение науки с жизнью. Поставьте только себя в положение гр. Толстого. Он поставил себе жизненную, живую цель, работает для нее, наконец, как ему кажется, достиг ее: узнал, чему и как следует учить. Вдруг является ученый человек, г. Марков, и говорит: каким вы, однако, вздором занимаетесь! разве вы можете придумать какое-нибудь свое собственное решение этого вопроса, независимое от исторических условий, в которых вы живете? Понятно ли читателю все безобразие этого рипоста г. Маркова, хотя в основании его лежит несомненная истина: гр. Толстой, как и всякий другой, не может вылезти из исторических условий. Дело в том, что в словах г. Маркова есть истина, но она пристраивается им совсем не к месту. Это часто бывает, что ученые люди суют несомненные истины не туда, где им нужно быть. Очки превосходная вещь, но когда мартышка надевала их себе на хвост, она делала большую ошибку. Мы, профаны, считаем своим священным правом, которого у нас отнять никто не может, право нравственного суда над собой и другими, право познания добра и зла, право называть мерзавца мерзавцем. Законосообразность человеческих действий есть великая истина, но она не должна посягать на это право, хотя бы уже потому, что она с ним ничего не поделает. В этой импотенции не к месту пристроенной истины заключается, собственно, комическая сторона ученых набегов на наше право называть мерзавца мерзавцем. Не будь ее, этой комической стороны, можно было бы ужаснуться тому неслыханному насилию над человеческой личностью, которое позволяют себе некоторые ученые люди, стараясь убедить нас, что мерзавец есть только продукт истории и что мы не смеем даже помыслить о деятельности по собственному вкусу, независимо от «исторических условий» и «потребностей времени». Дыба, испанский осел, нюренбергская железная девица, все ужасы инквизиции и русских застенков были бы милыми игрушками в сравнении с этим насилием, если бы только оно могло когда-нибудь переселиться из области словоизвержения в область живой действительности. Теперь дух насилия выражается только тем, что, как очень неправильно по форме, но очень метко и верно говорит гр. Толстой, «историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте Илиады, а только указывает вам то место, которое наша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимают в истории». Это – несомненное выражение духа насилия. Исторический воззритель, если такое существительное возможно, только потому стремится отравить вам известное наслаждение, что сам он не способен его оценить. Собственные свои цели он преследует так, как будто бы они имели вечную, непреходящую цену. Вон, например, Спенсер сочиняет социологию, которая должна остаться истинною даже в отдаленнейшем мраке будущего, а радикалу и торию говорит: благословляю вас на все ваши глупости, потому что они свое определенное место в истории займут; вы оба врете, но ничего, продолжайте, законами истории предписано вам обоим несколько времени поврать и затем умолкнуть (см. «Изучение социологии»). Ясно, что Спенсер потому только может так относиться к радикалу и торию, что ему совершенно чужды волнующие их интересы, что ему решительно все равно, восторжествует ли который-нибудь из них, и вообще все равно, как пойдут дела, о которых спорят торий и радикал. Когда речь идет о скверных каминных щипцах и неудобных аптекарских склянках, Спенсер совершенно изменяет тон: он не говорит, что скверные щипцы займут свое место в истории, он просто говорит, что щипцы скверны, потому что относится к щипцам и склянкам как живой человек. Величественные запрещения искать чего-нибудь, не помышляя об исторических условиях, и столь же величественные дозволения врать сообразно историческим условиям – суть продукты умственной мертвечины, мертвенного отношения к явлениям.
Итак, значение исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности, несомненно, но столь же несомненны право и возможность для личности судить о явлениях жизни без отношения к месту их в истории, а сообразно той внутренней ценности, которую им придает та или другая личность в каждую данную минуту. Это неизбежно вытекает из условий человеческой природы. Противоречие между необходимостью и свободой по существу неразрешимо, и мы должны попеременно опираться то на ту, то на другую. Когда на одну, когда на другую? Гр. Толстой отвечает на этот вопрос в статье «Прогресс и определение образования». Но резче и рельефнее выходит ответ, данный в много осмеянном одними и много расхваленном другими философском приложении к «Войне и миру». Там есть ряд определений, из которых я приведу следующие два: «Действия людей подлежат общим, неизменным законам, выражаемым статистикой. В чем же состоит ответственность человека перед обществом, понятие о которой вытекает из сознания свободы? – вот вопрос права. Поступки человека вытекают из его прирожденного характера и мотивов, действующих на него. Что такое есть совесть и сознание добра и зла поступков, вытекающих из сознания свободы? – вот вопрос этики». (Сочинения, VIII, 166.) В русской литературе мне известна только одна постановка вопроса о необходимости и свободе человеческих действий, совпадающая с постановкою гр. Толстого и не уступающая ей в ясности и категоричности. Она сделана одним из сотрудников «Отечественных записок в статье „Г. Кавелин как психолог“» («Отечественные записки» 1872, № 11). «Вопрос о произвольности не существует для науки. Психология неизбежно рассуждает, как бы он был решен отрицательно. Логика и этика столь же неизбежно рассуждают, как бы он был решен положительно».
Человек, будучи обязан признать всякое историческое явление законосообразным, имеет, однако, логическое и нравственное право, бороться с ним, признавая его пагубным, вредным, безнравственным. Отсюда прямой вывод, что исторический ход событий сам по себе совершенно бессмыслен и, взятый в своей грубой, эмпирической целости, может оказаться таким смешением добра и зла, что последнее перевесит первое. Гр. Толстой делает этот вывод. Он не только подвергает осмеянию афоризм «что исторично, то разумно», но, кроме того, довольно подробно анализируя ходячее понятие прогресса, приходит к заключению, что исторический путь, которым идет Западная Европа и на который сравнительно недавно вступила Россия, отнюдь не усыпан розами. Гр. Толстой полагает далее, что этот путь развития не есть единственный и что он может и должен быть избегнут Россией. Известно, что совершенно так же смотрят на дело славянофилы и их выродки – «почвенники». При ближайшем, однако, рассмотрении анализа прогресса гр. Толстого оказывается, что он самым существенным образом отличается от славянофильских воззрений. Читатель в этом сейчас убедится.
Покончив с фатализмом, гр. Толстой обращается к оптимизму. Г. Марков полагал, что искать критерия образования нет никакой надобности, потому что дело и без него очень просто: «каждый век кидает в общую кучу свою горсть, и чем дольше мы живем, тем выше поднимается эта куча, тем выше и мы с ней поднимаемся». Таким образом, все идет к лучшему в сем наилучшем из миров, шипов становится все меньше, а розы цветут и благоухают все роскошнее, Гр. Толстой находит, что этот образ кучи, возрастающей и вместе с тем поднимающей нас, далеко не передает истинного смысла истории. Движения истории он не отрицает, но он не согласен признавать верхние, позднейшие слои исторической кучи лучшими только потому, что они – верхние, позднейшие. Он требует для оценки исторических явлений иных, более сложных приемов, к выработке которых приступает весьма оригинальным образом. Именно он задает себе вопрос: кто признает рост исторической кучи, обыкновенно называемый прогрессом, кто признает его благом? «Так называемое общество, незанятые классы, по выражению Бокля». Рассматривая некоторые, наиболее выдающиеся «явления прогресса» (мы условились не придираться к неточности и неправильности выражений), гр. Толстой приходит к заключению, что они действительно суть благо для «незанятых классов». Например, по телеграфным проволокам «пролетает мысль о том, что возвысилось требование на такой-то предмет торговли и как потому нужно возвысить цену на этот предмет, или мысль о том, что я, русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу укрепилась нервами, обнимаю моего обожаемого супруга и прошу прислать мне в наискорейшем времени сорок тысяч франков»; сообщаются сведения о «дешевизне или дороговизне сахара или хлопчатой бумаги, о низвержении короля Оттона, о речи, произнесенной Пальмерстоном и Наполеоном III». Из всего этого незанятые классы извлекают огромные выгоды и много удовольствия. Извлекают они их и из книгопечатания, из улучшенных путей сообщения. Но почему же народ, девять десятых всего населения цивилизованных стран, «занятые классы» относятся к благам цивилизации по малой мере равнодушно, а то прямо враждебно? Потому, отвечает гр. Толстой, что блага цивилизации для народа вовсе не блага, они или проходят совершенно мимо его, или приносят ему больше зла, чем пользы. Г. Марков ссылался на Маколея. Гр. Толстой утверждает, что из знаменитой 3-й главы первой части истории Маколея можно выудить только следующие, наиболее выдающиеся факты: «1) Народонаселение увеличилось, – так что необходима теория Мальтуса. 2) Войска не было, теперь оно стало огромно, с флотом – то же самое. 3) Число мелких землевладельцев уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала на половину больше, цены же на все увеличились, и удобств в жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятирилась. Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют, и английские дамы стали писать без орфографических ошибок». Гр. Толстой убежден, что совокупность этих явлений, их общий характер несомненно выгоден для незанятых классов, которые поэтому с своей точки зрения имеют все резоны признавать его благом, но они не имеют права навязывать свое воззрение народу; народ, опять-таки с своей точки зрения, имеет тоже все резоны относиться к перечисленным фактам вполне равнодушно, а отчасти и враждебно. «Интересы общества (под обществом гр. Толстой разумеет так называемые образованные классы) и народа всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, тем невыгоднее другому». Сообразно этому распределяются и понятия «общества» и народа о том или другом историческом явлении в отдельности и об общем направлении истории. Но, спрашивается, неужели мы можем положиться на мнения людей грубых и невежественных, «проводящих жизнь на полатях, в курной избе или за сохою, ковыряющих сами себе лапти и ткущих себе рубахи, никогда не читавших ни одной книги, раз в две недели снимающих с насекомыми рубаху, по солнышку и по петухам узнающих время и не имеющих других потребностей, как лошадиная работа, спанье, еда и пьянство?» Гр. Толстой самым решительным образом становится на сторону грубого, грязного и невежественного народа. «Я полагаю, – говорит он, – что эти люди, называемые дикими, и целые поколения этих диких суть точно такие же люди и точно такое же человечество, как Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты. Я полагаю, что поколения работников носят в себе точно те же человеческие свойства и в особенности свойство искать где лучше, как рыба где глубже, как и поколения лордов, баронов, профессоров, банкиров и т. д. В этой мысли подтверждает и мое личное, без сомнения, малозначащее убеждение, состоящее в том, что в поколениях работников лежит и больше силы и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров, и, главное, подтверждает меня в этой мысли то простое наблюдение, что работник точно так же саркастически и умно обсуживает барина и смеется над ним за то, что он не знает – что соха, что сволока, что гречиха, что крупа; когда сеять овес, когда гречу; как узнать какой след; как узнать, тельна ли корова, или нет? и за то, что барин живет, всю жизнь ничего не делая, и т. п. Точно так же, как обсуживает барин работника и подтрунивает над ним за то, что тот говорит табе и сабе, фитанец, плант и т. п., и за то, что он в праздник напивается как животное и не знает, как рассказать дорогу. То же наблюдение поражает меня, когда два человека, разойдясь между собою, совершенно искренно называют друг друга дураками и подлецами. Еще более поражает меня это наблюдение в столкновениях восточных народов с европейскими. Индейцы считают англичан варварами и злодеями, англичане – индейцев; японцы – европейцев; европейцы – японцев; даже самые прогрессивные народы – французы считают немцев тупоголовыми, немцы считают французов безмозглыми. Из всех этих наблюдений я вывожу то умозаключение, что ежели прогрессисты считают народ не имеющим права обсуждать своего благосостояния и народ считает прогрессистов людьми, озабоченными корыстными, личными видами, то из этих противоположных воззрений нельзя вывести справедливости ни той, ни другой стороны. И потому я должен склониться на сторону народа, на том основании, что: 1) народа больше, чем общества, и что потому должно предположить, что бРльшая доля правды на стороне народа; 2) и главное потому, что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям, как-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественные произведения (Илиада, руские песни). Прогрессисты же не могли бы существовать без народа». В конце концов гр. Толстой объясняет, что «весь интерес истории заключается для него не в прогрессе цивилизации, а в прогрессе общего благосостояния. Прогресс же благосостояния, – продолжает он, – по нашим убеждениям, не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большею частию противоположен ей. Ежели есть люди, которые думают противное, то это должно быть доказано. Доказательств же этих мы не находим ни в непосредственном наблюдении явлений жизни, ни на страницах историков, философов и публицистов… Эти люди признают без всякого основания вопрос о тождестве общего благосостояния и цивилизации решенным».
Но, может быть, прогресс, как он выразился в истории Западной Европы, есть нечто фатальное, нечто неизбежно обязательное как для самой Европы в будущем, так и для других стран, стоящих на низших ступенях цивилизации? Из предыдущего уже видно, что гр. Толстой должен был отвечать на этот вопрос отрицательно. Он так и отвечает. Он говорит, что «не считает этого движения неизбежным». Обращаясь к России, он делает несколько беглых замечаний о разнице в условиях ее жизни и жизни Западной Европы. Я приведу только одно из этих замечаний. Упомянув о мнении Маколея, что благосостояние рабочего народа измеряется высотой заработной платы, гр. Толстой спрашивает: «Неужели мы, русские, до такой степени не хотим знать и не знаем положения своего народа, что повторим такое бессмысленное и ложное для нас положение? Неужели не очевидно для каждого русского, что заработная плата для русского простолюдина есть случайность, роскошь, на которой ничего нельзя основывать? Весь народ, каждый русский человек без исключения назовет несомненно богатым степного мужика с старыми одоньями хлеба на гумне, никогда не видавшего в глаза заработной платы, и назовет несомненно бедным подмосковного мужика в ситцевой рубашке, получающего постоянно высокую заработную плату. Не только невозможно в России определять богатство степенью заработной платы, но смело можно сказать, что в России появление заработной платы есть признак уменьшения богатства и благосостояния. Это правило мы, русские, изучающие свой народ, можем проверить во всей России и потому, не рассуждая о богатстве всей Европы, можем и должны сказать, что для России, то есть для большей массы русского народа, высота заработной платы не только не служит мерилом благосостояния, но одно появление заработной платы показывает упадок народного богатства».
Этим исчерпываются, кажется, все существенные пункты статьи «Прогресс и определение образования». Теперь я прошу объяснить мне: что общего между приведенными воззрениями и мистицизмом, фатализмом, оптимизмом, квасным патриотизмом, славянофильством и проч., в которых только ленивый не упрекает гр. Толстого. Без сомнения, его анализ понятий прогресса и цивилизации далеко не полон (автор, впрочем, и не ставил себе целью полноту анализа), страдает и другими недостатками. Но дело, не в этом. Я обращаю только внимание читателя на точку зрения гр. Толстого. Она, прежде всего, не нова. Она установлена лет приблизительно за тридцать до занимающей нас статьи, но отнюдь не славянофилами, а европейскими социалистами. Если где искать у гр. Толстого славянофильских или «почвенных» тенденций, так именно в указанной статье, которая, собственно говоря, представляет целую политическую программу в сжатом, скомканном виде. Между тем здесь-то и выступает всего резче непричастность гр. Толстого к славянофильству. В статье нет и помину об одной из любимейших тем славянофильства, – о великой роли, предназначенной провидением славянскому миру, долженствующему стереть с лица земли или по крайней мере совершенно посрамить мир романо-германский. Мало того, что тема эта не затронута в статье, – гр. Толстой и вообще не написал на нее ни одной строки, – статья отрицает ее в самом корне, ибо гр. Толстой признает, что исторический ход событий сам по себе неразумен, бессмыслен, что для человека неустранимо сознание возможности с ним бороться, свободно ставя перед собой идеалы. Гр. Толстой с своей обычной смелостью бросает перчатку историческим условиям, вовсе не имея в виду, соответствуют они или не соответствуют началам русского, а тем паче славянского национального духа. Мистицизм, уверенный, что им уловлены пути, которыми провидение направляет человечество к известной цели, и пошлая трезвость, не знающая нравственной оценки исторических явлений, обе эти крайности, так часто совпадающие, уничтожены гр. Толстым одним ударом. Не отрицая законов истории, он провозглашает право нравственного суда над историей, право личности судить об исторических явлениях не только как о звеньях цепи причин и следствий, но и как о фактах, соответствующих или не соответствующих ее, личности, идеалам. Право нравственного суда есть вместе с тем и право вмешательства в ход событий, которому соответствует обязанность отвечать за свою деятельность. Живая личность со всеми своими помыслами и чувствами становится деятелем истории на свой собственный страх. Она, а не какая-нибудь мистическая сила, ставит цели в истории и движет к ним события сквозь строй препятствий, поставляемых ей стихийными силами природы и исторических условий. Гр. Толстой во всех своих доводах опирается единственно на разум и логические доказательства, – что было бы для славянофила почти невозможным подвигом при рассуждениях о русском народе и европейской цивилизации. Правда, как и славянофилы, гр. Толстой много говорит о народе и скептически относится к благам европейской цивилизации. Но разве сочувствие народу и критика европейской цивилизации составляют монополию славянофилов? Во всяком случае, гр. Толстой иначе относится к обоим этим пунктам славянофильской программы. Хотя славянофилы и много толковали о «народе», но почти всегда разумели под этим словом стихийную совокупность людей, говорящих русским языком и населяющих Россию. Гр. Толстой не признает этого единства русских людей или по крайней мере усматривает в нем такие два крупные обособления, что считает возможным приравнивать их отношения к отношениям враждебных национальностей. Для него «общество» и народ стоят друг перед другом в таких же, если можно так выразиться, нравственных позах, как французы и немцы в тот момент, когда они взаимно величают друг друга безмозглыми и пустоголовыми. Интересы «общества» и народа, говорит он, всегда противоположны. Правда, славянофилы также указывали на рознь идеалов и интересов высших и низших слоев совокупности русских людей. Они полагали, что рознь эта порождена Петровским переворотом, и только им. Говорят, что и гр. Толстой относится к Петровским реформам отрицательно. Я этого не знаю, потому что печатно гр. Толстой в таком смысле не высказывался. Во всяком случае, это весьма возможно. Но я почти уверен, что печатное изложение мнений гр. Толстого о Петровской реформе вполне обнаружило бы его непричастность к славянофильству, хотя бы уж потому, что Русь допетровскую он не может себе представлять в розовом свете. И в допетровской Руси существовали раздельно народ, «занятые классы» и, как выражается гр. Толстой, «общество», правда грубое, грязное, невежественное, но все-таки «общество». Что гр. Толстой именно так смотрит на дело, это видно из общего характера вышеприведенных его воззрений и из некоторых прямых указаний. Очень любопытно, например, следующее замечание. В статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» гр. Толстой рассуждает, между прочим, о преподавании истории и об том, следует ли ребятам только сообщать сведения, или же давать пищу их патриотическому чувству. Рассказав о впечатлении, произведенном на детей повестью о Куликовской битве, он замечает: «Но если удовлетворять национальному чувству, что же останется из всей истории? 612, 812 года – и всего». Это – замечание глубоко верное само по себе и вполне совпадающее с общим тоном десницы гр. Толстого. Действительно, 1612, 1812 года и отчасти времена монгольского ига суть единственные моменты национальной русской истории, в которые не было никакой розни между целями и интересами «общества» и народа. Много других блестящих войн вела Россия, и для «общества», для «незанятых классов» Суворовский переход через Альпы или венгерская кампания могут представлять даже больший патриотический интерес, чем 1612 и даже 1812 год. «Общество» знает цену тем отвлеченным началам, ради которых Суворов переходил через С.-Готард или русские войска ходили усмирять венгров. Народ – профан в этих отвлеченных началах: они не будят в нем никаких необыденных чувств, потому что не имеют с ним жизненной связи. И я уверен, что рассказ о почти невероятном подвиге перехода через Чертов мост или о том, что Гёргей пожелал сдаться русским, а не австрийцам, – не могут возбудить в народе ни патриотической гордости, ни вообще какого бы то ни было живого интереса, несмотря на то, что в обоих этих случаях русское оружие покрылось неувядаемою славой. Худо ли это, хорошо ли это – другой вопрос, но это – так. Гр. Толстой, в той же статье о преподавании истории, неподражаемо мастерски передает сцену оживления, возбужденного в яснополянской школе рассказом о войне 1812 года, особенно тот момент, когда, по определению одного из учеников, Кутузов, наконец, «окарачил» Наполеона. Суворов, Потемкин, Румянцев и другие славные русские полководцы «окарачивали» почище Кутузова, но они всегда останутся для народа бледными и неинтересными фигурами. Вот что, я думаю, хотел сказать гр. Толстой своим замечанием об исключительном, с точки зрения народа, характере 1612 и 1812 годов. Глубоко патриотическая подкладка «Войны и мира» в связи с другими причинами утвердила во многих убеждение, что гр. Толстой есть квасной патриот, славянофил, что он падает ниц перед всем, что отзывается пресловутой и едва ли кому-нибудь понятной «почвой», что он верит в какое-то мистическое величие России и проч. Одни радовались, другие бранились, а между тем это убеждение решительно ни на чем не основано. Оно не оправдывается даже шуйцей гр. Толстого, о которой – в следующий раз. Я не отрицаю случайных совпадений воззрений гр. Толстого с тем или другим пунктом славянофильского учения, но это совпадения именно только случайные. Гр. Толстой написал резко патриотическую хронику Отечественной войны, он написал бы, вероятно, таковую же хронику событий смутного времени. Не спорю, он впал бы, может быть, при этом в некоторую односторонность и преувеличение в оценке грехов и заслуг той или другой исторической личности, того или другого исторического факта. Но одно верно: роста и развития московской, допетровской Руси он никогда не изобразит розовыми, угодными для славянофилов красками. Не напишет он также ничего подобного «Богатырям» г. Чаева или «Пугачевцам» гр. Сальяса. Сравнение этих романов с «Войной и миром» очень соблазнительно и, смею думать, было бы небезынтересно с точки зрения профана. Но я должен отказаться от этой соблазнительной темы. Скажу только следующее. Ни от читателей, ни от критики не укрылась подражательность произведений гг. Чаева и Сальяса; слишком очевидно было, что эти писатели рабски копируют манеру «Войны и мира». Порешено было, что это плохие копии, и только, все было сведено к степени таланта. Только наш уважаемый сотрудник, г. Скабичевский, взглянул на дело несколько иначе. Но, будучи все-таки уверен в славянофильстве гр. Толстого, он, мне кажется, далеко не вполне измерил глубину различия между «Войной и миром», с одной стороны, и «Пугачевцами» и «Богатырями» – с другой. Гг. Чаев и Сальяс действительно рабски копировали манеру «Войны и мира» и изо всех сил старались то же слово так же молвить. Насколько неудачны оказались их старания, это дело второстепенное, ввиду того, что они не сумели схватить главного и существеннейшего в воззрениях гр. Толстого. Они, гг. Чаев и Сальяс, могут любую страницу русской истории, не моргнув глазом, обработать на манер «Войны и мира», и выйдет ни хуже, ни лучше, чем «Богатыри» и «Пугачевщина», а гр. Толстой призадумается. А если, паче чаяния, не призадумается и в суворовских, например, походах времен императора Павла увидит общенародное русское дело, то напишет вещь плохую, сравнительно, разумеется говоря. Вещь эта будет потому плоха, что гр. Толстой не верит в единство целей и интересов всех людей, говорящих русским языком, на протяжении всей русской истории. Он знает, что единство это есть явление крайне редкое в русской, как и в европейской истории, что много нужно условий для совпадения славы оружия с интересами и идеалами народа. Он лишен первобытной невинности и наивности людей, считающих возможным и даже обязательным гореть патриотическим пламенем при всякой победе русского оружия и вообще на всякой громкой странице русской истории. И если бы он вздумал заставить своих героев пламенеть по таким же поводам, по каким пламенеют почти все «герои», то есть положительные типы гг. Чаева и Сальяса, – это было бы пламя фальшивое, бледное, негодное, недостойное мыслящего и убежденного xудoжникa. Повторяю, случайные совпадения мнений гр. Толстого с славянофильскими воззрениями разных оттенков возможны и существуют, но общий тон его убеждений, по моему мнению, самым резким образом противоречит как славянофильским и почвенным принципам, так и принципам «официальной народности». В этом меня нисколько не разубеждают и слухи об отрицательном отношении гр. Толстого к Петровской реформе. Надо, впрочем, заметить, что только первые, старые славянофилы ненавидели и презирали Петра. Теперешние же эпигоны славянофильства относятся к нему совсем иначе. Года два тому назад я был приглашен на вечер, на котором должен был присутствовать один довольно известный петербургский славянофил. «Живого славянофила увидите», – заманивали меня. Я пошел смотреть на живого славянофила. Он оказался человеком очень говорливым, красноречивым и, между прочим, с большим пафосом доказывал, что Петр был «святорусский богатырь», «чисто русская широкая натура», что в нем целиком отразились начала русского народного духа. Это напомнило мне, что тоже прикосновенный к славянофильству г. Страхов одно время очень старался доказать, что нигилизм есть одно из самых ярких выражений начал русского народного духа… Я думаю, что если гр. Толстой исполнит приписываемое ему намерение написать роман из времен Петра Великого, то оставит эти несчастные начала народного духа, которые каждый притягивает за волосы к чему хочет, совсем в стороне. Быть может, он потщится свалить Петра с пьедестала как личность, быть может, он казнит в нем человека, толкнувшего Россию на путь европейских форм раздвоенности народа и «общества». Славянофильства тут все-таки не будет. Критика европейской цивилизации, представленная в статье о прогрессе гр. Толстым, и критика славянофильская не только не имеют между собою ничего общего, но мудрено даже найти два исследования одного и того же предмета, более противоположные и по исходным точкам, и по приемам, и по результатам. Прошу читателя сравнить воззрения гр. Толстого с следующими, например, строками, заимствованными из статьи «Зигзаги и арабески русского домоседа», напечатанной в № 4 «Дня» за 1865 год. Уверяю вас, что я не рылся в книгах для того, чтобы выудить этот перл. Мне хотелось найти что-нибудь подходящее для сравнения. Я взял первое попавшееся под руку славянофильское издание и, перевернув несколько страниц, нашел следующее:
«Всяким довольством обильна, величавым покоем полна, протекала когда-то старинная дворянская жизнь домоседская: мед, пиво варили, соленья солили и гостей угощали на славу – избытком некупленных, богом дарованных благ. И этой спокойно-беззаботной жизни не смущала залетная мысль, а если бушевала подчас кровь – пиры и охота, шуты и веселье разгулом утоляли взволновавшуюся буйную кровь». Затем идет длинное, все в том же шутовском стиле, описание запустения дворянской домоседской жизни. Все это просто подход, автору просто хочется сказать, что Южной России нужны железные дороги. Поговорив и о русских красавицах, и об удалых тройках, и еще невесть об чем, автор подступает, наконец, с божией помощью, к Илье Муромцу, ну, а уж известное дело, что от Ильи Муромца можно прямым путем до чего угодно дойти. Автор и доходит: «Не старцев, калик перехожих, ждет томящийся избытком богатств несбытных, земель непочатых южнорусский край – ждет он железного пути от срединной Москвы к Черному морю. Ждет его могучего соловьиного свиста древний престольный город Киев; встрепенется, оживет в нем старый русский дух богатырский; воссияют ярким золотом потемневшие златоглавые церкви, и звонче раздастся колокольный тот звон, что со всех концов земли русской утомленные силы, нажитое, накопленное горе ко святым пещерам зовет, облегченье, обновленье дает. Торный, широкий след проложила крепкая вера нетронутая да тяжелая, жизнию вскормленная скорбь народная – к городу Киеву. Но на перепутье другом создали силы народной жизни новый город Украины, Харьков торговый, – бьет ключом здесь торговая русская жизнь, север с югом здесь мену ведет, и стремятся сюда свежие, ретивые русские рабочие силы, к непочатым землям Черноморья и Дона, к просторным новороссийским степям, к Крыму безлюдному, что стоном стонет, рабочих рук просит. И сильный борец против Киева древнего – юный город, народной жизнью вновь указанный, созданный. Томятся, ждут города и земли – к кому направится новый желанный путь, кому дастся сила, кому бесплодие, бессилие?» Редакция «Дня», с своей стороны, не желая уступить в паясничестве своему корреспонденту, делает такое примечание от себя: «Моря и Москвы хочет доступить Киев, – пуще моря Москва нужна Харькову: Киеву – первый почет, да жаль обидеть и Харькова. Или Русь-богатырь так казной-мошной отощала и ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму за единый раз добыть обоих путей, обоих морей, железом сягнуть до Черного через Киев-град и Азовское на цепь к Москве через Харьков взять, чтобы никому в обиду не стало?»
Я не об том говорю, что гр. Толстой унизится до такого паясничества только в том случае, если у него бог разум отнимет. Это само собой разумеется. Я обращаю внимание читателей на внутреннюю подделку фактов и понятий, выглядывающую из-под этой нелепой, режущей ухо подделки речи. Нужды «дворян-домоседов» обставляются звоном киевских колоколов, Ильей Муромцем, каликами перехожими, и выходит так, как будто бы уж не о дворянах-домоседах речь идет, а о величии всей России. Вместо дворян-домоседов подсовывается «Русь-богатырь». С паясничеством или без паясничества, но славянофилы всегда очень удобно справлялись с материальными благами проклятой ими европейской цивилизации. Они только «духа» европейского не любили, они предпочитали начала русского или славянского духа. Много они об этом духе толковали, и потому выходило так, что они – необыкновенно возвышенные идеалисты, до которых гр. Толстому, как до звезды небесной, далеко. В самом деле, он критикует европейскую цивилизацию совсем не с точки зрения какого бы то ни было «духа», а с точки зрения такой прозаической и материальной вещи, как «общее благосостояние». С этой точки зрения он признает телеграфы, железные дороги, книгопечатание, заработную плату и другие «явления прогресса», которых он не перечисляет, явлениями выгодными для известной, малой части русской нации и невыгодными для другой, большей. Уличайте его в преувеличении, в парадоксах, доказывайте, что его точка зрения неверна, но не валите же на него того, в чем он ни на волос не грешен. Не называйте его славянофилом, когда мудрено найти точку зрения более противоположную славянофильской, чем та, на которой он стоит. Я далек от мысли признавать славянофилов людьми, сознательно подтасовывавшими факты и понятия – напротив, наиболее видные славянофилы были люди вполне искренние. Но тем не менее, оставляя в стороне их богословские воззрения и панславизм (об чем гр. Толстой не написал во всю свою жизнь ни одной строчки), не трудно видеть, что они провозили немало контрабанды под флагом начал русского народного духа. В экономическом отношении сделать из России Европу легче всего при помощи славянофильской программы, за вычетом из нее одного только пункта – поземельной общины. Как это на первый взгляд ни странно, но оно так. Славянофилы никогда не протестовали против утверждения в России европейских форм кредита, промышленности, экономических предприятий. Они требовали только, чтобы производительные силы России и ее потребители находились в русских руках. Так, например, они требовали покровительства русской промышленности, попросту говоря, высоких тарифов. Обставляя это требование орнаментами в вышеприведенном стиле, то есть рассуждениями о величии России и восклицаниями о каликах перехожих и киевских колоколах, славянофилы не смущались тем, что покровительственная торговая политика выгодна не России, а русским заводчикам. Под покровом киевских колоколов и калик перехожих они, сами того не замечая, стремились ускорить появление в России господствующих в Европе отношений между трудом и капиталом, то есть того, что сами они готовы были отрицать на словах и что составляет самое больное место европейской цивилизации. Гарантируйте русским фабрикантам десяток-другой лет отсутствия европейской конкуренции, и вы не отличите России от Европы в экономическом отношении. Недаром весьма просвещенные русские заводчики проникаются необычайною любовью к России всякий раз, когда заходит речь о тарифе. Недаром один из ораторов заседающего в эту минуту в Петербурге «съезда главных по машиностроительной промышленности деятелей», кажется известный своим красноречием г. Полетика, воскликнул: тогда (то есть после десятка-другого лет отсутствия европейской конкуренции) мы встретим врагов России русскою грудью и русским железом! Вот образчик чисто славянофильского пафоса. Русская грудь, русское железо и враги России играют тут такую же роль, как киевские колокола и Илья Муромец в паясничестве «Дня» и его корреспондента из дворян-домоседов: совсем об них речи нет, совсем они ненужны, совсем они даже бессмысленны, потому что врага нужно встречать просто хорошим железом, а будет ли оно русское или английское – это не суть важно. Русская грудь, русское железо и враги России притянуты сюда в качестве флага, прикрывающего контрабанду, скрадывающего разницу между Россией и русскими заводчиками. Этим-то скрадыванием и занимались всегда славянофилы. Они знали себе одно: или Русь-богатырь так казной-мошной истощала и ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму иметь своих собственных русских заводчиков, свои собственные акционерные общества, своих собственных русских концессионеров железных дорог и проч. Все выработанные и освященные европейской цивилизацией формы экономической жизни принимались славянофилами с распростертыми объятьями, со звоном киевских и других колоколов, если они обставлялись русскими и обруселыми именами собственными. А тем самым вызывалось изменение начал русской экономической жизни в чисто европейском смысле. Но изменение не могло ограничиться экономической стороной общественной жизни. Допустим, что русские фабриканты обеспечены от европейской конкуренции, что вследствие этого Русь-богатырь имеет своих собственных святорусских пролетариев и свою собственную святорусскую буржуазию; что значительная часть деревенского населения, стянувшись к городам, передала свои земли собственным святорусским лендлордам и фермерам; что появилась более или менее высокая заработная плата, появление которой гр. Толстой считает для России признаком упадка народного богатства и проч. Таким образом, русская промышленность и русское сельское хозяйство процветают. Как отзовется это изменение на других сторонах русской жизни? Вовсе не надо быть пророком, чтобы ответить на этот вопрос, потому что означенное изменение уже отчасти совершается. Мы видим, например, что народ забывает те свои, чисто народные песни, которые так восхищали славянофилов, как выражение начал русского духа, и запевает:
Мы на фабрике живали,
Мелки деньги получали, —
Мелки деньги пятаки
Посносили в кабаки.
Или:
Я куплю свому милому
Тот ли бархатный жилет.
Этой перемене должно, конечно, соответствовать и изменение нравственного характера русского рабочего люда. Политические условия страны опять-таки необходимо должны измениться, экономическая сила буржуазии и лендлордов необходимо повлечет ее по пути развития одного из европейских политических типов. В конце концов знаменитых начал русского духа не останется даже на семена, хотя процесс начался звоном киевских колоколов и вызовам тени Ильи Муромца.
Может показаться, что первые славянофилы гораздо глубже и, главное, проницательнее ненавидели европейскую цивилизацию. Я об этом спорить не буду. Замечу только, что Киреевские, Хомяков были поглощены преимущественно богословскими и философско-историческими, вообще отвлеченными, теоретическими интересами, что зависело от условий времени. Как только жизнь выдвинула на очередь вопросы практические, так немедленно обнаружилось внутреннее противоречие славянофильской доктрины, ее бессознательное тяготение к провозу европейской контрабанды под флагом начал русского народного духа. Вообще я вовсе не претендую на хотя бы даже приблизительно полный очерк славянофильства и связанных с ним учений. Славянофильство имело много почтенных сторон и оказало немало ценных услуг русскому обществу, чего, впрочем, отнюдь нельзя сказать о его преемниках, о тех межеумках, которые получили название «почвенников», – умалчиваю о головоногих «Гражданина». Я имею в виду только один, но весьма существенный признак славянофильства: в трогательной идиллии или с бурным пафосом, серьезно или при помощи буффонады, но славянофилы упорно отождествляли интересы и цели «незанятых классов» (древней или новой России) с интересами классов занятых, вдвигая их в национальное единство. Это справедливо и относительно первых славянофилов. Не стану этого доказывать, а просто сошлюсь на г. Страхова. Этот часто очень тонкий и меткий писатель назвал Ренана французским славянофилом. А Ренан смотрит на вещи так: «Мы уничтожили бы человечество, если бы не допустили, что целые массы должны жить славою и наслаждением других. Демократ называет глупцом крестьянина старого порядка, работавшего на своих господ, любившего их и наслаждавшегося высоким существованием, которое другие ведут по милости его пота. Конечно, тут есть бессмыслица при той узкой, запертой жизни, где все делается с закрытыми дверями, как в наше время. В настоящем состоянии общества преимущества, которые один человек имеет над другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствием или благородством другого кажется дикостью; но не всегда так было. Когда Губбио или Ассиз глядел на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовал. Тогда все участвовали в жизни всех; бедный наслаждался богатством богатого, монах радостями мирянина, мирянин молитвами монаха, для всех существовало искусство, поэзия, религия». Г. Страхов прав: это – истинно славянофильские воззрения.
Но это не суть воззрения гр. Толстого. Любопытно, что г. Страхов (статья его о Ренане напечатана в сборнике «Гражданина»), которого нельзя себе представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе и который, впрочем, столь же охотно преклоняет колена перед г. Н. Данилевским и – я не знаю – может быть, даже перед кн. Мещерским; любопытно, что г. Страхов вполне согласен с Ренаном. Он тоже верит, что толки об «общем благосостоянии» порождены постыдною завистью, сменившею восторг крестьянина старого порядка («молодшего брата»?) перед «свадебной кавалькадой молодого господина». Но, говорит г. Страхов, Россия гарантирована от толков в «общем благосостоянии» и от духа зависти, гарантирована глубокими началами русского народного духа, которому противен «житейский материализм». Увы! на эти гарантии наложил руку не кто иной, как – horribile dictu![2 - страшно сказать! (лат.) – Ред.] – гр. Лев Толстой. Он, так много превознесенный, меряет западную цивилизацию не началами русского духа и не какими-нибудь возвышенными мерками смиренномудрия и терпения, а «общим благосостоянием»! Он только потому отрицает эту цивилизацию, что она не ведет к общему благосостоянию, и справься она с этим пунктом, – гр. Толстой не будет ничего иметь против нее, Он, гр. Толстой, не смущаясь соображениями г. Страхова о зависти, утверждает, что «молодшему брату» действительно нет никакой причины радоваться на «кавалькаду молодого господина». Этого мало. На гнилом Западе мало ли что делается. Но и русский молодший брат, по мнению гр. Толстого, нисколько не заинтересован в том, что «русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу укрепилась нервами и обнимает своего обожаемого супруга»; нечего ему радоваться и тому, что русский купец или фабрикант исправно получает телеграммы о дороговизне или дешевизне сахара или хлопчатой бумаги. Молодший брат «только слышит гудение проволок и только стеснен законом о повреждении телеграфов». «Мысли, с быстротою молнии облетающие вселенную, не увеличивают производительности его пашни, не ослабляют надзора в помещичьих и казенных лесах, не прибавляют силы в работах ему и его семейству, не дают ему лишнего работника. Все эти великие мысли только могут нарушить его благосостояние, а не упрочить или улучшить, и могут только в отрицательном смысле быть занимательными для него». Вместо того чтобы приглашать молодшего брата радоваться процветанию отечественной литературы, гр. Толстой уверяет, что «сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды»; и «чтобы человеку из русского народа полюбить чтение „Бориса Годунова“ Пушкина или историю Соловьева, надо этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям».
Довольно. Прегрешение гр. Толстого очевидно. Я лично, впрочем, вижу во всем этом не прегрешение, а десницу гр. Толстого, свежую и здоровую часть его воззрений. Я отнюдь не думаю утверждать, чтобы все положительные и отрицательные результаты, к которым пришел гр. Толстой, были вполне верны. Главный и общий их недостаток состоит в излишней простоте. В самом деле, они до такой степени просты, что не могут вполне соответствовать действительности, всегда сложной и запутанной. Но дело не в этом. Раз установлена известная точка зрения на вещи, все остальное дело поправимое. Только за точку зрения гр. Толстого я и стою. И я искренно говорю, что не понимаю ни того, почему гр. Толстой прослыл мистиком, оптимистом, фаталистом, славянофилом, квасным патриотом и проч., ни того, почему его воззрения прошли бесследно в шестидесятых годах, когда мы были более или менее восприимчивы к свежей, оригинальной, хотя бы и парадоксальной мысли, ни, наконец, того, почему его воззрения возбудили такой шум теперь, когда…
II
В статье «О народном образовании» (старой, напечатанной в IV т. сочинений) Толстой говорит: «Мы, русские, живем в исключительно счастливых условиях относительно народного образования; наша школа не должна выходить, как в средневековой Европе, из условий гражданственности, не должна служить известным правительственным или религиозным целям, не должна вырабатываться во мраке отсутствия контроля над ней общественного мнения и отсутствия высшей степени жизненного образования, не должна с новым трудом и болями проходить и выбиваться из того cercle vicieux[3 - порочного круга (франц.). – Ред.], который столько времени проходили европейские школы, cercle vicieux, состоящий в том, что школа должна была двигать бессознательное образование, а бессознательное образование двигать школу. Европейские народы победили эту трудность, но в борьбе не могли не утратить многого. Будем же благодарны за труд, которым мы призваны пользоваться, и по тому самому не будем забывать, что мы призваны совершить новый труд на этом поприще».
Таким образом, граф Толстой, провозглашающий право и обязанность личности бороться с историческими условиями во имя ее идеалов и отрицающий прошлый ход европейской цивилизации, подает руку последним и лучшим плодам этой цивилизации. Эта рука есть десница графа Толстого. Ах, если бы у него не было шуйцы!.. Если бы не имели повода пристегиваться к его громкому имени всякие проходимцы, всякие пустопорожние люди и межеумки, по заслугам не пользующиеся сочувствием общества… Какой бы вес имело тогда каждое его слово и какое благотворное влияние имела бы эта вескость!..
Какова бы, однако, ни была шуйца графа Толстого, но уже из предыдущего видно, до какой степени недобросовестно относятся к нему многие наши критики, как хвалители, так и хулители. Замечательны, в самом деле, усилия, употребляемые многими для смешения гр. Толстого со всем, что только есть темного и промозглого в нашей литературе. По поводу статьи «Отечественных записок» и «Анны Карениной» в мрачных, поросших плесенью, пропитанных гнилостью и сыростью подвалах «Гражданина» и «Русского мира» раздались радостные вопли! Своды подвалов тряслись от криков: наш! наш! Он – певец священных радостей и забав «культурных слоев общества» и изобличитель «науки, им ослушной, суеты и пустоты»! Обитателям подвалов простительно это ликование. Понятно, что им лестно пристегнуться к светлому имени. Понятно также, что им не ясен истинный характер воззрений гр. Толстого на радости и забавы «культурных слоев общества». Много мерзостных подробностей быта этих слоев изображено в «Анне Карениной», и обитатели подвалов, пещерные люди, троглодиты, с гордостью указывали на эти подробности, как на нечто такое, чего не способны проделать «разночинцы». Еще бы! Но бог с ними, с пещерными людьми. Им многое простится, потому что они почти ничего не понимают. Совсем иначе приходится взглянуть на статью г. Евгения Маркова: «Последние могикане русской педагогии», напечатанную в № 5 «Вестника Европы». Статьи, более недобросовестной, более, скажу прямо, наглой мне давно не приходилось читать. Г. Марков тщательно облекается в полную парадную форму либерализма, ежеминутно брякает шпорами либерализма и потряхивает блестящими эполетами либерализма. Статья пропитана лирическим и патетическим жаром и тем не менее каждая ее строчка, так сказать, точеная, деланная, высиженная с весьма непохвальною целью. Звоном и блеском, которого так много, что даже в глазах рябит и тошно становится, прикрывается не непонимание, а простая передержка. Надо заметить, что автор есть тот самый г. Марков, который некогда полемизировал в «Русском вестнике» с гр. Толстым и которому последний отвечал статьей «Прогресс и определение образования». Я узнал об этом из следующего величественного заявления г-на Маркова: «С гр. Л. Н. Толстым мы встречаемся не в первый раз. В 1862 г. мы напечатали в „Русском вестнике“ статью под заглавием „Теория и практика яснополянской школы“, в которой сделали, по возможности, полный анализ как теоретических заблуждений, так и практических достоинств яснополянской школы. Педагогический журнал гр. Л. Н. Толстого закончился ответною статьей на нашу статью и не возобновлялся больше. Мы не были настолько нескромны, чтобы приписать нашему посильному анализу решение гр. Толстого прекратить защиту исповедуемой им теории обучения, но все-таки надеялись, что и наши замечания имели, вместе со школьным опытом гр. Толстого, некоторое влияние на изменение его педагогических убеждений. Поэтому теперь, когда оказывается, что гр. Толстой вновь поднимает старое копье и выступает с проповедью тех самых педагогических начал, которые выставлял он в 1862 году, на нас даже лежит некоторая нравственная обязанность не отказываться от состязания и явиться на защиту тех общеевропейских основ народного обучения, которые мы отстаивали против гр. Толстого двенадцать лет назад».
Право, мне жаль г. Маркова. Двенадцать лет человек был убежден, что он убедил и победил, спокойно занимался изучением итальянской живописи, недобросовестностью адвокатов, красотами Крыма и многими другими предметами, – вдруг оказывается, что враг и не думал класть оружие! Положение истинно трагическое. Я не думаю, однако, чтобы из него надлежало выходить при помощи тех приемов, которые г. Марков почему-то называет исполнением «нравственной обязанности».
Сердца русских педагогов должны трепетать от радости. Статья гр. Толстого налетела на них, как неожиданная туча, разразившаяся дождем и градом; цветы педагогии были прибиты к земле и еле-еле поднимали свои растрепанные венчики к небу, прося солнца и тишины. Вся литература, точно сговорившись, дружно поддержала гр. Толстого, а полемические опыты гг. Евтушевского, Бунакова, Медникова, редакции «Семьи и школы» и проч. были так слабы, так незаметны… Но мало-помалу сквозь тучу стали пробиваться солнечные лучи. Первым лучом была статья г. Цветкова в «Русском вестнике», появившаяся тотчас же вслед за статьей гр. Толстого в «Отечественных записках». Г. Цветков есть пещерный человек, троглодит, и нападение его на новую педагогию в лице барона Корфа должно было приятно щекотать самолюбие педагогов, как и всякое нападение, исходящее из среды пещерных людей. Но все-таки это был только, так сказать, отрицательный солнечный луч. Мало-помалу и в литературе то там то сям стали проскальзывать более или менее приятные для педагогов вещи (я думаю, тут много помогло педагогам появление в «Русском вестнике» «Анны Карениной»), а наконец… наконец, взошло и солнце, явилась статья г. Маркова «Последние могикане русской педагогии» в майской книжке «Вестника Европы». Восемь месяцев пребывали педагоги в томительном ожидании, восемь месяцев г. Евгений Марков работал, работал, работал… Результат налицо. Статья г. Маркова во многих отношениях далеко превосходит полемические опыты гг. Медникова, Евтушевского, Бунакова и проч. Те только старались быть развязными; но всякому было ясно, что они чего-то конфузятся. Г. Марков действительно развязен и к конфузу не имеет ни склонностей, ни способности. Гордиев узел полемики гг. Медников, Евтушевский, Бунаков и проч. старались распутать бойко и с колкостью, но так как они своим саном учителей юношества более приучены к степенности, то колкость и бойкость им не удавалась; при распутывании узла у них нервически дрожали руки, нервная дрожь слышалась и в голосе. Г. Марков, памятуя пример Александра Македонского, не распутывает узла, а разрубает его. Гг. Медников, Евтушевский, Бунаков и проч. имели вид скромных «штафирок», бьющих на то, чтобы действия их имели характер солидности, и, будучи втянуты в полемику, наносили удары столь неграциозно и неуклюже, что напоминали собой разыгравшуюся корову, держащую хвост на отлете вверх и несколько вбок. Г. Марков имеет, напротив, вид блестящего военного офицера из кавалеристов, с лихо закрученными усами, вполне уверенного в своей непобедимости и все дела обделывающего «по-военному». Педагоги вели войну почти исключительно оборонительную и только изредка делали вылазки наступательного характера. Г. Марков презирает оборонительную войну; он наступает, вторгается в неприятельскую страну, жжет, рубит, расстреливает, вешает, налагает контрибуции. Понятно, что сердца педагогов должны трепетать от радости при виде такого победоносного союзника. Он обладает именно теми качествами, недостаток которых обнаружили педагоги; он есть именно такой герой, каким бы они хотели быть, но по привычке к гражданской деятельности быть не могут.
По человечеству, я рад за господ педагогов, если мир действительно осенил их взбаламученные души. Но я должен все-таки сказать, что, будь я педагог, я бы не обрадовался такому союзнику, как г. Марков. Мне казалось бы, что такой союзник компрометирует меня и мое дело, компрометирует именно своею развязностью и неконфузливостью.
Главная задача г. Маркова состоит в том, чтобы смешать гр. Толстого если не прямо с грязью, то хоть с г. Цветковым, автором статьи «Новые идеи в нашей народной школе», напечатанной в № 9 «Русского вестника». Г. Цветков есть один из «птенцов гнезда Каткова», то есть нечто вообще злобное, мрачное, воюющее с ветряными мельницами, ежеминутно готовое уличить в государственном преступлении и верстовой столб на большой дороге, и кротко блеющего барашка, и сороку, и ворону, и я не знаю кого и что. Одного штриха будет достаточно для убеждения читателя в том, что г. Цветков есть действительно птенец гнезда Каткова. Найдя в книге барона Корфа «Наш друг» несколько практических сельскохозяйственных советов (едва ли особенно нужных и полезных) и несколько указаний на полезных и вредных животных, г. Цветков разражается такими громами: «Без сомнения, проштудировав о любви ради пользы и выгоды, и о барышах, и о чистом доходе, ученики будут наведены, чтобы и без помощи учителя предложить себе вопросы вроде следующих: какую пользу приносит дряхлый старик, слабый ребенок, калека, больной? За что следует любить их? Какой чистый барыш могут принести мне яблоки, что растут за забором соседа?»
Казалось бы, переход от вредоносности суслика или мыши к воровству соседних яблок невозможен, немыслим. Но нас давно уже приучили к такого рода переходам, мало того, притупили в нас способность возмущаться этими вольтами и передержками. Было время, – оно от нас очень недалеко, – когда этих виртуозов можно было даже опасаться, но своим изумительным усердием и необычайным искусством, добытым продолжительною практикой, они достигли неожиданного результата: репутации шутов, подчас действительно смешащих, но в большинстве случаев слишком назойливых и надоедливых. Теперь их никто не боится, никто их кликушеством не возмущается, редко кого они смешат. Прочтут люди, пожмут плечами, и конец. Иначе и быть не может.
Фельетонисты «Русского мира» и критики «Русского вестника» все обличают кого-то в разрушении семьи, а увидав в последнем романе гр. Толстого Анну Каренину, Облонского, Вронского, самым осязательным образом разрушающих семейное начало, вдруг восклицают: «Вот люди, сохраняющие среди новых общественных наслоений лучшие предания культурного общества!» Эти несчастные уверены, что они говорят комплимент «культурному обществу»! Такое самозаушение было смешно, пока оно было внове, но теперь, глядя на него, можно только плечами пожать, потому что шутовство это уже надоело. Г. Цветков очень хорошо знает, что истребление овражков составляет в некоторых губерниях повинность; он, вероятно, держит у себя кошку, исправно истребляющую мышей, и вдруг проникается необычайной симпатией к овражкам и мышам и за наименование их бароном Корфом вредными и любви недостойными обвиняет почтенного барона в подговоре к истреблению стариков, калек и к воровству соседних яблок… Г. Цветков – русский клерикал, то есть нечто нравственно безногое, безрукое и безголовое, ибо клерикализм не имеет у нас на Руси ни даже подобия почвы. Духовенство русское никогда не обнаруживало ни желания захватить в свои руки воспитание юношества, ни того уменья, с которым ухватились за это дело, например, иезуиты или протестантские пасторы. Да и вообще прошедшее и настоящее русского духовенства таково, что мало-мальски серьезный русский клерикализм просто невозможен. Я полагаю, этого и доказывать нечего. Так вот с этим-то невозможным г. Цветковым г. Марков и желал смешать гр. Толстого. Достигает он этого способами поистине изумительными. Он, собственно говоря, очень хорошо понимает, что гр. Толстой – сам по себе, а г. Цветков – сам по себе. Статьи этих писателей появились почти единовременно. Г. Марков великодушно допускает, что это совпадение случайное. Он даже прямо говорит, что «удары, направляемые на нашу зарождающуюся народную школу, идут из двух совершенно противоположных лагерей». «И радикал (гр. Толстой) и клерикал (г. Цветков), – продолжает г. Марков, – сошлись в общей ненависти к нашей народной школе за ее общечеловеческий и общеевропейский характер и разными орудиями, с разным искусством, из разных побуждений дружно добиваются одной и той же цели – избиения русской народной школы. Этот искусственный минутный союз напоминает такие же искусственные минутные союзы теперешних французских политических партий, где легитимисты идут то рядом с бонапартистами, то рядом с ультрарадикалами, чтобы обессилить единственную, пугающую их партию просвещенного и сознательного либерализма».
Г. Марков делает в этих словах совершенно верное и даже подходящее, но не совсем полное сравнение. Справедливо, что крайние партии во Франции часто вступают в минутные союзы; справедливо и то, что подобные союзы наичаще заключаются ввиду партии, которую г. Марков называет «партией просвещенного и сознательного либерализма» и которую правильнее было бы характеризовать русской поговоркой: ни богу свечка, ни черту кочерга. Но г. Марков не сказал, как поступают в подобных случаях люди «просвещенного и сознательного либерализма»: они мешают шашки, валят с больной головы на здоровую, валят грехи, например, бонапартистов на «ультрарадикалов» и стараются наловить в этой мутной воде как можно больше рыбы. Так поступает и г. Марков относительно г. Цветкова и гр. Толстого. Считая себя, вероятно, человеком просвещенного и сознательного либерализма, г. Марков не гнушается приемами смешения шашек, выработанными людьми просвещенного и сознательного либерализма в Европе. Он, открыто заявляющий, что г. Цветков и гр. Толстой суть представители совершенно противоположных лагерей, что они действуют различными орудиями и из различных побуждений, он в той же статье, нимало не смущаясь, кладет их обоих в ступу просвещенного и сознательного либерализма и с азартом толчет их вместе пестом «жалких слов».
Приведя из статьи гр. Толстого несколько фраз, г. Марков замечает: «Итак, ясно, что вина новой школы, по гр. Толстому, в том, что она изменила науке, недостаточно научна». Да, гр. Толстой указывает и доказывает это. Г-ну Маркову, по его словам, «дорога та живая идея, которая действует в новой школе и которая, собственно, и возмущает педагогов иного пошиба». Прекрасно. Г-ну Маркову надлежало бы только показать публике эту «живую идею», доказать всем смущенным статьей гр. Толстого, что последний говорит неправду, что наша педагогия вполне научна. Ведь это кажется так просто: покажите научные основания, в силу которых г. Миропольский уличает в невежестве барона Корфа и рекомендует благодарить создателя, который нам дал наружные уши, а вот рыбам так не дал; покажите научные основания, которыми руководствуется г. Белов, распевая:
Супцу нет уже нисколько, —
Все уж скушал мой сынок,
или г. Бунаков, задавая вопрос: сколько у курицы ног? и летает ли лошадь? Покажите эти научные основания – и спор немедленно прекратится. Если бы гр. Толстой и продолжал из упрямства твердить свое, ему бы никто не верил и оставался бы он гласом вопиющего в пустыне. Но г. Марков более склонен блистать эполетами и шпорами просвещенного либерализма, чем говорить дело. Поэтому он оставляет упрек гр. Толстого без рассмотрения и, только отметив его, иронически продолжает: «Новая школа готова совсем исправиться, стать неизмеримо научнее… но вдруг, повернувшись, встречает нападение г-на Цветкова. Он ей говорит: 1) Новая школа виновата в том, что она стремится дать массу научных фактов и сведений. 2) Новая школа, вместо того чтобы читать „божественное“», и т. д., и т. д.
Вы возмущены, читатель. И я вас понимаю. Г. Марков, рассыпавший в своей статье об адвокатах сильные выражения, вроде «прелюбодей мысли» и «софисты XIX века», брезгает даже софизмом, – он просто передергивает. Речь идет о гр. Толстом. Опровергните его и принимайтесь потом за г. Цветкова, – это ведь люди совершенно противоположных лагерей, действующие различными орудиями и из различных побуждений. Какое же дело гр. Толстому до того, в чем обвиняет новую школу г. Цветков, и обратно – какой резон г. Цветкову отвечать за гр. Толстого? Но г. Марков идет и дальше на этом скользком пути смешения шашек. Он систематизирует прием, который, я боюсь, приличествует только прелюбодеям мысли, возводит его в критический принцип.
Он говорит: «Мы не можем представить лучшего опровержения нашим оппонентам, как устроив между ними такую очную ставку; всецелое противоречие свидетелей, – на основании которого еще премудрый ветхозаветный судия посрамил двух старцев, оклеветавших невинную Сусанну, – считается окончательным доводом несправедливости на самом строгом судебном процессе. Поэтому мы не видим нужды приводить после этого (поэтому после этого?), в разъяснение истинных целей и сущности новой педагогии, какие-либо авторитетные свидетельства, хотя могли бы сделать это без малейшего труда. Что два союзника, одновременно производящие свое нападение с двух различных флангов, вдруг стукнулись лбами, означает одно: что они двигались в темноте и что они нападали на пустоту». Как вам нравится, читатель, этот новоявленный критический прием? Некто утверждает, что педагоги не могут представить в оправдание своей системы научных оснований и что они не сообщают ученикам новых сведений. Другой говорит, что педагоги сообщают слишком много научных сведений. Является г. Марков и, подражая премудрому ветхозаветному судии, объявляет, бряцая шпорами просвещенного либерализма: вы противоречите друг другу, следовательно вы оба врете, а поэтому я не стану после этого доказывать, что современная педагогия хороша, – это само собой ясно. Напрасно, г. Марков. Это вовсе не ясно. И лучше бы вам «без труда» набрать авторитетных свидетельств, чем трудиться над чисткой эполет просвещенного либерализма. Кроме барышень, которые «к военным людям так и льнут», блеском эполет никого и ни в чем убедить нельзя. Кто вас знает, может быть, вы и в самом деле можете доказать, что современная педагогия вполне научна и сообщает такое именно количество сведений, которое нужно. Отзвонили бы, да и с колокольни долой, а теперь вы можете звонить сколько вашей душе будет угодно и все-таки не вырвете у ереси гр. Толстого ни одной души, ибо слишком ясно, что вы занимаетесь прелюбодеянием мысли. Положим, что существует убеждение в неподвижности земли и солнца и что вы, г. Марков, разделяете это убеждение (конечно вы для этого слишком просвещенны, но, положим, к примеру). Вы присутствуете при астрономическом споре, в котором на ваших единомышленников нападают с одной стороны люди, доказывающие, что земля обращается около солнца, а с другой стороны – люди, верящие, что солнце вертится около земли. Вы, со свойственною вам развязностью, объясняете: и те и другие врут, ибо противоречат друг другу, а еще премудрый ветхозаветный судия и проч.: поэтому, я не стану доказывать после этого, что солнце и земля неподвижны, – это само собой ясно. Без сомнения, такой критический прием и добытый им результат весьма удобны, но могут ли они кого-нибудь убедить?