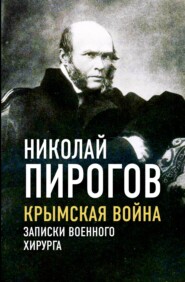По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Академик Пирогов. Избранные сочинения
Автор
Жанр
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лекции Пирогова были точны и наглядны. Каждое утверждение подкреплялось демонстрациями.
«Лекции мои продолжались недель шесть, – вспоминал Пирогов, – Слушателями были, кроме врачей Обуховской больницы, сам Н. Ф. Арендт, не пропускавший, к моему удивлению, буквально ни одной лекции, профессор Медико-хирургической академии Саломон, многие практики-врачи. Обстановка была самая жалкая. Покойницкая Обуховской больницы состояла из одной небольшой комнаты, плохо вентилированной и довольно грязной. Освещение состояло из нескольких сальных свечей. Слушателей набиралось всегда более двадцати. Я днем изготовлял препараты, обыкновенно на нескольких трупах, демонстрировал на них положение частей какой-либо области и тут же делал на другом трупе все операции, производящиеся на этой области, с соблюдением требуемых хирургическою анатомиею правил. Этот наглядный способ особливо заинтересовал слушателей; он для всех них был нов, хотя почти все слушали курсы и в заграничных университетах. Из чистокровных русских врачей никто не являлся на мой курс. И я читал по-немецки».
В Академии наук перед почтеннейшим собранием Пирогов прочитал лекцию о ринопластике. Он купил в парикмахерской манекен из папье-маше, отрезал у него нос, а лоб обтянул куском старой резиновой галоши. Рассказывая ход операции, выкроил из резины нос и с блеском пришил его на место. Он убедительно говорил об огромных возможностях пластической хирургии, о не изученных еще способностях человеческого тела, таких, как «восстановление целости поврежденных частей и развитие новой жизни в частях, перемещенных или пересаженных».
Фактически профессорская деятельность Пирогова началась еще в Риге до его утверждения в профессорском звании и продолжалась затем в Дерпте и Петербурге.
Министр Уваров принял будущего профессора Пирогова в шелковом халате. Как говорится, «О времена, о нравы!» Уваров согласился назначить Пирогова в Дерпт, поругал дерптских студентов и порассуждал о необходимости исправлять их нравственность, поскольку во время посещения Уваровым Дерпта студенты позволили себе посмеяться над господином министром. Разговаривая, Уваров играл поясом от халата, думал о чем-то своем, ему было не до Пирогова, не до кафедр хирургии и вообще не до ведомства народного просвещения, которым он руководил. Уваров жил своей жизнью, далекой от интересов Пирогова. Что ж, каждому свое.
Профессорская деятельность началась для Пирогова с улучшения своего немецкого языка. Заканчивая первую лекцию, Пирогов сказал: «Господа, вы слышите, что я худо говорю по-немецки. Поэтому мои лекции могут оказаться не такими ясными, как мне бы хотелось. Прошу вас сообщать после каждой лекции, в чем я не был достаточно вами понят, и я готов вновь повторять и объяснять все, что необходимо».
Скоро хирургия стала у студентов одним из любимейших предметов. Когда ученики попросили у Пирогова его портрет, он подарил им литографию с надписью: «Мое искреннейшее желание, чтобы мои ученики относились ко мне с критикой, моя цель будет достигнута только тогда, когда они убедятся в том, что я действую последовательно; действую ли я правильно? – это другое дело; это смогут показать лишь время и опыт».
Молодой профессор Пирогов начал с того, что объявил главным девизом своей деятельности абсолютную научную честность. Этот девиз он пронес через всю жизнь.
В 1837 году – на втором году профессуры – Пирогов выпустил первый том «Анналов хирургического отделения клиники Императорского университета в Дерпте». В 1839 году вышел в свет еще один том.
«Анналы» – это собрание историй болезни, распределенных по разделам в зависимости от характера заболевания. Подробные, тщательные описания сопровождались статьями-обобщениями, размышлениями, заметками, выводами. В «Анналах» много записей с анализом ошибок: «…я совершил крупную ошибку в диагнозе», «…чистосердечно признаюсь, что в этом случае я, может быть, слишком поторопился с операцией», «… в нашем лечении была совершена только одна ошибка, в которой я хочу чистосердечно признаться», «…при этом я не заметил, что… глубокая артерия бедра… не была перевязана», «…больного, описанного в случае 16, я таким образом буквально погубил… Я должен был быть менее тщеславным, и если я уже однажды совершил ошибку, решившись на операцию, то мог хотя бы спасти больному жизнь ценою жертвы конечности».
Пирогов требует от себя правды и честности. Не случайно он взял эпиграфом к «Анналам» слова Жан-Жака Руссо: «Пусть труба Страшного Суда зазвучит, когда ей угодно, я предстану перед Высшим Судьей с этой книгой в руках. Я громко скажу: вот что я делал, что думал, чем был!»
Титульный лист одного из первых изданий атласа «Хирургической анатомии…» Н. И. Пирогова
Николай Бурденко назвал «Анналы» Пирогова «образцом чуткой совести и правдивой души». Иван Павлов назвал их подвигом. «Анналы» – это правдивый рассказ о том, как распознавали болезни, как лечили, как заблуждались и как побеждали медики того времени. Но «Анналы» – это и научный документ, на страницах которого важные прозрения великого хирурга, бесстрашные шаги из прошлого в будущее, отказ от шаблона мысли, шаблона взгляда, шаблона действия, от «непостижимого стремления человеческого ума заключить природу в ограниченные рамки искусственной, надуманной классификации».
Не забывайте, что операции в то время проводились не так, как сегодня. Вот, например, описание операции по ампутации бедра: «Были сделаны два боковых разреза, чтобы можно было отвернуть кожу. У границы отвернутой кожи мышцы перерезаны двумя сильными сечениями и кость перепилена. Длительность операции – 1 минута 30 секунд. Было наложено шесть лигатур, одна кожная артерия перекручена. Во время операции и наложения повязки больной то и дело впадал в глубокий обморок, который преодолевался холодным опрыскиванием лица и груди, втиранием под носом аммиачной нюхательной соли и небольшими дозами винного напитка. Больной просил соленого огурца и получил ломтик».
Пирогов много оперировал. За первые два года его профессорской деятельности он провел триста двадцать шесть крупных операций: перевязывал артерии, ампутировал конечности, удалял руку вместе с лопаткой, вылущивал опухоли, делал глазные операции, занимался пластической хирургией.
Пирогов оперировал не только в Дерпте. Брал двух-трех помощников и отправлялся в поездку по губернии. Поездки эти называли в шутку «чингисхановыми нашествиями». В небольших городах Пирогов останавливался на неделю и успевал сделать полсотни и больше операций.
В Риге, где в военном госпитале было полторы тысячи коек, он являлся в госпиталь к семи утра, совершал обход, делал операции, потом спускался в покойницкую – вскрывать трупы. Из госпиталя ехал в городскую больницу. Оттуда – в богадельню. А дома его ждали больные – амбулаторный прием. И это обычный рабочий день Пирогова!
Но и у него не всегда все получалось. В воспоминаниях он откровенно смеется над собою, рассказывая случай, когда «самомнение поставило» его «в чистые дураки». «Прибыв в Дерпт с полным незнанием хирургии, – пишет Пирогов, – я на первых же порах, нигде ничего не читав о резекциях суставов, вдруг предлагаю у одного больного в клинике вырезать сустав и вставить потом искусственный… Мойер покачал головою и начал трунить надо мною… А нелепицу эту я сам изобрел. Я должен был прикусить язык и смеяться над собственною же нелепостью».
Интересно, что литературный талант Пирогова проявляется даже в его специальных текстах. Он пишет: «кровь протекает под пальцем с жужжанием», «упорство свищей», «шум кузнечных мехов в области сердца», «необходимо держать нож, как скрипичный смычок, одними только пальцами». Он сообщает о больном, доставленном для ампутации: «Один только вид его толстой, отечной, опухшей ноги у всякого отбил бы охоту притронуться к ней ножом». А вот как Пирогов учит производить ампутацию, не вынимая ножа из раны: «Подобно каллиграфу, который разрисовывает на бумаге сложные фигуры одним и тем же росчерком пера, умелый оператор может придать разрезу самую различную форму, величину и глубину одним и тем же взмахом ножа при гармоничных движениях действующей руки».
А это описание жизни в Дерпте: «Вот я, наконец, профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической. Один, нет другого. Это значило, что я один должен был:
1) держать клинику и поликлинику, по малой мере 2? – 3 часа в день;
2) читать полный курс теоретической хирургии— 1 час в день;
3) оперативную хирургию и упражнения на трупах – 1 час в день;
4) офтальмологию и глазную клинику – 1 час в день;
итого – 6 часов в день.
Но шести часов почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо более времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 часов, и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовления к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе».
По субботам у Пирогова собирались студенты. Это было умное и веселое общество, где увлеченно говорили о вивисекциях и вскрытиях, внимательно слушали рассказы об операциях знаменитых хирургов, выискивали нелепости в их приемах и объяснениях – и хохотали, как над удачным анекдотом.
Пирогов не повторял ошибки своих университетских учителей, объединяя теорию и практику в прочный, неразделимый сплав. Студент осматривал, выслушивал, ощупывал больного – предполагал, подозревал, искал. А профессор часто спрашивал: «Почему?» И студентам надо было объяснять, почему.
В 1837 году было опубликовано одно из самых значительных сочинений Пирогова «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Это был результат его восьмилетних трудов. Наука, которую Пирогов создавал всей своей практикой, теперь утверждалась в четких теоретических положениях и практических рекомендациях.
«Хирург, – писал Пирогов, – должен заниматься анатомией, но не так, как анатом… Кафедра хирургической анатомии должна принадлежать профессору не анатомии, а хирургии… Только в руках практического врача прикладная анатомия может быть поучительна для слушателей. Пусть анатом до мельчайших подробностей изучит человеческий труп, и все-таки он никогда не будет в состоянии обратить внимание учащихся на те пункты анатомии, которые для хирурга в высшей степени важны, а для него могут не иметь ровно никакого значения».
Пирогов, как правило, начинает с конкретной идеи, но она оказывается применимой к огромному кругу проблем. Хирургическую анатомию Пирогов разрабатывает и утверждает на базе совершенно конкретного учения о фасциях. Досконально изучив ход каждой фасции, он вывел определенные закономерности взаимоотношений фасций оболочек с кровеносными сосудами и окружающими тканями. То есть открыл новые анатомические законы. Пирогов считал: «если голова «не уравновешивает» руку обширными анатомическими познаниями, нож хирурга, даже опытного, «плутает, как дитя в лесу».
«Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» содержала более полусотни таблиц. Каждую операцию, о которой говорится в книге, Пирогов проиллюстрировал двумя или тремя рисунками. Он писал, что «хороший анатомо-хирургический рисунок должен служить для хирурга тем, чем карта-путеводитель служит путешествующему».
Когда Пирогов поехал во Францию учиться, он убедился, что его уровень как хирурга весьма высок. «Мне было в высшей степени приятно видеть, что ни одно из новейших достижений французской хирургии не осталось мне чуждым и все они время от времени встречались хотя бы в практической работе», – признавался Николай Иванович.
Пирогов также писал из Парижа, что «твердо взял себе за правило больше видеть, чем слышать. То, что здесь слышишь, к сожалению, часто противоречит тому, что видишь. Поэтому я стараюсь больше наблюдать госпитальную практику здешних хирургов, чем посещать их лекции».
В Париже Пирогов много ездил по госпиталям и анатомическим театрам, проводил дни на бойне, где разрешали вивисекции над больными животными.
В 1840 году ему исполнилось тридцать. Он уже пять лет занимал профессорскую кафедру, много работал, приходил домой поздно. Помогала по дому верная экономка, пожилая латышка Лена. Пирогов задумался о семье. Он очень нежно относился к дочери Мойера – Катеньке, которую родители называли Белоснежкой. Николай Иванович искренне верил, что, женясь на Катеньке, отблагодарит Мойера, и сделал ей предложение.
Но Катенька сообщила родителям, что Пирогов «всегда был ей безразличен». Она говорила подруге: «Жене Пирогова надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею». Друг семьи поэт Жуковский поддержал Катеньку в ее решении: «Да, что это еще Вы пишете мне о Пирогове? Шутка или нет? Надеюсь, что шутка. Неужели в самом деле возьметесь Вы предлагать его? Он, может быть, и прекрасный человек, и искусный оператор, но как жених он противен».
Пирогову отказали под предлогом, что Катенька Мойер давно обещана другому молодому человеку. Николай Иванович, естественно, обиделся. Но жизнь показала, что все было правильно, потому что и Катеньку, и Пирогова ждала впереди своя судьба и своя настоящая любовь. По существу, от того, что их брак не состоялся, все выиграли.
Вскоре Пирогова пригласили в Медико-хирургическую академию на одну из кафедр хирургии. Кандидатуру Пирогова предложил профессор терапии Карл Карлович Зейдлиц, воспитанник Дерптского университета, приятель Жуковского и Мойера.
Но Пирогову не нужна была кафедра без клиники, а в Петербурге при кафедре, которую ему предлагали, клиники не было. Поэтому он разработал проект преобразования находившегося рядом с академией 2-го Военно-сухопутного госпиталя в госпитальную клинику с передачей ее кафедре хирургии. Пирогов обоснованно доказал, что приближение практики к академии улучшит преподавание и подготовку врачей, а приближение теории к клинике усовершенствует лечение больных. Проект приняли.
В конце зимы 1841 года Пирогов переехал из Дерпта в Петербург. Подводя итоги всего сделанного в Дерптском университете, Пирогов писал впоследствии: «В течение 5 лет моей профессуры в Дерпте я издал: 1) Хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций, 2) Два тома клинических «Анналов», 3) Монографию о перерезании ахиллесова сухожилия. И сверх этого – целый ряд опытов над живыми животными, произведенных мною и под моим руководством, доставил материал для нескольких диссертаций, изданных во время моей профессуры».
В Петербург Пирогов приехал как известный хирург. На его лекции приходили не только медики, но и студенты других учебных заведений, инженеры, чиновники, военные, даже дамы. Интересно, что дома Пирогов репетировал свои лекции. Он любил повторять: «Ораторами становятся, поэтами рождаются».
В то время о Пирогове писали многие газеты и литературные журналы. В аудиторию и операционную к Пирогову ломился народ. Президент Петербургского общества русских врачей поднес тридцатилетнему профессору диплом почетного члена этого общества. Предложение Пирогова об организации госпитальной хирургической клиники было горячо поддержано конференцией Медико-хирургической академии, отметившей, что такая клиника принесет обучающимся «величайшую пользу», особенно если руководить ею будет сам Пирогов, «известный не только в России, но и за границей своими отличными талантами и искусством по оперативной хирургии».
Но была и другая сторона медали. В хирургическом отделении 2-го военно-сухопутного госпиталя, отданном Пирогову «во владение», его встретили муки больных, преступность начальства, воровство, высокая смертность. Госпиталь стоял на болоте, среди превращенных в гниющую свалку прудов и рытвин, в которых, не высыхая, зеленела густая зловонная жижа. Полы в хирургическом отделении были ниже уровня улиц. Госпитальные начальники открыто воровали, больные голодали. Аптекари сбывали лекарства на сторону, больным не давали даже простейших средств. Из-за преступного небрежения госпитального начальства больные целые дни оставались без лекарств. Это был дом торжествующего воровства и идиотизма.
Пирогов вел неравную борьбу, потому что ему противостояла не кучка преступников, а весь уклад российской жизни. Даже на десятом году работы Пирогов жаловался, что все лекарства он получает в меньших, чем надо, количествах, причем в отчетах это не указывается. Он писал: «Всякий врач должен быть, прежде всего, убежден, что злоупотребления в таких предметах, как пища, питье, топливо, белье, лекарство и перевязочные средства, действуют так же разрушительно на здоровье раненых, как госпитальные миазмы и заразы».
Злоупотребления отворяли дверь госпитальной инфекции, а за нею и смерти. Заразные больные сами готовили перевязочный материал из грязного белья. Фельдшера перекладывали повязки и компрессы с гноящихся ран одного больного на раны другого. Служители с медными тазами обходили десятки коек подряд, не меняя губки, обтирали раны. Инфекция уносила больных и сводила на нет всю работу хирургов. Пирогов объяснял: «Причину смерти должно искать не в операции, а в распространившейся с неожиданной силой миазме».
Томас Икинс. Операция с применением наркоза (фрагмент). 1889 г.
Оставались еще десятилетия до открытия средств борьбы с раневой инфекцией, а Пирогов уже говорил о заражении ран через инструменты и руки хирурга, о перенесении заразы с одной раны на другую через предметы, с которыми соприкасаются больные. Он предупреждал о заразности многих заболеваний.
Вскоре после прихода в академию Пирогов отделил больных с рожей и гангреной от остальных, разместив их в особом деревянном флигеле. Он считал нужным «отделить совершенно весь персонал гангренозного отделения – врачей, сестер, фельдшеров и служителей, дать им и особые от других отделений перевязочные средства, и особые хирургические инструменты». Пирогов запретил обтирать раны общими губками и приказал взамен поливать их из чайников, боролся с изготовлением перевязочного материала из грязной ветоши самими больными. Он требовал соблюдения гигиенических правил, поддержания чистоты, мытья рук.
Пирогов вел настоящую войну с госпитальной администрацией. Неравную борьбу, потому что здание госпиталя, инвентарь, инструменты, лекарства, дрова, свечи – все находилось во владении воров и взяточников, во всем искавших личную выгоду! Они видели в Пирогове только человека, который отнимает у них возможность воровать, а значит, фактически отнимает у них их деньги. Представляете, КЕМ был Пирогов для тех, кто крал хлеб и мясо из госпитальных мисок и сыпал в кружки больным золу вместо лекарства? Представляете, КАК они его ненавидели?
«Лекции мои продолжались недель шесть, – вспоминал Пирогов, – Слушателями были, кроме врачей Обуховской больницы, сам Н. Ф. Арендт, не пропускавший, к моему удивлению, буквально ни одной лекции, профессор Медико-хирургической академии Саломон, многие практики-врачи. Обстановка была самая жалкая. Покойницкая Обуховской больницы состояла из одной небольшой комнаты, плохо вентилированной и довольно грязной. Освещение состояло из нескольких сальных свечей. Слушателей набиралось всегда более двадцати. Я днем изготовлял препараты, обыкновенно на нескольких трупах, демонстрировал на них положение частей какой-либо области и тут же делал на другом трупе все операции, производящиеся на этой области, с соблюдением требуемых хирургическою анатомиею правил. Этот наглядный способ особливо заинтересовал слушателей; он для всех них был нов, хотя почти все слушали курсы и в заграничных университетах. Из чистокровных русских врачей никто не являлся на мой курс. И я читал по-немецки».
В Академии наук перед почтеннейшим собранием Пирогов прочитал лекцию о ринопластике. Он купил в парикмахерской манекен из папье-маше, отрезал у него нос, а лоб обтянул куском старой резиновой галоши. Рассказывая ход операции, выкроил из резины нос и с блеском пришил его на место. Он убедительно говорил об огромных возможностях пластической хирургии, о не изученных еще способностях человеческого тела, таких, как «восстановление целости поврежденных частей и развитие новой жизни в частях, перемещенных или пересаженных».
Фактически профессорская деятельность Пирогова началась еще в Риге до его утверждения в профессорском звании и продолжалась затем в Дерпте и Петербурге.
Министр Уваров принял будущего профессора Пирогова в шелковом халате. Как говорится, «О времена, о нравы!» Уваров согласился назначить Пирогова в Дерпт, поругал дерптских студентов и порассуждал о необходимости исправлять их нравственность, поскольку во время посещения Уваровым Дерпта студенты позволили себе посмеяться над господином министром. Разговаривая, Уваров играл поясом от халата, думал о чем-то своем, ему было не до Пирогова, не до кафедр хирургии и вообще не до ведомства народного просвещения, которым он руководил. Уваров жил своей жизнью, далекой от интересов Пирогова. Что ж, каждому свое.
Профессорская деятельность началась для Пирогова с улучшения своего немецкого языка. Заканчивая первую лекцию, Пирогов сказал: «Господа, вы слышите, что я худо говорю по-немецки. Поэтому мои лекции могут оказаться не такими ясными, как мне бы хотелось. Прошу вас сообщать после каждой лекции, в чем я не был достаточно вами понят, и я готов вновь повторять и объяснять все, что необходимо».
Скоро хирургия стала у студентов одним из любимейших предметов. Когда ученики попросили у Пирогова его портрет, он подарил им литографию с надписью: «Мое искреннейшее желание, чтобы мои ученики относились ко мне с критикой, моя цель будет достигнута только тогда, когда они убедятся в том, что я действую последовательно; действую ли я правильно? – это другое дело; это смогут показать лишь время и опыт».
Молодой профессор Пирогов начал с того, что объявил главным девизом своей деятельности абсолютную научную честность. Этот девиз он пронес через всю жизнь.
В 1837 году – на втором году профессуры – Пирогов выпустил первый том «Анналов хирургического отделения клиники Императорского университета в Дерпте». В 1839 году вышел в свет еще один том.
«Анналы» – это собрание историй болезни, распределенных по разделам в зависимости от характера заболевания. Подробные, тщательные описания сопровождались статьями-обобщениями, размышлениями, заметками, выводами. В «Анналах» много записей с анализом ошибок: «…я совершил крупную ошибку в диагнозе», «…чистосердечно признаюсь, что в этом случае я, может быть, слишком поторопился с операцией», «… в нашем лечении была совершена только одна ошибка, в которой я хочу чистосердечно признаться», «…при этом я не заметил, что… глубокая артерия бедра… не была перевязана», «…больного, описанного в случае 16, я таким образом буквально погубил… Я должен был быть менее тщеславным, и если я уже однажды совершил ошибку, решившись на операцию, то мог хотя бы спасти больному жизнь ценою жертвы конечности».
Пирогов требует от себя правды и честности. Не случайно он взял эпиграфом к «Анналам» слова Жан-Жака Руссо: «Пусть труба Страшного Суда зазвучит, когда ей угодно, я предстану перед Высшим Судьей с этой книгой в руках. Я громко скажу: вот что я делал, что думал, чем был!»
Титульный лист одного из первых изданий атласа «Хирургической анатомии…» Н. И. Пирогова
Николай Бурденко назвал «Анналы» Пирогова «образцом чуткой совести и правдивой души». Иван Павлов назвал их подвигом. «Анналы» – это правдивый рассказ о том, как распознавали болезни, как лечили, как заблуждались и как побеждали медики того времени. Но «Анналы» – это и научный документ, на страницах которого важные прозрения великого хирурга, бесстрашные шаги из прошлого в будущее, отказ от шаблона мысли, шаблона взгляда, шаблона действия, от «непостижимого стремления человеческого ума заключить природу в ограниченные рамки искусственной, надуманной классификации».
Не забывайте, что операции в то время проводились не так, как сегодня. Вот, например, описание операции по ампутации бедра: «Были сделаны два боковых разреза, чтобы можно было отвернуть кожу. У границы отвернутой кожи мышцы перерезаны двумя сильными сечениями и кость перепилена. Длительность операции – 1 минута 30 секунд. Было наложено шесть лигатур, одна кожная артерия перекручена. Во время операции и наложения повязки больной то и дело впадал в глубокий обморок, который преодолевался холодным опрыскиванием лица и груди, втиранием под носом аммиачной нюхательной соли и небольшими дозами винного напитка. Больной просил соленого огурца и получил ломтик».
Пирогов много оперировал. За первые два года его профессорской деятельности он провел триста двадцать шесть крупных операций: перевязывал артерии, ампутировал конечности, удалял руку вместе с лопаткой, вылущивал опухоли, делал глазные операции, занимался пластической хирургией.
Пирогов оперировал не только в Дерпте. Брал двух-трех помощников и отправлялся в поездку по губернии. Поездки эти называли в шутку «чингисхановыми нашествиями». В небольших городах Пирогов останавливался на неделю и успевал сделать полсотни и больше операций.
В Риге, где в военном госпитале было полторы тысячи коек, он являлся в госпиталь к семи утра, совершал обход, делал операции, потом спускался в покойницкую – вскрывать трупы. Из госпиталя ехал в городскую больницу. Оттуда – в богадельню. А дома его ждали больные – амбулаторный прием. И это обычный рабочий день Пирогова!
Но и у него не всегда все получалось. В воспоминаниях он откровенно смеется над собою, рассказывая случай, когда «самомнение поставило» его «в чистые дураки». «Прибыв в Дерпт с полным незнанием хирургии, – пишет Пирогов, – я на первых же порах, нигде ничего не читав о резекциях суставов, вдруг предлагаю у одного больного в клинике вырезать сустав и вставить потом искусственный… Мойер покачал головою и начал трунить надо мною… А нелепицу эту я сам изобрел. Я должен был прикусить язык и смеяться над собственною же нелепостью».
Интересно, что литературный талант Пирогова проявляется даже в его специальных текстах. Он пишет: «кровь протекает под пальцем с жужжанием», «упорство свищей», «шум кузнечных мехов в области сердца», «необходимо держать нож, как скрипичный смычок, одними только пальцами». Он сообщает о больном, доставленном для ампутации: «Один только вид его толстой, отечной, опухшей ноги у всякого отбил бы охоту притронуться к ней ножом». А вот как Пирогов учит производить ампутацию, не вынимая ножа из раны: «Подобно каллиграфу, который разрисовывает на бумаге сложные фигуры одним и тем же росчерком пера, умелый оператор может придать разрезу самую различную форму, величину и глубину одним и тем же взмахом ножа при гармоничных движениях действующей руки».
А это описание жизни в Дерпте: «Вот я, наконец, профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической. Один, нет другого. Это значило, что я один должен был:
1) держать клинику и поликлинику, по малой мере 2? – 3 часа в день;
2) читать полный курс теоретической хирургии— 1 час в день;
3) оперативную хирургию и упражнения на трупах – 1 час в день;
4) офтальмологию и глазную клинику – 1 час в день;
итого – 6 часов в день.
Но шести часов почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо более времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 часов, и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовления к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе».
По субботам у Пирогова собирались студенты. Это было умное и веселое общество, где увлеченно говорили о вивисекциях и вскрытиях, внимательно слушали рассказы об операциях знаменитых хирургов, выискивали нелепости в их приемах и объяснениях – и хохотали, как над удачным анекдотом.
Пирогов не повторял ошибки своих университетских учителей, объединяя теорию и практику в прочный, неразделимый сплав. Студент осматривал, выслушивал, ощупывал больного – предполагал, подозревал, искал. А профессор часто спрашивал: «Почему?» И студентам надо было объяснять, почему.
В 1837 году было опубликовано одно из самых значительных сочинений Пирогова «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Это был результат его восьмилетних трудов. Наука, которую Пирогов создавал всей своей практикой, теперь утверждалась в четких теоретических положениях и практических рекомендациях.
«Хирург, – писал Пирогов, – должен заниматься анатомией, но не так, как анатом… Кафедра хирургической анатомии должна принадлежать профессору не анатомии, а хирургии… Только в руках практического врача прикладная анатомия может быть поучительна для слушателей. Пусть анатом до мельчайших подробностей изучит человеческий труп, и все-таки он никогда не будет в состоянии обратить внимание учащихся на те пункты анатомии, которые для хирурга в высшей степени важны, а для него могут не иметь ровно никакого значения».
Пирогов, как правило, начинает с конкретной идеи, но она оказывается применимой к огромному кругу проблем. Хирургическую анатомию Пирогов разрабатывает и утверждает на базе совершенно конкретного учения о фасциях. Досконально изучив ход каждой фасции, он вывел определенные закономерности взаимоотношений фасций оболочек с кровеносными сосудами и окружающими тканями. То есть открыл новые анатомические законы. Пирогов считал: «если голова «не уравновешивает» руку обширными анатомическими познаниями, нож хирурга, даже опытного, «плутает, как дитя в лесу».
«Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» содержала более полусотни таблиц. Каждую операцию, о которой говорится в книге, Пирогов проиллюстрировал двумя или тремя рисунками. Он писал, что «хороший анатомо-хирургический рисунок должен служить для хирурга тем, чем карта-путеводитель служит путешествующему».
Когда Пирогов поехал во Францию учиться, он убедился, что его уровень как хирурга весьма высок. «Мне было в высшей степени приятно видеть, что ни одно из новейших достижений французской хирургии не осталось мне чуждым и все они время от времени встречались хотя бы в практической работе», – признавался Николай Иванович.
Пирогов также писал из Парижа, что «твердо взял себе за правило больше видеть, чем слышать. То, что здесь слышишь, к сожалению, часто противоречит тому, что видишь. Поэтому я стараюсь больше наблюдать госпитальную практику здешних хирургов, чем посещать их лекции».
В Париже Пирогов много ездил по госпиталям и анатомическим театрам, проводил дни на бойне, где разрешали вивисекции над больными животными.
В 1840 году ему исполнилось тридцать. Он уже пять лет занимал профессорскую кафедру, много работал, приходил домой поздно. Помогала по дому верная экономка, пожилая латышка Лена. Пирогов задумался о семье. Он очень нежно относился к дочери Мойера – Катеньке, которую родители называли Белоснежкой. Николай Иванович искренне верил, что, женясь на Катеньке, отблагодарит Мойера, и сделал ей предложение.
Но Катенька сообщила родителям, что Пирогов «всегда был ей безразличен». Она говорила подруге: «Жене Пирогова надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею». Друг семьи поэт Жуковский поддержал Катеньку в ее решении: «Да, что это еще Вы пишете мне о Пирогове? Шутка или нет? Надеюсь, что шутка. Неужели в самом деле возьметесь Вы предлагать его? Он, может быть, и прекрасный человек, и искусный оператор, но как жених он противен».
Пирогову отказали под предлогом, что Катенька Мойер давно обещана другому молодому человеку. Николай Иванович, естественно, обиделся. Но жизнь показала, что все было правильно, потому что и Катеньку, и Пирогова ждала впереди своя судьба и своя настоящая любовь. По существу, от того, что их брак не состоялся, все выиграли.
Вскоре Пирогова пригласили в Медико-хирургическую академию на одну из кафедр хирургии. Кандидатуру Пирогова предложил профессор терапии Карл Карлович Зейдлиц, воспитанник Дерптского университета, приятель Жуковского и Мойера.
Но Пирогову не нужна была кафедра без клиники, а в Петербурге при кафедре, которую ему предлагали, клиники не было. Поэтому он разработал проект преобразования находившегося рядом с академией 2-го Военно-сухопутного госпиталя в госпитальную клинику с передачей ее кафедре хирургии. Пирогов обоснованно доказал, что приближение практики к академии улучшит преподавание и подготовку врачей, а приближение теории к клинике усовершенствует лечение больных. Проект приняли.
В конце зимы 1841 года Пирогов переехал из Дерпта в Петербург. Подводя итоги всего сделанного в Дерптском университете, Пирогов писал впоследствии: «В течение 5 лет моей профессуры в Дерпте я издал: 1) Хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций, 2) Два тома клинических «Анналов», 3) Монографию о перерезании ахиллесова сухожилия. И сверх этого – целый ряд опытов над живыми животными, произведенных мною и под моим руководством, доставил материал для нескольких диссертаций, изданных во время моей профессуры».
В Петербург Пирогов приехал как известный хирург. На его лекции приходили не только медики, но и студенты других учебных заведений, инженеры, чиновники, военные, даже дамы. Интересно, что дома Пирогов репетировал свои лекции. Он любил повторять: «Ораторами становятся, поэтами рождаются».
В то время о Пирогове писали многие газеты и литературные журналы. В аудиторию и операционную к Пирогову ломился народ. Президент Петербургского общества русских врачей поднес тридцатилетнему профессору диплом почетного члена этого общества. Предложение Пирогова об организации госпитальной хирургической клиники было горячо поддержано конференцией Медико-хирургической академии, отметившей, что такая клиника принесет обучающимся «величайшую пользу», особенно если руководить ею будет сам Пирогов, «известный не только в России, но и за границей своими отличными талантами и искусством по оперативной хирургии».
Но была и другая сторона медали. В хирургическом отделении 2-го военно-сухопутного госпиталя, отданном Пирогову «во владение», его встретили муки больных, преступность начальства, воровство, высокая смертность. Госпиталь стоял на болоте, среди превращенных в гниющую свалку прудов и рытвин, в которых, не высыхая, зеленела густая зловонная жижа. Полы в хирургическом отделении были ниже уровня улиц. Госпитальные начальники открыто воровали, больные голодали. Аптекари сбывали лекарства на сторону, больным не давали даже простейших средств. Из-за преступного небрежения госпитального начальства больные целые дни оставались без лекарств. Это был дом торжествующего воровства и идиотизма.
Пирогов вел неравную борьбу, потому что ему противостояла не кучка преступников, а весь уклад российской жизни. Даже на десятом году работы Пирогов жаловался, что все лекарства он получает в меньших, чем надо, количествах, причем в отчетах это не указывается. Он писал: «Всякий врач должен быть, прежде всего, убежден, что злоупотребления в таких предметах, как пища, питье, топливо, белье, лекарство и перевязочные средства, действуют так же разрушительно на здоровье раненых, как госпитальные миазмы и заразы».
Злоупотребления отворяли дверь госпитальной инфекции, а за нею и смерти. Заразные больные сами готовили перевязочный материал из грязного белья. Фельдшера перекладывали повязки и компрессы с гноящихся ран одного больного на раны другого. Служители с медными тазами обходили десятки коек подряд, не меняя губки, обтирали раны. Инфекция уносила больных и сводила на нет всю работу хирургов. Пирогов объяснял: «Причину смерти должно искать не в операции, а в распространившейся с неожиданной силой миазме».
Томас Икинс. Операция с применением наркоза (фрагмент). 1889 г.
Оставались еще десятилетия до открытия средств борьбы с раневой инфекцией, а Пирогов уже говорил о заражении ран через инструменты и руки хирурга, о перенесении заразы с одной раны на другую через предметы, с которыми соприкасаются больные. Он предупреждал о заразности многих заболеваний.
Вскоре после прихода в академию Пирогов отделил больных с рожей и гангреной от остальных, разместив их в особом деревянном флигеле. Он считал нужным «отделить совершенно весь персонал гангренозного отделения – врачей, сестер, фельдшеров и служителей, дать им и особые от других отделений перевязочные средства, и особые хирургические инструменты». Пирогов запретил обтирать раны общими губками и приказал взамен поливать их из чайников, боролся с изготовлением перевязочного материала из грязной ветоши самими больными. Он требовал соблюдения гигиенических правил, поддержания чистоты, мытья рук.
Пирогов вел настоящую войну с госпитальной администрацией. Неравную борьбу, потому что здание госпиталя, инвентарь, инструменты, лекарства, дрова, свечи – все находилось во владении воров и взяточников, во всем искавших личную выгоду! Они видели в Пирогове только человека, который отнимает у них возможность воровать, а значит, фактически отнимает у них их деньги. Представляете, КЕМ был Пирогов для тех, кто крал хлеб и мясо из госпитальных мисок и сыпал в кружки больным золу вместо лекарства? Представляете, КАК они его ненавидели?
Другие электронные книги автора Николай Иванович Пирогов
Сочинения. Том 1




 4.5
4.5