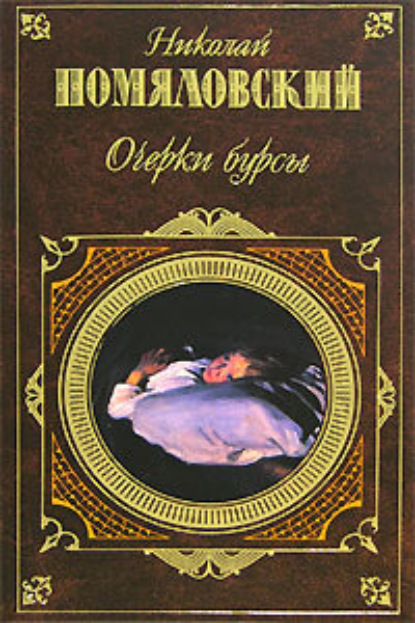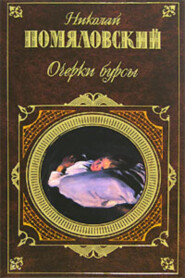По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Молотов
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дети повиновались; но лица их были светлы, ребячьи речи полны надежды; они, дети, радовались и за Егора Иваныча, своего доброго знакомца, и за Надю, свою любимую сестру…
Отец стал ходить по комнате.
– Ну, полно, – сказал он Наде. В его словах уже слышалась строгость.
Он быстро прошелся по комнате и вдруг повернул в свой кабинет, двери которого запер за собою плотно. Все поняли, что теперь его не надо беспокоить. Необыкновенное что-то делалось с Дороговым. Он сидел, положа голову на ладони, а локти на стол. Суровое, тяжелое, нелепо-отталкивающее выражение было на лице его. Морщины глубже врезались, увеличились и яснее обозначились. Взгляд сделался тусклым, сухим, неподвижным. Постоянно нависшие брови точно выросли. Голова его начала седеть, и скоро с нее будет падать волос. Редко он переводит дыхание, но сильно, так что слегка разжимаются его тонкие, сухие губы. Давно он не улыбался, давно не было в его душе светлой и радостной мысли. В заржавевшем сердце проснулось чувство любви и жалости к своей дочери только тогда, когда вскрикнула она: «Ах, не бейте, не бейте меня!» Крик, вырвавшийся из Надиной груди и потом перешедший в полупомешанный шепот, заставил его уйти от своих и запереться… Проняло его наконец и покоробило. Вопль дочери внезапно ярко осветил положение семьи, до которого он довел ее. Этот вопль связал его душу и готов был подчинить его, старшего в семье, младшим людям. Сознание прокрадывалось в темную душу; он чувствовал, что власть ускользает у него, что чья-то тяжелая незримая рука легла на его голову и не давала ходить его мысли по-старому, своевольно, хотя бы на зло всем, лишь бы самому нравилось. «Да я так не думаю» – это исходное жизненное начало его деятельности туманилось и гасло. Догадывался мундирный самодур, что, в свою очередь, можно было ему ответить: «Я не думаю, как ты…» В его воображении стояла бледная, дрожащая дочь, с руками, защищающими лицо, обезумевшая от ужаса, и возникал и повторялся с ясностью сейчас повторяющегося события вопль и шепот дочери, и с каждым разом он переживал боль сердечную. Он несчастлив, и несчастлив по-своему, оригинально. Душно старику. Если бы молодые годы, Дорогов разнес бы свое горе по холостым кружкам, утопил бы в вине, выкричал бы в песне, отшибло б ему голову, и то было бы исходом из охватившего его удушья. Но двадцать лет перевоспитания, неуловимой, тайной переделки характера сделало то, что в сердце его родилась любовь к семье и легла сверху необузданной дикой воли, которая, будучи вызвана обстоятельствами, неожиданно вся сказалась в отвратительных формах. Сразу жили в нем любовь и ненависть; то зверь проснется в нем, то отец семейства; то ему плакать хочется, то выть от злости. Невыносимо страдание человека, когда в мрачную душу, в черное сердце поселяется любовь, когда он любит и ненавидит одно и то же; все следят за его страданиями, но никому не жалко его, потому что его страдание с бешенством и криком на то, зачем люди хотят жить не так, как приказал он, и не диво, что он седеет, горбится, лицо его покрывается морщинами, как иссохшая глина трещинами, и тупеют его мозги. И все перед ним стояли бледная жена, трепещущая дочь, испуганные дети. Куда ж девались тихие вечера, ребячьи сказки, добрые молитвы, ясные поцелуи и светлая будущность? Семья разлагалась. Из недр ее встали новые силы – нравственные, непобедимые. Он точно разделился на две половины, глубоко заглянул в свою душу, слышал, как в ней шевелились проклятия; но он не смел дать им волю, потому что страшно стало душить чужую молодую жизнь, запрещать свежим людям мыслить, и веровать, и радоваться по-своему. Нельзя сказать: «Я решил за вас!» – все хотят думать сами за себя. «Вот первое, любимое дитя мое, которое я растил себе на радость, а что оно со мною сделало? – думал Дорогов. – Что будет с другими детьми? Неужели до глубокой старости мученье и тревога? Да, уж Надежда не послушается меня, не сломишь ее! И другие дети вырастут, – неужели сказать им всем: „Не имею права принудить вас ни к чему, живите как хотите“? Но вот он стиснул голову руками и проговорил: „О господи, да это хуже всякой пытки!..“, потом поднялся со стула и начал ходить по комнате из угла в угол… Его совесть начала мучить неотступно. В тех случаях, когда душа человека сильно потрясена головной работе, часто бывает, что поступки наши в собственных же глазах неожиданно освещаются болезненно ярко, самим же сделанное дело дает такой смысл, какого никогда и не предполагал человек. Это момент пробуждения совести, и особенно он труден для такой упрямой души, как Дорогов.
«Я тебя не прокляну, не выгоню из дома, оставайся среди нас… старой девкой… навсегда…» Сегодня же он говорил эти шальные речи и доказывал, что в них ненарушимое, крепкое его слово; а теперь ему было мучительно тяжело припомнить, как он заклинал свою родную кровь, молодую жизнь дочери, любимой Нади, на всегдашнее девство и попреки родительским кормом… Доходило до того наконец, что он сам себе не мог уж доказать свои права, и точно нож поворачивался в его сердце… Ему захотелось простить и примириться со всеми, но не нашлось силы и решимости сразу покончить это дело. Он готов был тянуть собственное горе, оттягивая время час за часом и дожидая, не откроется ли сам как-нибудь исход из его положения. Самая минута прощения была для него тяжела. Он был бы рад, если бы за него кто другой сказал либо они сами догадались, что он потерял над ними власть и не хочет больше борьбы. Ему тяжело было разверстаться с своими старыми грехами, прямо, откровенно и благородно положить конец неурядице семейной. Вместо слова и дела на душе его являлись мысли: «Зачем все это случилось?», и даже пустые мечты о том, что будто ничего и не было – ни генерала-жениха, ни именинного праздника, ни родственного совета, вопля и шепота дочери и душевных потрясений. Он струсил, закрывал глаза себе, насильно хотел остановить требования рассудка и совести и отдавался ожиданию, что сами события придут и дадут знать, как быть теперь; но действовать он не мог – духу не хватало, и в этом неисходном положении тоскливого ожидания и мления он так и замер. Душнее нет той жизни, в которой участвующие лица не действуют, и нисколько не утешительна та истина, что в романе Нади не будет никаких событий, что надо ждать и терпеть, превратиться в автомат и никого не слушать; да, лучше борьба, скандалы, ломка, на виду совершающиеся тайные свидания, запрещенные поцелуи и письма, нежели это внутреннее, мертвящее удушье. И никто не действовал – все ждали. Анна Андреевна ничего пока не предпринимала. Есть род женщин, по натуре умных, честных, кротких, всю жизнь свою живущих обязательною любовью; с удивительным самоотвержением они вечно верны и святы, ни одна мысль грешная не посещала их душу, и сквозь всю дрянь, окружающую их, видна в них натура богатая, сильная, лишь только сдавленная фатумом… Эти женщины весь запас свободных привязанностей отдают своим детям, и муж для них нужен для того только, чтобы перевоспитать его, приурочить к дому, дать ему жизнь на заданную тему, и все для того, чтоб получить детей от мужа, чтобы было кого любить всей страстью женской любви… Анна Андреевна питала к мужу узаконенную любовь, и поэтому она хотя простила в душе любимую свою Надю, готова была дать ей вольную волю любить кого хочет, и настрадалось ее сердце, глядя на горе дочери, но она все-таки не понимала Надю, и, казалось ей, лучше нейти за Молотова. Она не хотела более настаивать на этом, но только потому, что не хотела более мучить Надю… Она уже решилась противиться мужу, и опять ее умная голова готовилась к подземной работе, сбираясь по-прежнему вышивать тонкими шелками по канве семейной жизни; но пока она не нашлась, что делать, и потому только примкнула к своей Наде и с непобедимым терпением собралась выносить гнет тихо движущихся событий, выжидая, скоро ли возвратится ее влияние на мужа… Все остановилось и замерло. И положение Нади никогда не было так печально, как теперь. Полное, холодное отчаяние пало на ее душу, и несколько раз приходили мысли, отрицающие счастье; на будущность ложилось флеровое покрывало, и повторялись бессознательные слова, против которых так горячо защищался Молотов: «Все примиряются… это неизбежно… Это не покорность, а неисходность…» Она поверила крепкому слову отцовскому, не зная того, что он и сам был не рад этому слову и больше не верил ему; а Наде все-таки пришлось пережить душою нерадостные мысли: «Неужели я забуду Егора Иваныча? неужели это правда? Ведь все забывается, все пройдет, и вот через какие-нибудь пять-шесть лет самый образ Молотова потеряется из памяти, сотрется силою времени, как пропал из души образ любимого дедушки и младшего брата, как все стушевывается и забывается. И он меня позабудет, – иначе нельзя, не бывает… Но все-таки я не пойду за Подтяжина – он противен мне, и я его ненавижу». Так она говорила, а сама без ужаса не могла себе представить, что за жизнь готовится ей среди родной семьи; она едва не призывала забвение, – оно невольно приходит на ум, когда уверены мы, что связь с любимым человеком порвана навсегда. Но ей страшно было подумать, что забвение придет к ней, – что? она тогда будет?.. И так было трудно на душе, что будто случилась между ними не простая разлука, а развод совершился… И она, как все, стала ждать, что скажут события, не выручит ли завтрашний день, не случится ль что на следующей неделе? Так никто не действовал, и жизнь остановила на время свой медленный ход. Неужели же так ничего и не случится, и тем кончится дело, что душно всем станет в спертой атмосфере, среди глухого молчания, до того невыносимо, что разбегутся эти люди в разные стороны, и долго потом будет им невесело встречаться между собою? Всем приходилось ждать, – и Дорогов, и Анна Андреевна, и Надя, и Молотов, и дети, и родня – все ждали, и только… Недаром сказал Игнат Васильич: «Это хуже всякой пытки!..» Хуже и есть. Вот какие в наших обществах возможны романы, и совершаются они сплошь и рядом. Даже противно! – без движения, почти без завязки, с секретным, ото всех закрытым развитием, с обязательной любовью, и действующие лица не действуют… А главная причина, узаконенный жених с зачаделым своим ликом, до сих пор стоит в стороне и не является на сцену. Скучная действительность!.. Гадко!..
…Молотов сидел у себя дома, подле стола. Перед ним стоял портрет Надин, подаренный ему Череваниным. Художник успел унести портрет с собою, когда должен был прекратить работы у Дороговых.
«Как поздно пробил мой час, – думал Егор Иваныч, глядя на лицо девушки. – Чем я отплачу тебе за твою любовь и за то терпенье, которое тебе нужно теперь? Настрадалась ты, бедная, за то, что хотела жить со мной; но что я тебе дам в жизни? Все, что ты хочешь. Все мое сделается твоим, и недолго же нам осталось мыкать горе: запремся в наши комнаты, состроим жизнь по-своему, никого не спрашиваясь, и прежде всего будем жить для себя, для двоих только, и любить друг друга. У людей ничего не выпросишь, не дождешься от них радости, и не надо – без их помощи проживем».
Глаза портрета прямо смотрели ему в лицо. Он встал и отошел в сторону – смотрят глаза, спрашивают. Долго и пристально вглядывался Молотов в портрет Нади. Он выяснился перед ним и вырезался; отделялись лицо, руки, грудь. От усиленного внимания образ Нади встал перед ним в воздухе, как живое существо. Не мог он угадать, о чем эти живые, печальные взоры невесты хотели спросить его. Он опять сел и мысленно беседовал с Надей. До сих пор Егор Иваныч не мог назвать ни одну женщину ангелом и стать перед ней на колени, а теперь сами собою являлись ласковые имена, которые часто для постороннего лица кажутся так изысканны и сантиментальны. Не будем повторять их.
Егору Иванычу не хотелось, чтобы теперь зашел к нему Череванин, который, несмотря на свою готовность помогать, не в силах был воздержаться от красного словца, которым охотно поддразнивал своего приятеля, так что стал ему в тягость и часто доводил до страшного расположения духа… Молотов давно уже сделался ровным и спокойным мужчиной, научился сдерживать себя, стал глубже и сосредоточеннее; антипатии прежних лет перешли в полное равнодушие и теперь не составляли для него вопроса. Но в настоящее время он был оскорблен, люди хотели уничтожить его счастье, для которого он много лет работал, запрещали ему любить, обижали его Надю, и внутри его все кипело и волновалось, как в былые годы, а Череванин своими бесцеремонными речами хватал за больные места. Он мог выйти из себя и вот почему не желал посещения художника. Не привык он так бездеятельно, пассивно участвовать в жизни; а между тем ему приходилось сидеть сложа руки, потому что пришлось столкнуться с каким-то особым, замкнутым, наглухо застегнутым в чиновный мундир обществом. В те минуты, когда он представлял себе, что Надя одна-одинешенька страдает, а он не может пальцем шевельнуть для ее помощи, ему становилось совестно, он горел от стыда и, кажется, способен был решиться на что угодно; но во что бы то ни стало приходилось ждать, а это было не совсем в его натуре. Теперь мы застали Егора Иваныча довольно спокойным. Его волновали надежды и гордые мысли.
– И я теперь буду не один на свете, – говорил он себе, – и я нашел свою родню, совью себе гнездо. Недаром я копил эти цветы, картины, книги, фарфор и серебро. Она будет здесь жить; тут мы будем сидеть, читать и беседовать. Все, к чему я стремился, скоро может осуществиться в моей жизни. Теперь в сторону все эти необъяснимые вопросы; я знаю, зачем буду жить на свете… я просто любить и жить хочу. Стоит лишь припомнить пройденную дорогу – сколько забот, труда, часто унизительных положений пришлось вынести для того, чтобы сказать наконец: «Я сам, один, без всякой посторонней помощи сумел прожить и выбиться из бедности. Кому я обязан своим комфортом и довольством? откуда у меня деньги, вазы, картины, серебро и фарфор? Мне никто и ничего даром не давал; судьба меня бросила нищим и голодным, провела чрез страшную школу бедности, и вот я стал копить деньги, я люблю их, потому что люблю независимость, я сам себя должен прокормить… никто воды даром не даст напиться без того, чтобы не согнуть спины… Ненавижу я хлеб чужой, и никогда я не пожирал ничего чужого… Все, что есть у меня, заработано своими руками… Все свое. И устрою же я себе жизнь как хочу, и никто не посмеет от меня потребовать отчета, зачем я живу на свете… Не будет по-вашему – Надя придет сюда, и ей одной буду благодарен за свое счастье, весь отдамся ей, потому что люблю ее…»
Он взглянул на портрет и прошептал:
– Добрая моя, ты единственный человек, которому я дорог и близок!.. Спасибо тебе… Никогда я тебя не разлюблю, потому что давно ты мне родная… О, как я буду работать для тебя!..
Он смотрел на Надю. В увлечении ему показалось, что портрет ресницы поднял; он наклонился и поцеловал его. После поцелуя ему страстно захотелось увидеть Надю, взять ее у отца и матери и увести из дому; разгоралось и кипело сердце, и невыносимо досадно было, что все пути заказаны к любимой женщине. Он встал в волнении и спрашивал себя: да кто же запретит любить им друг друга?
Раздался звонок…
– Череванин идет! – проговорил с досадой Молотов и отошел к камину.
– Жив ли, душа моя? – сказал художник, входя к нему. – Вона!.. да ты как бык здоров, а влюблен!.. Страдать, братец, следует!.. Надя не теряет же времени – делает свое дело… Я с кухаркой сошелся, – за рубль какого хочешь амура продает…
– Что там? – спросил стремительно Молотов…
Череванин рассказал, что успел узнать…
– Скоро, значит, конец, – прибавил он, – потому что крупные сцены начинаются… Мы можем следить за ходом дела по мелочной лавочке, в прачешных и по всем кухням, потому что везде толкуют о том, что управляющий снюхался с дороговской дочкой. Словом, приличный романчик выходит.
– Ты всегда, Михаил Михайлыч, говоришь пошлости.
– Ну, вот это дело: выбраниться можешь, при сильной страсти хорошая мера. Когда я был несчастливо влюблен, мне однажды попала под руку кошка, я ей хвост надорвал, и что же? – легче стало…
– Перестань, Михаил Михайлыч, и так тошно.
– Ничего, пройдет…
– Наконец, это бессовестно с моей стороны ничего не делать, тогда как она измучилась и настрадалась…
– И все-таки тебе шевельнуться нельзя…
Молотов сложил руки и остановился перед художником…
– Вот у Кукольника в повестях, так там все какое-нибудь высокое лицо соединяет любящие сердца; но ныне таких штук не бывает… А то спасают иногда даму сердца во время пожара, нашествия иноплеменников или наводнения, – тогда она, как приз, принадлежит избавителю; и еще есть средства: крадут девиц, свертывают шею их соперникам или продают свою душу черту, – это очень практический господин; но, к сожалению, все эти меры не в правах гражданского чиновника… Ты что за птица? какой у тебя чин? Сиди-ко себе да кисни… Время само придет.
Молотов вышел из себя…
– О, проклятое положение! – сказал он, стиснув зубы.
Прошелся он по комнате…
– Нет, надо наконец решиться…
– Подождать, – подсказал Череванин…
Молотов взглянул на него сердито…
– Ты, кажется, находишь удовольствие бесить меня…
– Экой ты какой ядовитый!
Молотов окончательно вышел из себя… Он схватил шляпу и отправился к двери…
– Эй, куда ты утекаешь?
– Отстань ты от меня!
С этими словами Егор Иваныч скрылся…
– Свежим воздухом подышать захотел? Что ж, это хорошо… Помогает… А сделал бы моцион верст в пятьдесят, как рукой сняло бы… Постой же, я на тебя карикатуру напишу…
Череванин достал карандаш и бумагу. На первом плане, сверху, с распростертыми руками, красовался генерал-жених и протягивал для поцелуя губы. Подписано: «Сиволапый медведь по поднебесью летал, поросяточек щипал». Потом изобразил Дорогова, в поджаром виде, с подписью: «Говори, чего хочешь, пирога или хлеба?» и ответ Дорогова: «Мне все одно, давай хоть пирога». Под супругой Дорогова стоял текст: «Тптпрунды, баба! тптпрунды, дед! хватилися, хлеба нет; стала баба деда мять, деду где же хлеба взять?», Молотов с сонными глазами и разинутым ртом; Надя плачущая; под ними: «Терпения имате потребу». Дальше сам Череванин шел под руку с дамой; внизу написано: «Моя любовь отвечает: „Ах, Михаил Михайлыч, никак нельзя“…» Серию карикатур заключал Касимов-отец, со словами к изображенным лицам: «Милостивые государи, кто от любви чахнет, а мы от геморроя!» Карандаш его разыгрался, и он, увлекшись карикатурами, тешился по крайней мере часа три… Между тем Михаил Михайлыч и не подозревал, что Молотов на скандал решился. Он отправился к Подтяжину с намерением просить его отказаться от Надежды Игнатьевны, а если не согласится добровольно, то напугать его и принудить насильно. У него начали рождаться довольно оригинальные логические построения.
«Чего тут ждать? – думал он, торопясь к Подтяжину. – Надо действовать… Как?.. А как они действуют… Что за благодушие, что за щепетильная разборчивость в средствах?.. Против насилия нечего церемониться и бояться поднять палку… Все средства, употребляемые врагом, позволительны и против него… Это не иезуитство, а обыкновенное житейское дело, естественная защита… Что ж я предприму?.. А что бог на душу положит!.. Объясню, в чем дело, и сначала буду просить отказаться от Нади; если же он не согласится, я не задумаюсь схватить его за горло и насильно вырвать отказ. Чем это не принцип: не желай другому, чего себе не желаешь, и значит, если ты делаешь гадость, то и тебе, нисколько не стесняясь, могут нагадить? Тут не цель оправдывает средства, а только люди борются равным орудием; это вполне законное и необходимое дело, иначе всегда и ото всех будешь обижен! Тяжело наконец стало! Чего еще ждать? Того, что ли, когда у Нади, измучивши ее, вырвут согласие и обвенчают с нелюбимым человеком?»
С этими мыслями он входил к Подтяжину. Когда Молотова приняли и он отрекомендовался генералу, генерал спросил:
– По службе?
– Нет, по личному делу.
– А, так прошу садиться.
Молотов сел…
– Что скажете? – спросил Подтяжин.
Молотов приступил к делу прямо, без обиняков:
– Вы желаете жениться, ваше превосходительство?