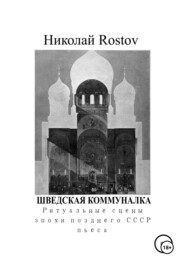По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фельдъегеря́ генералиссимуса. Роман первый в четырёх книгах. Все книги в одном томе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В маскераде, что ли, поучаствовать? – с некоторой брезгливостью переспросил капитан артиллерии в отставке.
– А хоть бы и в маскераде! – всплеснул руками Ростопчин. – Что за беда? Они нам вон какой маскерад устроили! – И он невольно глянул в окно. – А вот и по мою душу… из Петербурга, – сказал он через секунду.
В окно он увидел, как три тройки остановились возле его генерал-губернаторского дома – и из саней высыпалось на снег человек семь в конногвардейских мундирах. Среди них он сразу отличил генерала Саблукова.
Огромный, в медвежьей шубе, небрежно накинутой на плечи, генерал Саблуков сам был похож на медведя посреди своих медвежат – конногвардейцев.
Медвежьей походкой он направился к крыльцу, перед этим что-то прорычав своим медвежатам. По тому, как враз посерьезнели у них лица, а они до генеральского окрика чему-то или над кем-то весело смеялись, Ростопчин решил, что он им сказал что-то очень грозное.
Но стоило генералу Саблукову скрыться в дверях генерал-губернаторского дома, как они опять безудержно начали хохотать. И так заразительно они это проделывали, что Ростопчину нестерпимо захотелось узнать, над чем они там хохочут. Он готов был даже открыть окно и выглянуть, но одумался. Все же генерал-губернатор.
О генерале Саблукове – первом фаворите государя, человеке очень значительном – он напрочь забыл и вспомнил только тогда, когда слуга Прохор вошел в комнату и сказал подчеркнуто буднично:
– К вам курьер от государя.
Генерала Саблукова Прохор не жаловал.
Ввиду того, что Прохор весьма незначительный персонаж в моем романе, я не вхожу в подробности причины, по которой он не любил, даже ненавидел сего генерала.
– Сейчас буду! – спохватился Ростопчин. – Извини, голубчик, – обратился он к Порфирию Петровичу. – Дела. Потом договорим! – И вышел из комнаты вслед за Прохором.
А конногвардейцы смеялись по весьма пустяшному поводу.
Высыпав из саней на снег, словно медвежата из берлоги, они, уставшие от неподвижного и долгого сидения в тесноте саней, дали волю своим молодым телам. Кто-то из них, кажется, поручик Ахтырцев, самый молодой и резвый, зачерпнул снег руками, утер им лицо – да и сказал:
– Господа, а в Москве-то снег сахарный!
– Как и московские барышни! – засмеялся в ответ штабс-ротмистр Бутурлин, первый красавец и бретер в полку, и повел своими выпуклыми глазищами в сторону проходившей мимо них в тот момент барышни со своей гувернанткой. Все, естественно, посмотрели в ту сторону – и, разумеется, дружно засмеялись.
Барышня, и без того румяная от мороза, разрумянилась еще больше, а ее гувернантка, тощая английская селедка (о чем тут же шепнул всем Бутурлин), стала неистово долбить каблуком московский сахарный снег, будто он виноват был во всем!
Конногвардейский хохот наверняка бы добил гувернантку окончательно, если бы не грозный окрик генерала Саблукова. Воспользовавшись генеральской поддержкой, гувернантка показала притихшим конногвардейцам ехидный свой длиннющий язык, потом взяла за руку свою барышню и гордо потащила ее прочь от невоспитанных шалунов.
Словно выстрел ей в спину, был вновь разразившийся молодецкий хохот петербургских проказников!
А генерал Саблуков в это время, заложив руки за спину, прохаживался по приемной зале, будто по музейной, с неподдельным интересом разглядывая старинные гобелены, вывешенные вдоль стен. Особенно его заинтересовал гобелен, изображавший сцену взятия крестоносцами Константинополя в 1204 году.
За рассмотрением этой впечатляющей батальной картины и застал его Ростопчин.
– Извини, мин херц, что вынудил тебя ждать, – подошел он к генералу.
Они были знакомы с времен если не Очаковских, то уж точно – триумфальных! Бесстрашное и бесхитростное было время. Делить, кроме общего крова походной палатки, им тогда, молодым гвардейским офицерам, было нечего. А сейчас?
И сейчас делить им было нечего. И генерал от кавалерии обнял московского генерал-губернатора. Молодость свою если только, но ее разве разделишь? Она вон где! На гобеленах ее скоро выткут, золотой и серебряной нитками обовьют – и задушат. И будет какой-нибудь старичок-генерал, как они сейчас, взирать на сей гобелен.
В общем, они без слов поняли друг друга – и рука в руку троекратно поцеловались; прошли в лиловый сумрак генерал-губернаторского кабинета.
– Федор, – заговорил Николай Алексеевич Саблуков, расстегнув мундир и достав с груди синий пакет с пятью сургучными печатями, – я к тебе от государя фельдъегерем! – И как ни старался он придать своему голосу официальный тон, что было ему не так уж и трудно (не голос был у него, а голосище, медвежьему рыку подобный), а все же сорвался в раскатистую скоморошью скороговорку.
Ростопчин взял пакет, сломал сургучные печати, достал листок белой плотной бумаги, сложенный вдвое, развернул, прочел.
Я вами, граф, не доволен!
Павел
Государь по своему обыкновению был лаконичен.
– Николай, – недоуменно спросил Ростопчин Саблукова, – разъясни, чем я вызвал неудовольствие государя?
– Гнев, Федор, а не неудовольствие! Тот розыск, который учинил твой капитан Тушин, вызвал гнев у государя.
Ответ генерала так поразил Ростопчина, что белые его щеки пошли красными пятнами, тонкая жилка на шее нервически запульсировала, по всему его телу пробежала дрожь – и он чуть не спросил впрямую генерала: «Какая гадина об этом доложила государю?» Сдержался, не спросил. Спросил окольно:
– Положительно не понимаю, почему розыск капитана в отставке мог вызвать гнев у государя?
– Это дело поручено Аракчееву, – ответил генерал прямодушно на лукавый вопрос Ростопчина и посмотрел ему в глаза: мол, ты это хотел услышать от меня, Федя? – Остальным это делать государь запретил! – добавил после некоторой паузы, всем своим видом показывая, что в интригах сих не замешан – и никогда никому не позволит себя в никакие интриги замешать!
– Вот теперь мне ясно, – удовлетворенно вздохнул Федор Васильевич. Он преотлично знал тонкий, что швейцарский часовой механизм, механизм Двора. Пружину этого механизма заводил, конечно, государь император, но чтобы этот пружинный завод возымел действие, т. е. часовая стрелка побежала вслед за минутной, тысяча зубчатых колесиков должны были соизволить повернуться хотя бы на один зубчик. А Аракчеев был в этом механизме даже не зубчатым колесиком, а маятником, определяющим точность хода.
– Ты надолго в Москву? – задал вопрос Ростопчин генералу Саблукову, как бы давая понять, что он согласен во всем не только с государем, но и с Аракчеевым.
– На неделю. У меня еще есть кое-какие поручения здесь. – Генерал замолчал. Рассказать, какие еще поручения, весьма секретные, ему поручил государь в Москве, он не мог. – Но, Федор, – уже в дверях сказал генерал Саблуков, – знаю, что не послушаешься, и говорю: шпионить за тобой я не послан – и не буду!
– Постой, – взял его за руки Ростопчин и опять увлек в лиловый сумрак своего кабинета – и все ему в этом сумраке без утайки рассказал.
Или лиловый сумрак, заговорщицкий, на генерала подействовал, или сам Ростопчин неожиданной своей прямотой заворожил, но согласился он московскому генерал-губернатору поспособствовать…
Глава двенадцатая
Генерал остановился в Москве у князя Ахтарова, чем и вызвал сразу же серьезные разговоры в кругу московских сановных старичков, людей весьма умудренных. В Английском клубе они договорились даже до того, что, мол, не просто так первый фаворит царя, генерал Саблуков, поселился у отъявленного англомана – князя Василия Платоновича Ахтарова: мол, тем самым Петербург, т. е. государь император дает понять Англии, что он не прочь с ней сблизиться – и решительно разорвать с Францией.
И только один трезвый голос осадил старичков.
«Помилуйте, господа, при чем тут Англия? – сказал им всем обер-полицмейстер Тестов. – Князь приходится генералу родным дядей по материнской линии. Приличия того требуют, чтобы генерал у него поселился!»
Старичкам обер-полицмейстеру было нечем возразить, и все же они решительно не согласились с его доводом. Уж больно оригинальнейшей личностью слыл князь Ахтаров в первопрестольной.
Он, шестидесятилетний холостяк, нигде никогда не служил. Вся жизнь его прошла в путешествиях, и весьма романтических.
Поговаривали, что пятнадцать лет он бороздил моря и океаны в облике капитана пиратской шхуны – и за свои пиратские подвиги был возведен королевой Англии в английские лорды – случай неслыханный в истории надменного Альбиона!
Князь лишь усмехался над этой, как он говорил, небылицей. При этом его лошадиный подбородок отвисал вниз – и громовой хохот сотрясал московские гостиные, да так, что стекла в окнах порой лопались; а фарфоровых чашек, выроненных из испуганных рук московских барынь и барышень, было перебито столько, что ему перестали намекать на его корсарское прошлое. Так что давайте и мы оставим пока в покое и князя Ахтарова, и его племянника, генерала Саблукова, и займемся медвежатами – конногвардейскими офицерами, что приехали вместе с генералом в Москву.
Поселясь в Лефортовых казармах, они в первую же ночь устроили такой кутеж, что наутро о нем заговорила вся Москва!
В подробности сего кутежа мы входить не будем. Скажем только, что они были столь непотребны, что московский генерал-губернатор незамедлительно принял меры.
Штабс-ротмистру Бутурлину было предписано в двадцать четыре часа покинуть Москву и пределы Московской губернии. Остальных своих медвежат генералу Саблукову удалось все-таки отстоять.