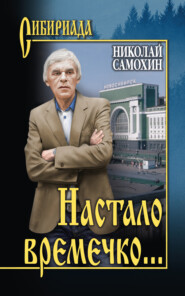По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы о прежней жизни (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я ведь, сынок, только-только вздохнула после нашей халупы, – рассказывает она. – Ни печку тебе не топить, ни воду не таскать. Сиди, как барыня, посиживай. А теперь, на старости лет, опять к этому назьму. Так, видно, возле него ноги и протянешь. Костя-то вон смеется: ты, мол, кулацкое хозяйство развела. А кто ж тебя, говорю, вражьего сына, тянул сюда? И как ты иначе в деревне прожить хочешь? Вон они, зелепутки твои: им ведь и молочко надо, и яичко. А разве ж это кержачье продаст? Они задавятся скорее.
Эта тема у нее нескончаемая, и я стараюсь перевести на другое.
– Мать, – говорю, – а дядя Паша не приезжал к вам?
– Грозиться грозился, – отвечает она, – а пока не был. В городе-то, когда я там, заходит.
Это я знаю, в городе дядя Паша действительно часто заходит к матери. Гостит он теперь как-то странно. Раньше, бывало, приходил по праздникам, нес завернутую в газету бутылочку. Теперь дядя Паша может зайти в любой день. Выпьет где-нибудь у стойки, по нынешней моде, «рассыпухи» и зайдет. Разуется, ляжет на диван, подогнув ноги в шерстяных носках, и дремлет. Подремлет так часок-другой, а потом скажет:
– Ну, Анна, пошел я. Спасибо тебе.
Если же случится быть у матери и мне, дядя Паша, проснувшись, затевает один и тот же разговор:
– Вот помру, Миколай, оставлю тебе дом свой. А что ты думаешь, а? Дом у меня знаешь какой! Я туда водопровод подвел – сто двадцать рублей отдал. Будешь сидеть в нем, книжки свои пописывать.
– Спасибо, дядя Паша, – благодарю я. – Только зачем он мне – за пятьсот верст. Ты уж оставь кому поближе.
Дядя Паша, насколько мне известно, так и делает. Не мне одному он этот дом предлагает. Только охотников что-то не находится.
Мать, словно подслушав мои мысли, говорит:
– Вот еще черт-дурак, с домом этим связался. Ведь все жилы дом из него вытянул. А для кого строил, спроси его: ни детей, ни внуков нет. Да теперь и дети не шибко об домах думают. Ведь ему, лешаку старому, квартиру давали казенную – отказался. Гроб себе построил, прости меня, Господи…
– А вот твой папка домов не наживал, – вздохнув, продолжает она. – Как не успел в деревне сам похозяйствовать, так уж и потом не научился. Нет, худого я не скажу – на производстве он до упаду работал. А свою засыпуху всю жизнь колом подпирал.
Она начинает рассказывать про отца, про чудачества его, с которыми едва не всю жизнь сражалась, а теперь вот, как ни странно, вспоминает чаще, чем что другое.
– Бывало, соберут у них на конном дворе собрание – на заем подписываться. Он сейчас руку тянет: «Подписываюсь на полный месячный оклад и прошу всех следовать моему примеру». А вечером придет и хвастается мне: «Я, мать, на полный оклад подписался. Так прямо и сказал: пиши, говорю, на полный оклад…» Да еще раза четыре повторит, пока из терпенья меня не выведет. Что же ты, говорю, богач такой, сразу на весь год не подписался? Я бы уж тогда суму на шею повесила да пошла с детями побираться… Он, Коля, и на фронте так-то делал. В сорок четвертом, не соврать, году, весной их возле одной деревни в Белоруссии остановили. Укреплена она была очень сильно, отец говорил. И вот ночью как-то немцы сарай на краю этой деревни зажгли, чтоб виднее было стрелять. А в сарае, оказывается, картошка была насыпанная. И начала она там печься. Отец-то утречком унюхал, что пахнет печеной картошкой, наносит будто с той стороны – и давай к этому сараю подкрадываться. А они, видишь, двое суток уже голодом сидели – кухню у них снарядом разбило. Вот он этой картошки нагреб два котелка, принес в блиндаж – ешьте, ребята! А что там два котелка на взвод мужиков. Съели, говорят: беги еще – ты дорогу знаешь. Так он – веришь-нет – до пяти раз к этому сараю мотался. Кругом стреляют, а он – где ползком, где перебежками… Пока ему заднюю пряжку на ватных брюках пулей не отсекло. Брюки-то с него и упали. Подхватил он их одной рукой (в другой котелки) и давай петлять, как заяц. А немцы по нему из танков бьют…
Про танки мать, однако, прибавила от себя. Историю эту я помню. Помню и то, что друзьям своим никогда ее не рассказывал – стеснялся за отца. Мы читали в книжках про настоящие подвиги, там люди бросались под танки, закрывали телом своим амбразуры дотов. А здесь что? Печеная картошка, какие-то раненые штаны. Меня, пожалуй, засмеяли бы на улице.
Вообще, когда в детстве про меня кто-нибудь говорил: «Вылитый батя», – гордость меня вовсе не охватывала. Отца своего я любил, но походить на него не стремился. Был он рассеянным, вечно хмурым человеком, оживляющимся лишь тогда, когда принимался рассказывать свои байки, не самым высоким и не самым сильным мужчиной на нашей улице, не самым, наверное, умным и авторитетным. По крайней мере, когда дома у нас собиралась компания, не отцовские рассуждения слушали все, не отцу уважительно поддакивали.
А теперь вот мне приятно сознавать, что я похож на своего отца. С годами сходство усиливается: я замечаю у себя отцовские морщины, отцовские жесты и словечки, я сутулюсь, как отец, и даже волосы – от постоянной, что ли, привычки смахивать их со лба направо – ложатся у меня по-отцовски. И мне нравится почему-то наблюдать эти превращения.
И даже моя непрактичность в житейских делах, так раздражавшая меня раньше, находит теперь оправдание. Я стал вроде бы лелеять ее. «Гены, – усмехаюсь я, – гены. Это от бати – тут уж никуда не денешься».
Отчего это? Может, потому, что у меня тоже подрастает сын, и я, желая видеть его лучше, умнее, удачливее отца, тайно надеюсь все же, что в чем-то он повторит меня. Я хочу, чтобы малая частица меня переселилась в будущее, точно так же, как жил я когда-то в других людях – давно, в том «отрицательном» еще времени, «за нулевой отметкой», как любит выражаться один мой ученый друг.
Где-то в городе, на окраине
Речка, которую я никогда не видел
Я долго бился над первой фразой своего повествования, но, так ничего и не придумав, решил начать традиционно: «Деревня наша Утянка стояла на крутом берегу речки Бурлы». Добрая половина книг о детстве открывается описанием деревенек, приютившихся на берегах речек, и, если начать по-иному, читатель, пожалуй, еще заподозрит что-нибудь неладное и почувствует к автору недоверие.
Сядем же в таратайку исповедальной прозы, взмахнем прутиком, причмокнем на лошадку памяти и отправимся в путь. Глядишь, и нам повезет. Глядишь, и на задке нашей таратайки, как знак, запрещающий обгон, затрепещет со временем рецензия: «Несмотря на то, что в последние годы литература обогатилась рядом ярких произведений о детстве, писателю имярек удалось все же внести в эту тему свою неповторимую струю…»
Итак, деревня наша Утянка стояла на крутом берегу речки Бурлы.
Берег, впрочем, по свидетельству очевидцев, не на всем протяжении был крут, местами оказывался и пологим, но это, думаю, деталь второстепенная.
Дело в том, что сам я ни речки Бурлы, ни родной деревни Утянки никогда не видел. Родители мои, захваченные вихрем индустриализации, в один прекрасный день завернули меня, четырехмесячного малютку, в овчинный полушубок и увезли на строительство знаменитого Кузнецкого металлургического комбината.
Вихрь индустриализации, налетевший на Утянку в лице вербовщика с желтым портфелем, легко оторвал от земли моего, ставшего к тому времени безлошадным, папашу, двух родных дядек и нескольких двоюродных. Произведя подобные же опустошения в домах наших кумовьев, сватов и соседей, вербовщик насобирал людей, в общей сложности, на два телячьих вагона, и утянские мужики отправились обживать берега диковинной Абушки.
Времени на это дело мужикам было отпущено крайне мало. Когда-то дед мой вот так же приехал из России обживать берега Бурлы, но, во-первых, у него в запасе имелись годы, а во-вторых, пахать сибирскую целину дед заявился готовым хлеборобом, хотя и безлошадным. Сыновьям же его и односельчанам надо было не только лепить свои засыпухи и унавоживать свои огороды, но, первым делом, строить комбинат, срочно перековываться в рабочих, вылезать из корявой крестьянской шкуры. А она отрывалась вместе с мясом, путалась в ногах. Торопливый и мучительный процесс этот довелось мне, как теперь понимаю, наблюдать с тыльной стороны, с изнанки.
Поэтому, наверное, первые воспоминания мои оказались наполненными деталями быта окраинной призаводской жизни.
Так вот, первой речкой, которую я увидел в жизни, была эта самая Абушка, вдоль крутого опять же берега которой лепилась улица Вторая Болотная. Вообще-то официально речка именовалась Аба. За что ее прозвали ласкательно Абушка – совершенно непонятно. Это можно объяснить только редким великодушием новоселов. По Абушке текла не вода, а сплошные смола и мазут, сбрасываемые металлургическим комбинатом. Она не застывала в любые морозы, была черной и блестящей, как только что начищенный хромовый сапог. Однажды в ее струи, оступившись с мостка, упал наш кум и сосед Егор Дорофеев. Упал он удачно – головой на жирный, как холодец, приплесок и, будучи крепко выпивши, тут же заснул. Егор проспал в теплой Абушке до утра и так пропитался мазутом, что его года два ещё, наверное, во всех компаниях сажали за стол только у открытого окна.
Если кто-то думает, что я преувеличиваю, пусть съездит в бывший город Сталинск, а ныне Новокузнецк. Конечно, улицы Второй Болотной он не найдет – на ее месте выросли многоэтажные белокаменные дома, давно нет и тех мостков, с которых когда-то рухнул кум Дорофеев, но Абушка и сейчас несет свои мазутные воды в Томь, рассекая славный город на две половины.
Однако я отвлекся, а речь идет о Бурле.
Никогда, повторяю, я не видел этой речки, но она, вот уже много лет, течет в моей судьбе, и не рассказать про нее я не могу.
Что я знаю о Бурле?
Была она кое-где воробью по колено, но зато растекалась в этих местах широко, давая в жаркий день приют ребятишкам и коровам, замученным паутами. На таких плесах хорошо брал чебак, крупный и бесстрашный, которого не отпугивало даже барахтающееся в воде пацанье. За плесами река сужалась, образуя глубокие омута с крутящимися воронками и нависшими над водой кустами. Здесь, в тени кустов, паслись неисчислимые стада окуней – здоровенных, прожорливых и бесхитростных, прятались в камышах полутораметровые щуки, таились под корягами налимы. И, хотя все это население нещадно поедало друг дружку: окуни – чебаков, щуки – чебаков и окуней, – рыба в реке не переводилась.
Ах, как вкусно описывал мне отец свои рыбалки на Бурле!
Старший брат поднимал его чуть свет; торопясь, они накапывали между наземных грядок тугих ременных червей и почти рысью бежали к заветному омуту. Брат не признавал рыбалки вблизи деревни, добираться поэтому приходилось к дальней излучине, по пояс в седой от росы траве. На место приходили мокрыми насквозь, облепленными комарами и, не отжав портков, спешно разматывали удочки. У брата, жадного до рыбалки, тряслись от нетерпения руки.
Окунь брал сразу и наверняка. Обгладывать наживку, еле заметно теребить ее, вяло мусолить – этого за бурлинской рыбой не водилось.
Старший брат отца, предпочитавший рыбачить на две удочки, очень скоро запутывал их и, тихо матерясь сквозь зубы, чуть не плача от досады, принимался расцеплять. Справившись наконец с этой задачей, он с непонятным упрямством опять забрасывал обе. Клевать начинало враз на той и другой, брат снова захлестывал лески, после чего ему хватало распутывать их уже до конца рыбалки.
Отец же таскал одного полосатого горбача за другим, и обычно к тому времени, когда туман над рекой начинал розоветь, ведро бывало уже полным до краев.
Словом, это была честная сибирская речка, битком набитая рыбой.
Все соединяла в себе маленькая Бурла: песчаные отмели и красивые заводи, звонкие перекатики, островки величиной в ладошку, таинственные бездонные ямы, в которых жили заросшие мхом щуки.
Отца моего, как рыбака, щедрая Бурла избаловала и развратила на всю жизнь.
Помню, однажды я соблазнил его порыбачить на Теплом озере. Вода в этом озере натекла из ТЭЦ, и сначала отец долго не хотел верить, что в такой перекипяченной воде может водиться хоть какая-то рыба. Рыба, однако, в Теплом озере была – кто-то запустил туда сорожек, и они расплодились.
Отец сам смастерил себе удочку. Это была грубая, но прочная снасть: большой окуневый крючок, волосяная леска, способная выдержать пятикилограммовый груз, поплавок из пробки – величиной с детский кулак… Выбрав на берегу местечко, отец размотал удочку, нацепил на крючок целиком здоровенного салазана, поплевал на него и – господи, благослови! – бултыхнул свой снаряд в воду. Затем он свернул самокрутку и принялся ждать.
Прошло минут двадцать – гигантский отцов поплавок лежал на воде недвижно, как бакен.
У меня тоже не клевало.
Я помараковал немножко, перестроил удочку на верховую рыбу, сменил наживу и начал изредка потаскивать красноперых сорожек.
Отец вроде даже и не смотрел в мою сторону. Только закаменевшая скула его выражала презрение. Играть с рыбой в догоняшки, караулить мельчайшую поклевку, подсекать – было, видать, ниже его достоинства. Он ждал верную рыбу. Ту надежную рыбу своего детства, которая подойдет и, не раздумывая, цапнет мертвой хваткой. Но рыба не подходила.