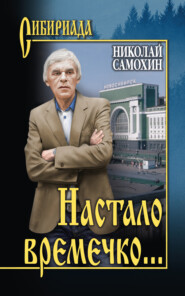По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы о прежней жизни (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мать косила на «заячьи тропы» глазом и деликатно молчала.
Меня бы она за такое развлечение зашибла на месте. Даже и думать нечего.
Я старательно крестился – и до еды, и после. Но Крылиха не продала нам корову. Причину мне на обратном пути открыла мать.
– Ты как крестился-то, а? – сказала она. – Ведь ты слева – направо крест клал, друг ситцевый. Уж я тебе и мигала, а ты все по-своему машешь.
Такая мелочность Бога, помню, неприятно поразила меня. Слева направо или справа налево – какая разница? Толстомордый Васька не крестился вовсе, но его почему-то Бог помиловал.
Потом уж, спустя много лет, я узнал, что Бог всегда был мелочным. Мелочным, жестоким и капризным.
За что, собственно, истребил он однажды на земле род человеческий? А вместе с ним – всех скотов, гадов и птиц небесных? Ангелы путались с дочерьми человеческими, а Господь, вместо того чтобы прицыкнуть на своих крылатых прохвостов, разгневался на род человеческий. Нашел его, видите ли, слишком развращенным. И потопил все живое. А спрашивается: род человеческий просил, чтобы его создавали?..
Ну, хорошо – потопил и ладно: отмучились бы раз и навсегда. Так ведь стоило Ною принести в жертву Богу несколько зверушек, короче говоря – «дать на лапу», как он, обоняя «приятное благоухание», тут же пообещал никогда больше не проклинать землю за человека и не поражать всего живущего. И… не дав народу как следует расплодиться, испепелил Содом и Гоморру.
Если разобраться, старичок был основоположником всего грядущего самодурства: сначала от скуки сотворил этот мир, а потом вертел им, как игрушкой. Это надо подумать! – еще не родила Ревекка своих близнецов, а уж он определил, что от них пойдут два разных рода и больший станет служить меньшему. Каково?! Сам клятвопреступник, он благоволил клятвопреступникам, лизоблюдам и наушникам: провокатору Аврааму, который повсюду выдавал жену свою Сару за сестру, а потом, с божьей помощью, забирал ее назад у перепуганных владык – в придачу со скотом и златом; маменькину сынку, чистоплюю Иакову, купившему себе первородство у работяги Исава за чечевичную похлебку и обманом получившему благословение отца; юродивому сыну Иакова – Иосифу, кляузничавшему папаше на братьев своих.
Я думаю: как хорошо, что хотя бы с этим Богом мне удалось расстаться без сожаления.
Сложнее оказалось избавиться от веры в других богов – земных. Про них, наоборот, все твердили, что они есть, они всемогущи, непогрешимы и, главное, добры. Что все хорошее происходит благодаря им, а плохое, если и попадется кое-где, то лишь потому, что они пока об этом не слышали.
Многие годы ушли на то, чтобы понять, что если и существует на свете бог, то, наверное, это та речка, то поле, та деревенская изба – словом, тот клочок земли, где нам когда-то перекусили пуповину и завязали суровой ниткой.
Никакой другой бог не прилетит. А если и прилетит когда-нибудь, то лишь затем, чтобы надрать нам уши. Так что лучше уж разобраться в своих делах без его помощи.
Моя первая улица
Детство мое прошло на двух улицах – Болотной и Аульской.
Это были хорошие улицы. Ничем не хуже других своих современниц эпохи бурного образования «шанхаев» и «нахаловок». У меня, по крайней мере, они оставили самые приятные воспоминания. Теперь такие улицы доживают свои последние дни. Их срывают бульдозерами и на освободившейся территории строят девятиэтажки башенного типа; разбивают скверы и детские спортивные площадки. И, между прочим, некоторых нестандартно мыслящих людей столь решительное наступление на романтичные закоулки начинает тревожить. Недавно один известный поэт даже выступил в печати – рассказал про двор, в котором прошло его собственное счастливое детство. В этом дворе, вспоминает поэт, всегда стояли мусорные ящики, там был небольшой пустырь со свалкой, располагались уютные катакомбы, образованные фундаментом какого-то недостроенного здания. У детей, проводивших во дворе большую часть времени, такая обстановка развивала фантазию, инициативу и предприимчивость – вырабатывала, словом, те качества, которые унылая, однообразная геометрия теперешних хоккейных коробок и волейбольных площадок, видимо, выработать не в состоянии. В связи с этим поэт призывает архитекторов подумать: нельзя ли, планируя во дворе детский комбинат «сад-ясли», предусмотреть где-то поблизости место и для пустыря с живописно разбросанными по нему свалками, материалом для которых могли бы послужить отходы строительного производства, так и так пропадающие?
Что же, может быть, он и прав. Почему бы, действительно, не свалка? Несколько десятков ломаных железобетонных плит, пять-шесть канализационных труб, арматурные каркасы, немножко битума и карбида, кирпичный бой, стекловата… Большого вреда от всего этого не будет. В конце концов, сам поэт, выросший в описанном им дворе, сделался же вполне приличным человеком. Даже университет сумел закончить.
Вот и автор этих строк под судом и следствием тоже не был. А уж мои-то улицы – по количеству пустырей, свалок, оврагов и канав – сумели бы заткнуть за пояс любые десять дворов вместе взятых. И это – не считая соблазнительных чужих огородов, пустующих сараюшек и предбанников, где без опаски можно было выкурить «бычок» или научиться игре в очко.
Да что там – преинтереснейшие были улицы. Дай бог каждому.
Только с названиями им не повезло.
Вообще, родители мои всю жизнь ухитрялись как-то миновать улицы с достойными именами и поселяться на самых, в этом смысле, обидных.
Например, против нашей Болотной, вдоль низкого левого берега Абушки тянулась улица с красивым названием Береговая. Каждую весну Береговую топило. Жирная мазутная вода загоняла ее обитателей на чердаки, и от дома к дому они добирались на лодках или самодельных плотах. Потом, до самого августа, Береговая сохла. Но высохнуть окончательно так и не успевала: начинались осенние дожди – и она опять превращалась в топкое болото.
Но Болотной почему-то называлась наша улица.
Эта загадка с наименованием улиц мучит меня до сих пор. Я никак не могу понять, откуда берутся Приморские в глубине континентов, там, где нет не только моря, но даже захудалой речушки или озерка; почему улицы из рубленных в лапу пятистенок называются Кирпичными и Шлакоблочными, а шлакоблочные поселки, наоборот, – Листвянками.
Мне представляется, что где-то сидит такой старичок-насмешник, который, похихикивая и высунув от удовольствия язык, выскребает из своей картотеки все эти названия – одно нелепее другого.
Иногда шутки его бывают очень даже ехидны. Старичок-насмешник, выдернувший когда-то из картотеки название «Болотная» для нашей улицы, мог быть доволен – он своего добился. Пацаны с Береговой дразнили нас болотниками, лягушатниками и головастиками.
Это было изумительное нахальство. Нахальство, лишавшее дара речи.
Мы враждовали с береговыми. Правда, сам я, по малолетству, не участвовал еще в опасных рейдах, в форсированиях Абушки на бревнах и крышках от погребов, но горячо переживал все известия, поступавшие с театра военных действий.
Как-то раз, однако, попал и я в жаркое дело.
В тот день, слоняясь по улице, я набрел за сараем на приемного сына кума Егора Дорофеева Кешку – главнокомандующего всеми вооруженными силами улицы Болотной. Кешка сидел в полном одиночестве и потрошил окурки, намереваясь, как видно, свернуть себе папироску. Я почтительно остановился рядом. Между мной – пограничной собакой и Кешкой – главнокомандующим была огромная дистанция, не позволяющая мне даже сидеть в его присутствии. Кешка сам снизошел до беседы со мной. Он сказал, что прячется здесь от отца, что, наверное, долго еще будет прятаться, а может, и вообще домой не вернется. Потому что отец пообещал, – если поймает Кешку, – наступить ему на одну ногу и за другую разорвать.
Польщенный таким доверием, я сказал:
– А у нас тоже… когда полы моют, домой не пускают.
– Полы – это что, – вздохнул Кешка.
Мы еще маленько посидели за сараем, съели мой сухой паек – две печеных картофелины, покурили горькую Кешкину папироску. Потом он предложил:
– Айда с береговыми воевать.
Силы были неравны. На левом берегу Абушки бесновались наши многочисленные противники. Позицию на правом удерживали только мы двое.
Береговые перемазались для устрашения жирной мазутной тиной, они орали, кривлялись и обстреливали нас комками грязи.
Худой и длинный Кешка хватал, что под руку попадет, – а попадались обломки кирпича, галька – и вел ответный огонь, не густой, но прицельный.
Я, превысив полномочия пограничной собаки, тоже пытался «стрелять».
Но мои камешки падали, не долетев до середины речки, в то время как Кешкины голыши со свистом секли мелкий кустарник на том берегу.
Один из бросков достиг цели – камень попал в голову пацану с Береговой.
– Драпаем! – крикнул Кешка и, пригибаясь, кинулся в пустые осенние огороды.
– Кешка, попадет нам, а? – спрашивал я на бегу.
– Посадят, – обернувшись, сказал Кешка. – Если найдут…
Сердце мое бултыхнулось и заскулило где-то в самом низу живота.
Не знаю, куда убежал Кешка. А я спрятался в полыни, росшей на меже нашего огорода и огорода соседки тёти Нюры.
Может, я просидел бы там до вечера, если бы не увидел вдруг из своего убежища, как прямо к нашему вроде бы дому шагает какой-то дядька – в гимнастерке и с полевой сумкой через плечо.
Случайного дядьку этого я принял за милиционера, выполз на четвереньках из ненадежной полыни, убежал – маленький и преступный – за крайние дома улицы и залег там в старом песчаном карьере.
Разыскала меня управившаяся с делами мать.
Путь обратно оказался еще более невеселым. Всю дорогу мать подгоняла меня прутом, ругала мучителем и чертом вислоухим.