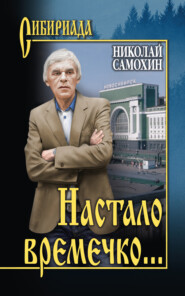По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы о прежней жизни (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здесь требуется маленькое пояснение. Дело в том, что мать не помнила точно, по какому стилю она меня родила. То ли по новому, а в сельсовете записали по старому, то ли – по старому, а запись, наоборот, сделана была по новому. Словом, до шестнадцати лет мне, на всякий случай, отмечали день рождения дважды в году.
Итак, опять я появился на улице с яблоком.
Кешка Дорофеев поднялся с бревнышек и уверенно двинулся за данью. Он даже ничего не сказал мне, только повелительно разинул рот.
Но я показал Кешке фигу, а руку с яблоком спрятал за спину.
Кешка растерялся. Это был, пожалуй, первый случай неповиновения за всю историю его крутого единовластия на улице.
– Ах, ты такой стал? – спросил он. – Такой, да?.. Такой?..
Тем временем Амангельды Иманов предательски подкрался с тылу и вырвал у меня яблоко.
Амангельды, хотя и учился уже в первом классе, ростом был меньше меня, и догони я его – пришлось бы Амангельды тошно. Но мне во фланг разом ударили Чапаев и Котовский.
«Красные» и «синие» действовали на этот раз исключительно дружно, а вели себя как настоящие «зеленые». Легко выиграв этот неравный бой, они уселись на бревнышках, стали по очереди кусать мое яблоко и меня же обзывать разными обидными словами.
Дома я подвел невеселый итог. Проявленная щедрость принесла мне одну разорванную штанину, одну ссадину на колене, один синяк и шаткую надежду занять должность Петьки-пулеметчика. Жадность – три синяка, расквашенные губы, почти полностью утраченные штанины и – никаких надежд. Вдобавок Амангельды Иманов набил землей мою фуражку и зашвырнул её на крышу сарая…
Несколько слов про Аульскую. Несколько слов, потому что вся речь о ней впереди.
Аульская тянулась в один ряд вдоль длинного, изрезанного оврагами косогора. Косогор сбегал в обширную согру, за которой тускло поблескивали добротные цинковые крыши куркульского форштадта. На форштадте жили коренные старокузнечане – люди обстоятельные и богатые. Рабочий класс существовал выше – в бараках и немногочисленных двух- и трехэтажных коммунальных домах.
На Аульской же ютился люд вербованный, перелетный: уборщицы, коновозчики, сторожа, сапожники.
Мы перебрались на Аульскую осенью сорок первого года. Улица строилась лихорадочно, с такой же поспешностью, с какой отрываются окопы и траншеи. Поджимала война, и было не до архитектурных излишеств. Кто успевал до повестки – возводил все четыре стены и сооружал над ними двускатную крышу. Но успевали немногие. Чаще просто выкапывали в косогоре яму, к образовавшейся земляной стенке пригораживали три других, закрывали односкатной крышей – и получалась сакля.
Строили по воскресеньям, стучали молотками до свету, в короткие обеденные перерывы и вечерами, после заката солнца. Случалось, кое-где работали и ночью – при свете костра. Это означало, что утром из дома, возле которого всю ночь полыхал костер, выйдет его хозяин – с тощим вещевым мешком за плечами. А рядом, неумело держась за локоть, будет семенить осунувшаяся, ставшая вдруг будто бы ниже ростом жена.
Иногда эти сигнальные костры загорались сразу в нескольких местах…
Вспыхнул такой костер однажды и возле нашего дома…
Семейное окружение
Отец мой был, как говорится, природный пахарь. Но пахал, сеял, косил и молотил он до моего рождения, а сразу после этого события завербовался в рабочие. Я, таким образом, родился на стыке двух разных социальных положений отца. Эта неопределенность долго еще потом смущала меня и озадачивала. Заполняя многочисленные анкеты, я всегда останавливался в растерянности перед графой «происхождение», не зная толком, что же туда вписывать. Иногда я писал «из крестьян», иногда – «из рабочих», а однажды в отчаянии поставил даже – «рабоче-крестьянское». Чувствовал я себя при этом не то скрывающимся поповичем, не то мелкопоместным дворянином. А поставить прочерк или, допустим, знак вопроса у меня не хватало духу. Да это было и небезопасно. С одним моим школьным товарищем произошел такой случай: впервые столкнувшись с анкетой, он вспомнил, что папа его в момент рождения сына отбывал очередное справедливое наказание в местах не столь отдаленных. А до появления сына, как, впрочем, частично и после него, папа промышлял квартирными кражами. И вот, чтобы не вести свое происхождение от домушника, товарищ написал в анкете: «От обезьяны». И хотя это не противоречило в целом нашему материалистическому мировоззрению, товарища долго потом воспитывали на заседаниях комсомольского бюро, на общих собраниях, приводили этот факт, как пример хулиганства и надругательства, в отчетных докладах.
Я не обижаюсь на родителя за неясность моего происхождения. Если он и виноват, то в другом. Вскоре же после моего рождения отцу представлялась возможность круто, и главное – легко, повернуть свою биографию. Я мог бы вырасти в семье и более обеспеченной, и более культурной.
Дело в том, что отец по тем временам считался человеком грамотным. Он окончил четыре класса церковноприходской школы, причем в последнем классе провел два года. Отец не поладил с батюшкой, преподававшим Закон Божий. То есть сам Закон он усвоил изрядно, но батюшка прознал стороной, что в церковь его ученик ходит не молиться, а байбачить. (Отец и его дружки тискали в темном притворе девок, а когда церковный служка обходил верующих с подносом для приношений, норовили погромче брякнуть о поднос медным пятаком и схватить гривенник сдачи.)
Батюшка, справедливо решивший, что теория, не подкрепленная практикой, мертва, на экзаменах вывел отцу «неуд» и оставил на второй год.
Зато инженера товарища Клычкова, руководившего ускоренными курсами мастеров сталеварения, давний конфликт отца с русской православной церковью не смутил. Товарищ Клычков, сам молившийся только на индустриализацию, видел в отце прежде всего крепкого молодого мужчину, знакомого не только с четырьмя действиями арифметики, но даже с простыми дробями. И такой ценный человек, лениво посвистывая, разъезжал на лошадке, между тем как добрая половина учеников товарища Клычкова едва-едва умела читать и писать.
Инженер подкарауливал отца во время обеденного перерыва, хватал за полу железного дождевика и, посадив рядом, угощал кефиром.
– Иди ко мне, Яков Григорьевич, – звал товарищ Клычков. – Я из тебя мирового мастера сделаю. Не век же тебе кобыле хвоста крутить.
Он заманивал отца в мартеновский цех и, льстиво заглядывая в глаза, рисовал перспективу.
– Сегодня ты мастер, – говорил он, – а завтра, глядишь, начальник участка… А там – начальник цеха… A там – половиной завода заворачивать начнешь!.. Какие твои годы…
Отец пятился от слепящего металла, царапал негнущимися пальцами ворот рубашки и бормотал:
– Ну его к такой матери… Жарко здесь… Айда на волю.
Он так и не дал себя уговорить – остался на всю жизнь коновозчиком. По трем великим стройкам прогромыхала его телега – по Кузнецкому металлургическому комбинату, Сталинскому алюминиевому заводу и знаменитому Запсибу.
Эта работа давала возможность только-только прокормиться, но зато оставляла отцу его свободу.
Тем не менее, как только отец обнаружил, что сын превзошел его в грамотности – а случилось это, когда я познал недоступные ему десятичные дроби, – для меня он стал мечтать о несвободе.
Обычно это происходило дважды в месяц, в дни получки и аванса, когда отец распивал традиционную бутылочку со своим дружком дядей Степой Куклиным. После четвертой рюмки они начинали хвастаться сыновьями. Дядя Степа, бывший в молодости неотразимым и безжалостным сердцеедом, видел в сыне повторение себя.
– Красивый растет, заррраза, – говорил он, со злобной одобрительностью скаля зубы. – Уже волосы начинают курчавиться. Вот здесь, над ушами. Как у меня. У-ух, девок будет шерстить, подлец!..
Отец, не имевший возможности похвалиться моей курчавостью, упирал на иные качества.
– А мой Миколай – голова! – кричал он, придвигаясь к дяде Стёпе. – Башка!.. Вот погоди маленько – он себя покажет. Придет к нам на конный двор – и Старкова побоку… (Старков был начальником конного двора.) А что ты думаешь? Спихнет. Какая у Старкова грамотешка? Три класса, четвертый – коридор… А там – дальше-больше – в трест придет: Вайсмана побоку!.. А там – глядишь – в райком, заместо Косорукова… А там – в горком!
Почему-то, в представлении отца, ни одну из этих должностей я не мог занять мирным путем, а непременно должен был кого-нибудь спихивать, сковыривать, давать кому-то по боку и по загривку.
Может быть, опыт убеждал его в том, что начальники добровольно не уходят, а здоровое пролетарское чутье подсказывало, что менять их время от времени надо? Не знаю. Во всяком случае, по отношению ко мне это выглядело нечестно: сам-то папаша умыл руки раз и навсегда. Почему же мне надо было спихивать этих озабоченных людей и занимать их должности?
Нет, я не собирался ни в трест, ни в горком.
И вообще, если уж честно признаться, я больше всего мечтал стать Ходжой Насреддином.
Но мои личные планы никого не интересовали. Такова уж горькая детская доля.
Ребенок не успевает еще износить и пары собственных сапог, а уж долг его перед семьей и человечеством достигает невероятных, циклопических размеров.
Все от него чего-то ждут.
Отец хочет видеть его министром или, по меньшей мере, директором завода.
Дядька рассчитывает, что он станет звездой футбола, будет ездить по заграницам и привозить родственникам – в том числе и ему, дядьке, – дорогие подарки, хотя сам он вот уже полгода не может подарить племяннику клятвенно обещанные цветные карандаши.
Дедушка, грея возле печки ногу, простреленную во время Первой мировой войны, твердит: генералом, генералом…
В детстве я прочел где-то слова «семейное окружение» и понял их так: многочисленные родственники, вооружившись кто чем попало, окружают маленького испуганного пацана, требуя немедленной капитуляции. Кольцо сжимается, несчастную жертву вот-вот схватят и примутся нарасхват отрывать уши.
Оказалось, я был недалек от истины. Такое окружение действительно существует, только вооружены окружающие не обязательно одними ремнями и скрученными полотенцами. У них в руках положительные примеры, нравоучения, воспоминания о собственном непорочном младенчестве, запреты и требования.
Из семейного окружения, точно так же, как из любого другого, вырваться очень трудно. Оно же с готовностью расступается и пропускает извне кого угодно – любого знатока детской души с его догмами, в которые никто из окружающих давно не верит, но все считают, что в них необходимо заставить поверить ребенка.
При этом, – если ребенок вырастает достойным человеком, – семейное окружение все заслуги приписывает только себе. Если же, несмотря на соединенные, а вернее – разъединенные и противоречивые усилия, из него получается-таки негодяй, виноватыми остаются школа, улица, милиция, государство, врожденные пороки воспитуемого – но не семейное окружение. «Ах, мы учили его только хорошему!» – в один голос твердят дядьки, тетки, дедушки и бабушки, искренне не понимая того, что от постоянных «пирожных» даже ангела может потянуть на «пиво и селедку».