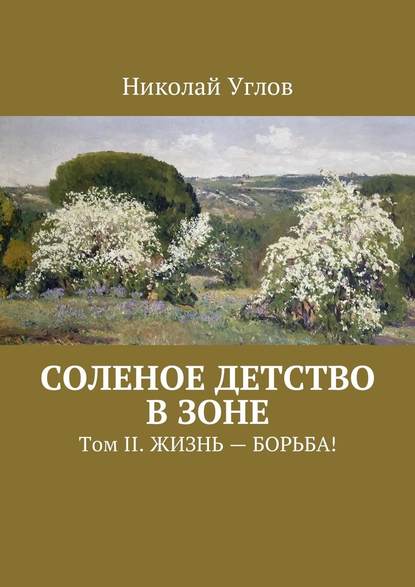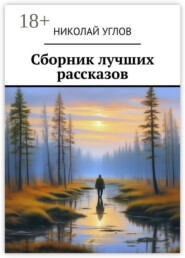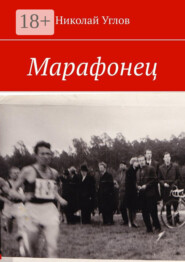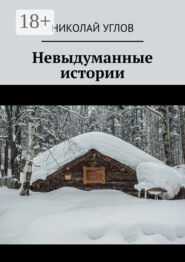По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Соленое детство в зоне. Том II. Жизнь – борьба!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Давай, «Голубое такси»!
Он начинает нашу любимую и все подхватывают:
Помнюдворзанесённый,снегомбелымпушистымТыстоялау дверцыголубоготакси…
Пропев эту крайне лирическую и нежную песню, все замолкали. Сделав паузу, Меньшик склоняет ёжик волос к гитаре и зычно начинал:
Естьв Индийскомокеанеостров.НазваниеегоМадагаскар.
Мы дружно подхватываем хором:
Мадагаскар —страна моя.
Здесь,каки всюду,цветётвесна.Мытожелюди.Мытожелюбим.
Хотькожачёрнаяу нас,но кровьчиста!
Пропев гордую песню о свободе, мужестве людей, отстаивающих её, не сразу успокаиваемся. Начинаются политические споры. Одобряем нашего руководителя государства Хрущёва, свергнувшего тирана Сталина. Почти у всех есть пострадавшие родственники. Устаём от серьёзных споров и, перед тем, как разойтись по комнатам, упрашиваем озорного Томашевского пропеть свои блатные песни «на закуску». Прищурившись, закурив сигарету, он начинает:
И вспоминаядевичьюкрасу,
Мнестыднобылоковырятьсебев носу!
Все повеселели, хохочут, а он задорно бренчит на гитаре уже другую:
От чего-топлакалаяпонка.Почему-товеселбылморяк!
Теперь все хором упрашиваем:
– Давай свою «коронку»!
Томашевский не спеша закуривает следующую папиросу, стряхивает пепел, улыбается, трясёт своими кудрявыми вихрами и начинает озорно:
Тыподошлакомнетанцующейпоходкой.И тихо,тихошепнула:«Ну,пойдём»!
А поздновечеромпоиламеняводкой.И овладеламоимсердцем,какрублём.
Вообще, блатных песен в то время было не счесть и, скажу откровенно, молодёжь их любила. Многие просто бравировали ими. Ни одной компании не обходилось и без лагерных песен, которые мы тоже любили и пели. Время было, видно, такое: полстраны побывало в тюрьмах и лагерях! Почти в каждой семье были репрессированы по уголовным или политическим статьям деды, бабушки, отцы, матери, родственники. Сажали за каждую малость.
Я вспоминаю опять Вдовино… Женщины там отрабатывали бесплатно «барщину» на колхозных полях, не разгибаясь по шестнадцать часов. И вот, помню, на моих глазах был такой случай. Возвращались женщины с льняного поля. Уже в посёлке встречает их Калякин. Орёт:
– Расстегните фуфайки и кофты!
Подскочил к худющей Верке Маслаковой и выхватывает между сохлых грудей узелок со льном, несла она его голодным детям. Орёт, к коменданту повёл. Дали за два килограмма льна четыре года тюрьмы бедной женщине!
Вот такая была подлая власть «главного фашиста века» – Сталина!
Закончен четвёртый курс, и я еду к Лёшке Широкожухову в деревню – это недалеко от Липецка. Неделю живём в глухой деревушке. Лето. Тепло. Лопухи и крапива в их усадьбе напоминают мне о Вдовино. Вечера тихие; на дальней улице слышна постоянно гармошка – там танцы. Мы не ходим. Влюбляюсь в Лёшкину сестру Машу. Полноватая, простая, в ситцевом цветастом платье, немного косит одним глазом. Гуляем в тени огромных ив на берегу пруда. Фотографируемся в поле, лесу, в огороде. Отъедаемся молодой картошкой с молоком. Ходим под руку вечерами по тёмным улицам села втроём. Разговариваем, спорим, поём песни и частушки, читаем стихи. Мне кажется, что я тоже нравлюсь Маше. Остались на всю жизнь любительские фотографии с ней! Как она устроилась в жизни? Тоже пытался искать, но не было ответа. Через неделю уезжаем с Лёшкой теперь ко мне на Кавказ. Там напрочь забываю о Маше. Теперь не так истосковался по матери, друзьям и своему городу. Но всё равно приятно приехать в свой дом, где не был почти год.
Мать ежедневно готовит нам на завтрак молочную пшённую кашу. Лёшка каждое утро говорит, садясь за стол:
– Люблю кулеш!
Я передразниваю:
– Кулеш, кулеш! Какой кулеш? Это пшённая каша!
Но Лёшка стоит на своём. Мы с ним ещё больше сдружились и теперь не расстаёмся. Хороший парень! Душевный, простой, бесхитростный. Неделю показываю город, парк, горы; ходим на озеро купаться. После отъезда Лёшки включаюсь в домашние дела.
Произошёл случай, когда я, как никогда, был на грани жизни и смерти, но Бог опять меня спас. За городом, километрах в тридцати, есть посёлок Терезе. За ним далеко в горах кисловодчанам выделялась земля под посадку картофеля. У нас было десять соток. Филипп Васильевич объяснил мне, как найти наш участок. Поехал рано утром на автобусе. Тяпку обернул тряпкой. Затем пешком несколько километров в горы. Нашёл участки и бирку с надписью «Пастухов». У всех картошка давно подбита, а у нас заросла сорняками. Надо было прополоть, а затем окучить все десять соток. Для меня это мелочь! Я привык в Сибири к такому труду. Работаю, как одержимый. Прополол, и тут только дошло, что могу не справиться с заданием: не взял с собой ни воды, ни еды! И мать прохлопала! Жара. Пить и есть страшно хочется, но терплю. Изо всех сил работаю тяпкой. Уже невмоготу, падаю от усталости. Ободряю себя:
– «Ну, ещё чуть-чуть! Меньше двух соток окучивать осталось! Ну, потерпи! Выдержи! В Сибири бывало гораздо хуже! Давай, не распускай нюни»!
Голова кружится от голода. Солёный пот разъедает глаза. Наконец, уже вечером, закончил. Бегу с горы – успел на последний автобус. Мест нет. Стоять придётся все тридцать километров. Асфальта ещё не было, и автобус подпрыгивает на ухабах – мне плохо. Остановок много, едем медленно. Людей, как назло, много. Так и не удаётся присесть. Мне всё хуже и хуже. Думаю:
– «Когда это кончится? Только бы дотерпеть! Что со мной творится, не пойму»!
Показался, наконец, город. Перед глазами плывут круги. Сознание временами покидает меня, но я изо всех сил держусь за поручни, стараясь не завалиться на людей. На меня косятся. Наконец, как в полу тумане первая остановка – проспект Победы. Иду к выходу, теряя сознание. Последнее помню: из автобуса шагнул, выронив тяпку. Упал ничком в траву обочины. Откуда-то издалека донёсся злорадный женский голос:
– Ишь, как нализался, молодой сучок!
Пришёл в себя. На остановке равнодушно стояли, не обращая внимание на меня, несколько человек. Кое-как доплёлся домой. Три недели не вставал с постели. Сильнейшая ангина прихватила меня. Горло было красным – шла кровь. Сознание то приходило, то я проваливался куда-то. Стонал, метался. Иногда, как сквозь сон, слышал голос матери:
– Филипп! Что делать? Он умирает. Господи! За что мне такое наказание? В Сибири спасла детей, а здесь…
Надо мной постоянно бешено крутился потолок. То падал на меня, то взмывал вверх. На потолке были разноцветные звёздочки – красные, жёлтые, оранжевые. Они быстро крутились, превращаясь в один сплошной круг, который, бешено вращаясь, падал на меня. Я орал, приподнимаясь. Кровь шла горлом. Ничто не помогало. Спасла меня Фролова Анна – родственница матери. Пришла. Встревоженно осмотрела меня. Говорит:
– Аня! Почему раньше мне не сказала? Попробую вылечить. Есть керосин?
– Конечно. Но причём керосин?
– А притом! Ангину лечат керосином!
Она несколько дней жила у нас. Ежечасным полосканием горла керосином она буквально вырвала меня из лап смерти. Должен сказать, что больше в жизни меня никогда не беспокоила ангина.
Июнь кончился, а вместе с ним и моя неожиданная болезнь. Оставалось два месяца до занятий, и я вновь начал радоваться жизни. Ежедневно к нашей колонке приходила Лидка Зайцева с подругой Лидкой Задорожко. Обе были очень красивые девчонки! Я уже изучил их график похода за водой и заранее открывал два окна на улицу, заводил патефон и ставил пластинку. Набрав воды, они не спешили уйти, разговаривая по десять-пятнадцать минут. Одновременно, как бы невзначай, они слушали «Цветущий май», «Три года ты мне снилась», «Тишина» и другие нежные песни, которые привёз из Липецка. Я через тюлевую занавеску наблюдал за ними. Как-то не выдержал и вышел из калитки. Лидка обрадовалась:
– Сосед! Приехал и не показываешься. Какие хорошие песни у тебя! У нас ещё таких пластинок нет. Ну, подойди поближе, расскажи, где учишься.
Мы разговорились. Лиха беда – начало! Почему раньше не заводил с такими симпатичными девчонками разговор? Как интересно с ними! Какие красивые девчонки!
Я побежал за фотоаппаратом и сделал первые снимки. Обе Лидки были явно заинтересованы мной. Они уже работали в санаториях и, как выяснилось впоследствии из разговора с Зайцевой, у Задорожко уже кто-то был. Я решил целиком сосредоточиться на Лидке Зайцевой.
Летними долгими вечерами сидел с гитарой в саду и разучивал песни. Больше всех любил очень популярное тогда «Бессаме мучо». Я мог десятки раз пропеть её за вечер:
— Целуйменя!Целуйменяжадно!
Сосед, молодой чернявый парень Эдик Шкоденко, как-то сказал: