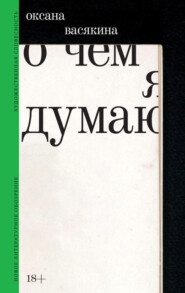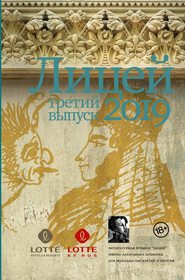По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Роза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Роза
Оксана Васякина
«Иногда я спрашиваю у себя, почему для письма мне нужна фигура извне: мать, отец, Светлана. Почему я не могу написать о себе? Потому что я – это основа отражающей поверхности зеркала. Металлическое напыление. Можно долго всматриваться в изнаночную сторону зеркала и ничего не увидеть, кроме мелкой поблескивающей пыли. Я отражаю реальность». Автофикшн-трилогию, начатую книгами «Рана» и «Степь», Оксана Васякина завершает романом, в котором пытается разгадать тайну короткой, почти невесомой жизни своей тети Светланы. Из небольших фрагментов памяти складывается сложный образ, в котором тяжелые отношения с матерью, бытовая неустроенность и равнодушие к собственной судьбе соседствуют с почти детской уязвимостью и чистотой. Но чем дальше героиня погружается в рассказ о Светлане, тем сильнее она осознает неразрывную связь с ней и тем больше узнает о себе и природе своего письма. Оксана Васякина – писательница, лауреатка премий «Лицей» (2019) и «НОС» (2021).
Оксана Васякина
Роза
Право, у меня хватает мужества во всем сомневаться, у меня хватает мужества со всем бороться, – но у меня нет мужества познать что-либо, владеть чем-либо, присваивать нечто себе. Многие жалуются, что жизнь слишком прозаична, что она не похожа на роман, где обстоятельства столь благоприятны. Я тоже жалуюсь на то, что жизнь – не роман, в котором нужно побеждать жестокосердных родителей, троллей и кобольдов, – неизменно освобождая заколдованных принцесс. Что значат все эти враги, вместе взятые, по сравнению с теми бледными, бескровными, но назойливыми ночными видениями, с которыми я борюсь и которых я сам наделил жизнью и внутренней сущностью?
Сёрен Кьеркегор «Или-или. Фрагмент из жизни»
И проснусь я где-то в мире невозможном
Где-то между будущим и прошлым.
Юрий Чернавский, Леонид Дербенев «Зурбаган»
Ад мой там, где я ступлю.
Анна Бунина «Майская прогулка болящей»
В оформлении обложки использован фрагмент офорта «Роза» Хермануса Нумана. Ок. 1754–1825. Рейксмузеум, Амстердам / Rijksmuseum Amsterdam
© О. Васякина, 2023
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
* * *
Если бы у запаха был цвет – я бы сказала, что у запаха ее тела был цвет хлебного мякиша.
Ее большая, фиолетовая кофта с черными и серыми треугольниками пахла подъездом – застаревшим сигаретным дымом и влагой. Она куталась в ней, сидя на бетонных ступеньках, и курила, глядя на дверцу электрического счетчика.
В этой кофте бабка зимой ходила на балкон, чтобы принести крупы и нарубленных окорочков. Надевая ее, бабка ворчала. Каждый раз она ворчала так, словно впервые сталкивалась с этим запахом. Она ворчала и фукала, но все равно надевала прокуренную кофту. Иногда мне казалось, что она надевает ее специально – чтобы пристыдить Светлану за ее курение. Сама бабка никогда не курила, гордилась тем, что за всю свою жизнь ни разу не сделала даже затяжки.
* * *
Часто мне казалось, что Светлана существует только для того, чтобы ее стыдить и понукать.
На праздники – Новый год, дни рождения и Восьмое марта – они собирались втроем: бабка и две ее дочери, моя мать и Светлана. Застолье начиналось с долгого обсуждения угощений: селедка в этот раз вышла совсем не та, переложили лаврушки, и поэтому получилось слишком пряно. Матери удалось купить по дешевке красной рыбки, и ее, жирную, с коричневыми линиями под тугой кожей, тонко наре?зали и положили рядом с селедкой. Сладковатое пюре обсуждали долго – бабка сетовала, что попробовала разбить картошку новым миксером, как это делает соседка, но ей такой подход совсем не нравится. Слишком жидко, говорила она. Бабка любила внимательно вылавливать деревянной толкушкой желтые картофельные комочки, а потом пальцем снимать с нее нежные остатки пюре и пробовать на соль. Бабка доставала из духовки коричневые куриные ножки, а из морозилки сало. Мягкие коричневатые маринованные огурцы резала наискосок и жаловалась, что в этом году они получились кислые.
Все это время Светлана сидела спиной к окну как истукан и ждала, когда можно будет приступить к еде. Иногда ее нервно передергивало от бабкиных слов, и Светлана, обратившись к бабке, небрежно утешала ее. Сама она сидела с ровной спиной, но ее большие коричневые глаза напряженно следили за бабкиными руками, выставлявшими на стол угощение.
Праздников было много, но все они сложились в моей памяти в один бесконечный праздник. Вне зависимости от того, где и по какому поводу они проходили, были ли деньги на приличный стол или мы ограничивались отварной картошкой с капустным салатом, праздники шли по заведенному сценарию.
После наполнения стола бабка начинала говорить о самогонке. Здесь Светлана уже не могла держаться спокойно, все ее тело начинало извиваться в тревожном ожидании. Бабка собирала деньги со всех родственников и покупала десять или пятнадцать килограммов сахара. Она ставила бражку в алюминиевом сорокалитровом бидоне под окно, ближе к батарее, и заваливала ее старыми шубами. Бабка внимательно следила за тем, сколько бежевой бражки доходит, потому что знала, что Светлана может залезть в бидон, выпить несколько кружек и долить воды.
Когда брага была готова, бабка включала холодную воду и ставила в ванной самодельный перегонный аппарат. Вода из крана охлаждала аппарат, и в банку по капле стекала мутная вонючая самогонка. По всей квартире разносился тяжелый запах браги, и бабка сторожила самогонку. Она каждые полчаса заходила в ванную, чтобы проверить, есть ли холодная вода и сколько накапало в полулитровую банку. Бабка красила самогон кедровой скорлупой и смородиновым листом, a потом раздавала тем, кто сложился на сахар. С помощью воронки она переливала готовую самогонку в трехлитровые банки, а потом разливала по красивым бутылкам от вина. У нее таких было несколько – в виде виноградной грозди и из синего стекла. Маленькие плоские бутылочки от коньяка она использовала как гостевые – чтобы не ходить с пустыми руками.
После того как бабка выставляла угощения, она молча уходила в спальню и все знали зачем – наливать самогонку. На стол бабка выставляла ее в стеклянном графине с золотой каймой и большим набалдашником, приговаривая, что в этот раз самогонка получилась крепкая, поэтому приходится разбавлять. Чтобы продемонстрировать это, она доставала из ящика с приборами стеклянный спиртометр и показывала: посмотрите – тридцать восемь, а ведь треть воды долила.
Все это время напротив Светланы сидела, закинув ногу на ногу, мать. На самом пороге она отдавала цветные полиэтиленовые пакеты с мясом, рыбой и подарками Светлане, просила дать ей тапочки – она знала, что Светлана если и убралась перед праздником, то сделала это спустя рукава. Снимая высокие кожаные сапоги, мать внимательно рассматривала пыль и крошки, забившиеся между линолеумом и плинтусами. Дома она обязательно брезгливо поморщит нос и скажет, что у Светланы с бабушкой вечно бардак. А я сделаю вид, что не заметила беспорядка.
Светлана с детским любопытством заглядывала в пакет с подарками, мать, шикнув на нее, настойчиво говорила, что для подарков свое время. Переобувшись, она забирала пакет и садилась напротив окна. Из пакета мать доставала подарки для Светланы и бабки. Для Светланы подарок всегда был девичий, связанный с красотой, а для бабки – что-то по хозяйству. Мать за месяц до праздника звонила бабке и спрашивала, что им подарить, и они заказывали: тушь для ресниц, капроновые колготки, новые фужеры и кастрюлю. После того как мать получала список желаемого, мы шли на рынок выбирать подарки.
Выставив все на стол, бабка наконец усаживалась на табурет так, чтобы легко было дотянуться рукой до духовки и кастрюли с картофельным пюре.
Женщины молча раскладывали по тарелкам закуски. Первой расходилась красная рыба, золотистые куриные ножки и бедра. Мне доставалась ножка, мать любила бедро, Светлана тоже любила ножки: голубоватый хрящик аппетитно хрустел, и она жевала его с вниманием и удовольствием.
Первую рюмку они пили за повод, по которому собрались. Вторую пили за здоровье. Третью пили за любовь. Ее нужно было пить до дна, так, чтобы не осталось ни капельки, а затем – опрокинуть стопку на салфетку или тарелку и спустя пять минут посмотреть на ободок натекшей самогонки. Если жидкость образовывала на салфетке непрерывный круг, это значило, что обладательницу рюмки ждет любовный успех. Увидев полумесяц из самогонки, женщины разочарованно вздыхали.
За этим столом иногда появлялись мужчины. В их отсутствие они и были первой и неизменной темой разговоров женщин моей семьи. Мужчины появлялись как редкие кометы. Они всегда пролетали мимо по краю неба этого мира и вызывали смутное беспокойство, злость и радость, тревогу и сожаление. Мужчины всегда были недостаточно хорошими. Они пили и применяли насилие, они не работали или слишком мало приносили в дом. Но при этом никто не смел отказать им, озабоченность наличием мужчины была главной болью этих женщин. Им они подчиняли свои жизни и быт, забывая о детях и собственном достоинстве.
После третьей рюмки мать и Светлана шли курить в подъезд или на балкон. Я знала, что, пока они курят, Светлана жалуется матери на бабку. Бабка упрекала ее в том, что та не работает и ленится, а только жрет и смотрит телевизор, даже убраться нормально не может. Мать спокойно выслушивала Светлану и начинала ее по-сестрински поддерживать и поучать. Светлана и правда давно не работала. Причиной этому была ее полная неспособность подстроиться под график, к тому же она совершенно ничего не умела делать. После училища ее взяли на работу в бабкину пекарню, но вставать в четыре утра у Светланы не получалось и она быстро начала пропускать смены. Потом ее устроили в ларек продавать сигареты, пиво и жвачку. Но Светка много пила и, как это говорилось у нас, распутничала, и хозяин точки ее уволил. Мать утешала Светлану и настойчиво просила купить газету с объявлениями о работе. Стопка таких газет лежала на журнальном столике, но все работы не годились Светке – везде был строгий график и маленькая зарплата, а идти техничкой в школу ей не позволяла гордость.
Затем они шепотом секретничали, Светлана рассказывала сплетни двора и о своих гулянках, мать внимательно слушала и поддерживала беседу едкими комментариями. Сидя в кухне я слышала, как они стараются негромко смеяться, но материн звонкий смех прорывался из груди, а Светка шикала на нее, потому что боялась, что их подслушивает соседка.
Все это время мы с бабкой сидели за столом и ели. Бабка скупо посматривала на меня и задавала формальные вопросы о моей школе. Я ее не интересовала, она спрашивала меня, чтобы не молчать. Я на сэкономленные деньги дарила Светке лак для ногтей, а бабке на уроке труда вязала крючком нарядные салфетки и игольницы в виде дамской шляпки. Бабка принимала мое рукоделие с важным видом и тут же находила место в квартире, куда можно было приладить самодельные прихватки или вышитые крестиком картинки.
Когда мать и Светка возвращались, женщины выпивали еще по одной. Я пристально следила, но никогда не могла понять, в какой именно момент это тугое застолье превращалось в перепалку Светланы и бабки. Мать в ней участвовала в качестве третейского судьи. В глазах бабки мать была успешной женщиной. У нее была работа на заводе, дочь училась в школе и был какой-никакой мужчина. Поучая Светку, бабка показывала пальцем на мать, та, польщенная тем, что в сравнении с сестрой она лучше, вставала на сторону бабки. Когда же Светлана отвечала бабке, она обращалась за поддержкой к сестре, и мать, размягченная ее уязвимостью, сдавалась и вставала на сторону Светланы.
Мне не нравились эти праздники. В них для меня не было места. Моим делом было помочь матери донести пакеты, подарить свои поделки, поесть и пойти в комнату смотреть телевизор. Я сидела в бабкином кресле, щелкала пультом и размышляла о семье. Я сделала вывод, что в моей семье все существуют для какой-то пользы. В Светке, как бы ни казалось обратное, тоже было много пользы. Она выполняла роль плохой дочери и нерадивой сестры. Для меня, в силу того что я была ребенком, пока не было никакой задачи, кроме одной: быть немой зрительницей отношений этих женщин. Я была зеркалом этой семьи. Моим делом было отражать их злость, радость и разочарования. Не попадаться под руку и, когда в этом будет необходимость, всегда быть под рукой. Мне этот мир казался прочной зеркальной клеткой. Все, что в ней происходило – происходило в рамках закрытой системы. Эта система, если и впускала в себя кого-то инородного, тут же выплевывала его, потому что встроить или переварить не могла. Все роли в ней были заранее определены и тесно встраивались в рутину. Здесь не было воздуха, все пространство было занято тревогой и делами.
Про себя я называла эти застолья курятником и представляла себе, что бабка в своем пестром халате – старшая крупная несушка. Ее обесцвеченные короткие волосы всегда были прибраны и завиты, как будто на голове у нее был светлый гребешок, повалившийся на бок. Мать была красивой, сильной, черной курицей с аккуратными перьями и темным гребешком. Светка – курочкой недоростком, такие всегда встречались мне в курятниках, они были слабыми и злыми, казалось, что внутри шеи и груди что-то невидимое спирает все их органы. Эти существа вызывали одновременно тревогу, жалость и отвращение. Хотелось понять, как они устроены, и одновременно хотелось отвернуться и никогда о них не помнить.
Я ненавидела этих женщин, моя ненависть была тихой, но разрешенной. Потому что они ненавидели друг друга. Ненависть была одним из немногих легальных чувств, которые можно было испытывать к женщинам. Ненавидеть их можно было за все, чем бы они ни обладали: красоту, тело, склочность или бесцветность.
Сидя на бабкином кресле, я надевала ее очки и сквозь них пыталась прочесть программу передач в серой газете. Буквы и цифры расплывались, а газета пахла сухим отработанным деревом. Я много раз до этого гладила ладонью тонкую велюровую накидку на кресле, но каждый раз снова и снова проводя по ней рукой, испытывала надежду обнаружить здесь что-то новое. Я вставала и шла рассматривать хрусталь в серванте и фигурки керамических оленят. Там, за стеклом, все было покрыто пылью. Мне было неясно, зачем бабка хранит все это, если никто не пользуется фарфоровой супницей из ГДР и рогом для вина с мельхиоровой цепочкой. Там же бабка хранила самогон в маленьких и больших бутылках. Мне было скучно, праздник все никак не мог кончиться. Из кухни доносился голос матери. Она рассказывала что-то веселое и хохотала, я, стоя в другой комнате, представляла, как бабка и Светка в пьяном упоении слушают.
К вечеру Светка чаще ходила курить и бабка с матерью оставались вдвоем. Когда Светка уходила, бабка начинала возмущенно жаловаться на нее. Голос матери становился демонстративно трезвым, и она начинала давать бабке рациональную оценку ситуации. Она напоминала бабке, что в городе нет никакой работы. Ей хотелось защитить Светлану, и одновременно с этим она чувствовала свое превосходство. Она становилась мудрой женщиной и утешала бабку.
Когда бабка говорила, что больше не наливает, Светлана разочарованно куксилась и выпрашивала еще одну, последнюю рюмку, и бабка, сжалившись, наливала всем трем по последней, и после нее мать начинала собираться. Она помогала убрать со стола и вставала мыть посуду, пока бабка перекладывала недоеденные огурцы в тарелку с селедкой и, накрыв еду блюдцем, убирала ее в холодильник. Светка говорила, что пойдет нас провожать, и спешно уходила в комнату, где из шифоньера доставала теплые колготки и шерстяную юбку, красила губы темной помадой. Одевшись, она садилась на свою софу и ждала, пока старшие женщины закончат с уборкой.
Мать с бабкой о чем-то шептались на кухне и, прибравшись, шли в комнату бабки. Там они доставали замусоленные карты с красными рубашками и делали незамысловатый расклад. Услышав, что бабка с матерью гадают, мы со Светкой шли к ним. Бабка внимательно смотрела на карты и пальцем водила по лицам карт. Червонная дама – это ты, тут у тебя казенный дом. Мать кивала, завтра ей нужно было идти на работу. И крестовый король еще ходит, но он не твой, а так. Твой червонный король тоже при тебе. Вот еще дорога, мать кивала, через неделю ей нужно было ехать в Братск на переквалификацию. Все, что нагадывала ей бабка, она знала и сама. Карты не предлагали новостей, они лишь подтверждали известные обстоятельства. Теперь ты мне, говорила бабка и, собрав колоду, садилась на нее своим большим задом. Немного посидев на картах, передавала их матери, и мать с важным видом подносила карты бабке, чтобы та сдвинула колоду. И делала аналогичный расклад. Ты, говорила она, дама бубновая, потому что разведена. Тут у тебя бубновый и крестовый короли. Я смотрю, мама, вокруг тебя одни мужчины. Бабка смущенно отмахивалась от матери и с любопытством следила за ее руками. Вот тут деньги, говорила мать и указывала на комбинацию десяток бубен и крестей. Какие-то случайные и большие. Бабка вздыхала, случайных денег взять было неоткуда, поэтому она не верила раскладу.
Мы со Светкой наблюдали за их тихим разговором и внимательно слушали. У нас дома тоже была колода гадальных карт, мать запрещала мне играть в них, но иногда я брала их и, повторяя за матерью, делала себе расклад. Я была бубновой дамой, мать говорила, что червонная – это замужняя женщина, крестовая – сослуживица, а дама пик – соперница. Бубновая дама означала незамужнюю адресатку гадания.
Потом мать с бабкой садились пить чай, Света торопливо говорила мне одеваться, и я, повиновавшись, надевала шапку, шубу и валенки. В это время на кухне закипал электрический самовар и бабка разливала крепкую заварку из керамического чайника по граненым стаканам. Мы знали, что бабка пьет чай очень горячим и быстро, а мать ждала, пока чай немного подостынет. Обычно на чаепитие у матери уходило минут пятнадцать. Она остужала чай в своем стакане, быстро выпивала его и одевалась, чтобы выйти на остановку. Бабка же еще раз кипятила воду и наливала второй стакан. Проводив мать, она садилась на свое кресло в Светкиной комнате, надевала очки и, с удовольствием кряхтя, смотрела вечерние телевизионные передачи.
Вместе со Светкой мы выходили на улицу ждать мать. Мы ходили вокруг дома, и свежий снег, напа?давший на очищенный тротуар, хрустел под моими валенками. Светкины пьяные глаза светились, она любила приключения. Ее возбуждала мысль, что, прогуливаясь вокруг дома, она встретит кого-то из знакомых и пойдет с ними гулять дальше.
Когда мать выходила из подъезда, она передавала мне пакет с бабкиными угощениями, и мы все втроем шли на остановку. Мать говорила Светлане, что нет смысла нас провожать, но Светлане хотелось еще немного побыть среди людей. Мы шли по темным дорожкам между сугробов, я чувствовала, как от женщин пахнет легким самогонным перегаром, помадой и жирной едой. От Светкиного зимнего пальто пахло табаком, а мать оставляла за собой шлейф сладковатых духов. Мы шли втроем в облаке их густого запаха, он смешивался с запахом крепкого мороза. Изо ртов, накрашенных темной помадой, вырывались облачка светлого пара, мать хохотала над какой-то глупостью, сказанной Светкой. Когда их разговор уходил во взрослые темы, они просили меня идти вперед по тропе, а сами понижали голос и говорили о мужчинах и сплетничали о материных подругах, которые, по материному мнению, часто вели себя неприлично. Я слышала их разговор. Когда они говорили на свои темы, я вся превращалась в слух и мне было интересно следить за линией материного рассказа и Светкиными комментариями. Наверное, думала я, они понимают, что я слышу их, и их просьба поторопиться была скорее мерой приличия. Таким образом они проводили черту между моим миром маленькой девочки и миром их взрослой женской жизни. Я была обречена попасть в их мир и однажды оказаться на темной тропе с накрашенными губами и в шапке формовке, аккуратно надетой так, чтобы не нарушить целостности покрытой лаком объемной челки.
Меня пугал этот мир, и одновременно я чувствовала, как любопытство жжет меня изнутри. Мне хотелось узнать все, о чем говорят и чем живут взрослые женщины, но при этом я не хотела оказаться на их месте. Я испытывала легкое отвращение к семейным застольям и ритуалам женского быта. Мне этот мир казался тесным и одновременно пустым. Какой смысл, думала я, в этих цикличных приготовлениях пищи и постоянной уборке, если все это не приводит ни к чему, кроме саднящего разочарования? С другой стороны, думала я, что, если разочарование – это только мое чувство? Что, если его испытываю только я? И если же его испытывают все женщины моей семьи, почему они из раза в раз повторяют одно и то же? Говорят одни и те же слова, готовят одну и ту же еду, пользуются одной и той же посудой? Мне казалось, что мир – это то, что бесконечно обновляется, и я ждала этого обновления каждый раз, приезжая к бабке. Но обновления не наступало. Появлялась лишь тупая тоска по несвершившемуся счастью.
На остановке мать и Светка закуривали и продолжали свой хмельной разговор. Не желая прерывать беседу, они пропускали автобусы, пока мать не начинала жаловаться, что ее ноги замерзли и после бабкиного чая ей хочется в туалет. Я сидела на скамейке и рассматривала их, стоящих на тротуаре. В оранжевом свете фонаря колкий снег переливался и быстро покрывал их норковые шапки. Мать и Светлана напоминали мне снегурочек. Я наблюдала за их темными губами, губы двигались и обнажали ровные зубы, в уголке рта матери поблескивала золотая коронка. Иногда мать спрашивала меня, не замерзла ли я. Я мерзла, но мне не хотелось прерывать их разговора, поэтому я отрицательно качала головой и сжимала остывшие пальцы в кулак, потому что влажные варежки, которыми я по пути на остановку собирала свежий снег с перил, совсем не грели.
Оксана Васякина
«Иногда я спрашиваю у себя, почему для письма мне нужна фигура извне: мать, отец, Светлана. Почему я не могу написать о себе? Потому что я – это основа отражающей поверхности зеркала. Металлическое напыление. Можно долго всматриваться в изнаночную сторону зеркала и ничего не увидеть, кроме мелкой поблескивающей пыли. Я отражаю реальность». Автофикшн-трилогию, начатую книгами «Рана» и «Степь», Оксана Васякина завершает романом, в котором пытается разгадать тайну короткой, почти невесомой жизни своей тети Светланы. Из небольших фрагментов памяти складывается сложный образ, в котором тяжелые отношения с матерью, бытовая неустроенность и равнодушие к собственной судьбе соседствуют с почти детской уязвимостью и чистотой. Но чем дальше героиня погружается в рассказ о Светлане, тем сильнее она осознает неразрывную связь с ней и тем больше узнает о себе и природе своего письма. Оксана Васякина – писательница, лауреатка премий «Лицей» (2019) и «НОС» (2021).
Оксана Васякина
Роза
Право, у меня хватает мужества во всем сомневаться, у меня хватает мужества со всем бороться, – но у меня нет мужества познать что-либо, владеть чем-либо, присваивать нечто себе. Многие жалуются, что жизнь слишком прозаична, что она не похожа на роман, где обстоятельства столь благоприятны. Я тоже жалуюсь на то, что жизнь – не роман, в котором нужно побеждать жестокосердных родителей, троллей и кобольдов, – неизменно освобождая заколдованных принцесс. Что значат все эти враги, вместе взятые, по сравнению с теми бледными, бескровными, но назойливыми ночными видениями, с которыми я борюсь и которых я сам наделил жизнью и внутренней сущностью?
Сёрен Кьеркегор «Или-или. Фрагмент из жизни»
И проснусь я где-то в мире невозможном
Где-то между будущим и прошлым.
Юрий Чернавский, Леонид Дербенев «Зурбаган»
Ад мой там, где я ступлю.
Анна Бунина «Майская прогулка болящей»
В оформлении обложки использован фрагмент офорта «Роза» Хермануса Нумана. Ок. 1754–1825. Рейксмузеум, Амстердам / Rijksmuseum Amsterdam
© О. Васякина, 2023
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
* * *
Если бы у запаха был цвет – я бы сказала, что у запаха ее тела был цвет хлебного мякиша.
Ее большая, фиолетовая кофта с черными и серыми треугольниками пахла подъездом – застаревшим сигаретным дымом и влагой. Она куталась в ней, сидя на бетонных ступеньках, и курила, глядя на дверцу электрического счетчика.
В этой кофте бабка зимой ходила на балкон, чтобы принести крупы и нарубленных окорочков. Надевая ее, бабка ворчала. Каждый раз она ворчала так, словно впервые сталкивалась с этим запахом. Она ворчала и фукала, но все равно надевала прокуренную кофту. Иногда мне казалось, что она надевает ее специально – чтобы пристыдить Светлану за ее курение. Сама бабка никогда не курила, гордилась тем, что за всю свою жизнь ни разу не сделала даже затяжки.
* * *
Часто мне казалось, что Светлана существует только для того, чтобы ее стыдить и понукать.
На праздники – Новый год, дни рождения и Восьмое марта – они собирались втроем: бабка и две ее дочери, моя мать и Светлана. Застолье начиналось с долгого обсуждения угощений: селедка в этот раз вышла совсем не та, переложили лаврушки, и поэтому получилось слишком пряно. Матери удалось купить по дешевке красной рыбки, и ее, жирную, с коричневыми линиями под тугой кожей, тонко наре?зали и положили рядом с селедкой. Сладковатое пюре обсуждали долго – бабка сетовала, что попробовала разбить картошку новым миксером, как это делает соседка, но ей такой подход совсем не нравится. Слишком жидко, говорила она. Бабка любила внимательно вылавливать деревянной толкушкой желтые картофельные комочки, а потом пальцем снимать с нее нежные остатки пюре и пробовать на соль. Бабка доставала из духовки коричневые куриные ножки, а из морозилки сало. Мягкие коричневатые маринованные огурцы резала наискосок и жаловалась, что в этом году они получились кислые.
Все это время Светлана сидела спиной к окну как истукан и ждала, когда можно будет приступить к еде. Иногда ее нервно передергивало от бабкиных слов, и Светлана, обратившись к бабке, небрежно утешала ее. Сама она сидела с ровной спиной, но ее большие коричневые глаза напряженно следили за бабкиными руками, выставлявшими на стол угощение.
Праздников было много, но все они сложились в моей памяти в один бесконечный праздник. Вне зависимости от того, где и по какому поводу они проходили, были ли деньги на приличный стол или мы ограничивались отварной картошкой с капустным салатом, праздники шли по заведенному сценарию.
После наполнения стола бабка начинала говорить о самогонке. Здесь Светлана уже не могла держаться спокойно, все ее тело начинало извиваться в тревожном ожидании. Бабка собирала деньги со всех родственников и покупала десять или пятнадцать килограммов сахара. Она ставила бражку в алюминиевом сорокалитровом бидоне под окно, ближе к батарее, и заваливала ее старыми шубами. Бабка внимательно следила за тем, сколько бежевой бражки доходит, потому что знала, что Светлана может залезть в бидон, выпить несколько кружек и долить воды.
Когда брага была готова, бабка включала холодную воду и ставила в ванной самодельный перегонный аппарат. Вода из крана охлаждала аппарат, и в банку по капле стекала мутная вонючая самогонка. По всей квартире разносился тяжелый запах браги, и бабка сторожила самогонку. Она каждые полчаса заходила в ванную, чтобы проверить, есть ли холодная вода и сколько накапало в полулитровую банку. Бабка красила самогон кедровой скорлупой и смородиновым листом, a потом раздавала тем, кто сложился на сахар. С помощью воронки она переливала готовую самогонку в трехлитровые банки, а потом разливала по красивым бутылкам от вина. У нее таких было несколько – в виде виноградной грозди и из синего стекла. Маленькие плоские бутылочки от коньяка она использовала как гостевые – чтобы не ходить с пустыми руками.
После того как бабка выставляла угощения, она молча уходила в спальню и все знали зачем – наливать самогонку. На стол бабка выставляла ее в стеклянном графине с золотой каймой и большим набалдашником, приговаривая, что в этот раз самогонка получилась крепкая, поэтому приходится разбавлять. Чтобы продемонстрировать это, она доставала из ящика с приборами стеклянный спиртометр и показывала: посмотрите – тридцать восемь, а ведь треть воды долила.
Все это время напротив Светланы сидела, закинув ногу на ногу, мать. На самом пороге она отдавала цветные полиэтиленовые пакеты с мясом, рыбой и подарками Светлане, просила дать ей тапочки – она знала, что Светлана если и убралась перед праздником, то сделала это спустя рукава. Снимая высокие кожаные сапоги, мать внимательно рассматривала пыль и крошки, забившиеся между линолеумом и плинтусами. Дома она обязательно брезгливо поморщит нос и скажет, что у Светланы с бабушкой вечно бардак. А я сделаю вид, что не заметила беспорядка.
Светлана с детским любопытством заглядывала в пакет с подарками, мать, шикнув на нее, настойчиво говорила, что для подарков свое время. Переобувшись, она забирала пакет и садилась напротив окна. Из пакета мать доставала подарки для Светланы и бабки. Для Светланы подарок всегда был девичий, связанный с красотой, а для бабки – что-то по хозяйству. Мать за месяц до праздника звонила бабке и спрашивала, что им подарить, и они заказывали: тушь для ресниц, капроновые колготки, новые фужеры и кастрюлю. После того как мать получала список желаемого, мы шли на рынок выбирать подарки.
Выставив все на стол, бабка наконец усаживалась на табурет так, чтобы легко было дотянуться рукой до духовки и кастрюли с картофельным пюре.
Женщины молча раскладывали по тарелкам закуски. Первой расходилась красная рыба, золотистые куриные ножки и бедра. Мне доставалась ножка, мать любила бедро, Светлана тоже любила ножки: голубоватый хрящик аппетитно хрустел, и она жевала его с вниманием и удовольствием.
Первую рюмку они пили за повод, по которому собрались. Вторую пили за здоровье. Третью пили за любовь. Ее нужно было пить до дна, так, чтобы не осталось ни капельки, а затем – опрокинуть стопку на салфетку или тарелку и спустя пять минут посмотреть на ободок натекшей самогонки. Если жидкость образовывала на салфетке непрерывный круг, это значило, что обладательницу рюмки ждет любовный успех. Увидев полумесяц из самогонки, женщины разочарованно вздыхали.
За этим столом иногда появлялись мужчины. В их отсутствие они и были первой и неизменной темой разговоров женщин моей семьи. Мужчины появлялись как редкие кометы. Они всегда пролетали мимо по краю неба этого мира и вызывали смутное беспокойство, злость и радость, тревогу и сожаление. Мужчины всегда были недостаточно хорошими. Они пили и применяли насилие, они не работали или слишком мало приносили в дом. Но при этом никто не смел отказать им, озабоченность наличием мужчины была главной болью этих женщин. Им они подчиняли свои жизни и быт, забывая о детях и собственном достоинстве.
После третьей рюмки мать и Светлана шли курить в подъезд или на балкон. Я знала, что, пока они курят, Светлана жалуется матери на бабку. Бабка упрекала ее в том, что та не работает и ленится, а только жрет и смотрит телевизор, даже убраться нормально не может. Мать спокойно выслушивала Светлану и начинала ее по-сестрински поддерживать и поучать. Светлана и правда давно не работала. Причиной этому была ее полная неспособность подстроиться под график, к тому же она совершенно ничего не умела делать. После училища ее взяли на работу в бабкину пекарню, но вставать в четыре утра у Светланы не получалось и она быстро начала пропускать смены. Потом ее устроили в ларек продавать сигареты, пиво и жвачку. Но Светка много пила и, как это говорилось у нас, распутничала, и хозяин точки ее уволил. Мать утешала Светлану и настойчиво просила купить газету с объявлениями о работе. Стопка таких газет лежала на журнальном столике, но все работы не годились Светке – везде был строгий график и маленькая зарплата, а идти техничкой в школу ей не позволяла гордость.
Затем они шепотом секретничали, Светлана рассказывала сплетни двора и о своих гулянках, мать внимательно слушала и поддерживала беседу едкими комментариями. Сидя в кухне я слышала, как они стараются негромко смеяться, но материн звонкий смех прорывался из груди, а Светка шикала на нее, потому что боялась, что их подслушивает соседка.
Все это время мы с бабкой сидели за столом и ели. Бабка скупо посматривала на меня и задавала формальные вопросы о моей школе. Я ее не интересовала, она спрашивала меня, чтобы не молчать. Я на сэкономленные деньги дарила Светке лак для ногтей, а бабке на уроке труда вязала крючком нарядные салфетки и игольницы в виде дамской шляпки. Бабка принимала мое рукоделие с важным видом и тут же находила место в квартире, куда можно было приладить самодельные прихватки или вышитые крестиком картинки.
Когда мать и Светка возвращались, женщины выпивали еще по одной. Я пристально следила, но никогда не могла понять, в какой именно момент это тугое застолье превращалось в перепалку Светланы и бабки. Мать в ней участвовала в качестве третейского судьи. В глазах бабки мать была успешной женщиной. У нее была работа на заводе, дочь училась в школе и был какой-никакой мужчина. Поучая Светку, бабка показывала пальцем на мать, та, польщенная тем, что в сравнении с сестрой она лучше, вставала на сторону бабки. Когда же Светлана отвечала бабке, она обращалась за поддержкой к сестре, и мать, размягченная ее уязвимостью, сдавалась и вставала на сторону Светланы.
Мне не нравились эти праздники. В них для меня не было места. Моим делом было помочь матери донести пакеты, подарить свои поделки, поесть и пойти в комнату смотреть телевизор. Я сидела в бабкином кресле, щелкала пультом и размышляла о семье. Я сделала вывод, что в моей семье все существуют для какой-то пользы. В Светке, как бы ни казалось обратное, тоже было много пользы. Она выполняла роль плохой дочери и нерадивой сестры. Для меня, в силу того что я была ребенком, пока не было никакой задачи, кроме одной: быть немой зрительницей отношений этих женщин. Я была зеркалом этой семьи. Моим делом было отражать их злость, радость и разочарования. Не попадаться под руку и, когда в этом будет необходимость, всегда быть под рукой. Мне этот мир казался прочной зеркальной клеткой. Все, что в ней происходило – происходило в рамках закрытой системы. Эта система, если и впускала в себя кого-то инородного, тут же выплевывала его, потому что встроить или переварить не могла. Все роли в ней были заранее определены и тесно встраивались в рутину. Здесь не было воздуха, все пространство было занято тревогой и делами.
Про себя я называла эти застолья курятником и представляла себе, что бабка в своем пестром халате – старшая крупная несушка. Ее обесцвеченные короткие волосы всегда были прибраны и завиты, как будто на голове у нее был светлый гребешок, повалившийся на бок. Мать была красивой, сильной, черной курицей с аккуратными перьями и темным гребешком. Светка – курочкой недоростком, такие всегда встречались мне в курятниках, они были слабыми и злыми, казалось, что внутри шеи и груди что-то невидимое спирает все их органы. Эти существа вызывали одновременно тревогу, жалость и отвращение. Хотелось понять, как они устроены, и одновременно хотелось отвернуться и никогда о них не помнить.
Я ненавидела этих женщин, моя ненависть была тихой, но разрешенной. Потому что они ненавидели друг друга. Ненависть была одним из немногих легальных чувств, которые можно было испытывать к женщинам. Ненавидеть их можно было за все, чем бы они ни обладали: красоту, тело, склочность или бесцветность.
Сидя на бабкином кресле, я надевала ее очки и сквозь них пыталась прочесть программу передач в серой газете. Буквы и цифры расплывались, а газета пахла сухим отработанным деревом. Я много раз до этого гладила ладонью тонкую велюровую накидку на кресле, но каждый раз снова и снова проводя по ней рукой, испытывала надежду обнаружить здесь что-то новое. Я вставала и шла рассматривать хрусталь в серванте и фигурки керамических оленят. Там, за стеклом, все было покрыто пылью. Мне было неясно, зачем бабка хранит все это, если никто не пользуется фарфоровой супницей из ГДР и рогом для вина с мельхиоровой цепочкой. Там же бабка хранила самогон в маленьких и больших бутылках. Мне было скучно, праздник все никак не мог кончиться. Из кухни доносился голос матери. Она рассказывала что-то веселое и хохотала, я, стоя в другой комнате, представляла, как бабка и Светка в пьяном упоении слушают.
К вечеру Светка чаще ходила курить и бабка с матерью оставались вдвоем. Когда Светка уходила, бабка начинала возмущенно жаловаться на нее. Голос матери становился демонстративно трезвым, и она начинала давать бабке рациональную оценку ситуации. Она напоминала бабке, что в городе нет никакой работы. Ей хотелось защитить Светлану, и одновременно с этим она чувствовала свое превосходство. Она становилась мудрой женщиной и утешала бабку.
Когда бабка говорила, что больше не наливает, Светлана разочарованно куксилась и выпрашивала еще одну, последнюю рюмку, и бабка, сжалившись, наливала всем трем по последней, и после нее мать начинала собираться. Она помогала убрать со стола и вставала мыть посуду, пока бабка перекладывала недоеденные огурцы в тарелку с селедкой и, накрыв еду блюдцем, убирала ее в холодильник. Светка говорила, что пойдет нас провожать, и спешно уходила в комнату, где из шифоньера доставала теплые колготки и шерстяную юбку, красила губы темной помадой. Одевшись, она садилась на свою софу и ждала, пока старшие женщины закончат с уборкой.
Мать с бабкой о чем-то шептались на кухне и, прибравшись, шли в комнату бабки. Там они доставали замусоленные карты с красными рубашками и делали незамысловатый расклад. Услышав, что бабка с матерью гадают, мы со Светкой шли к ним. Бабка внимательно смотрела на карты и пальцем водила по лицам карт. Червонная дама – это ты, тут у тебя казенный дом. Мать кивала, завтра ей нужно было идти на работу. И крестовый король еще ходит, но он не твой, а так. Твой червонный король тоже при тебе. Вот еще дорога, мать кивала, через неделю ей нужно было ехать в Братск на переквалификацию. Все, что нагадывала ей бабка, она знала и сама. Карты не предлагали новостей, они лишь подтверждали известные обстоятельства. Теперь ты мне, говорила бабка и, собрав колоду, садилась на нее своим большим задом. Немного посидев на картах, передавала их матери, и мать с важным видом подносила карты бабке, чтобы та сдвинула колоду. И делала аналогичный расклад. Ты, говорила она, дама бубновая, потому что разведена. Тут у тебя бубновый и крестовый короли. Я смотрю, мама, вокруг тебя одни мужчины. Бабка смущенно отмахивалась от матери и с любопытством следила за ее руками. Вот тут деньги, говорила мать и указывала на комбинацию десяток бубен и крестей. Какие-то случайные и большие. Бабка вздыхала, случайных денег взять было неоткуда, поэтому она не верила раскладу.
Мы со Светкой наблюдали за их тихим разговором и внимательно слушали. У нас дома тоже была колода гадальных карт, мать запрещала мне играть в них, но иногда я брала их и, повторяя за матерью, делала себе расклад. Я была бубновой дамой, мать говорила, что червонная – это замужняя женщина, крестовая – сослуживица, а дама пик – соперница. Бубновая дама означала незамужнюю адресатку гадания.
Потом мать с бабкой садились пить чай, Света торопливо говорила мне одеваться, и я, повиновавшись, надевала шапку, шубу и валенки. В это время на кухне закипал электрический самовар и бабка разливала крепкую заварку из керамического чайника по граненым стаканам. Мы знали, что бабка пьет чай очень горячим и быстро, а мать ждала, пока чай немного подостынет. Обычно на чаепитие у матери уходило минут пятнадцать. Она остужала чай в своем стакане, быстро выпивала его и одевалась, чтобы выйти на остановку. Бабка же еще раз кипятила воду и наливала второй стакан. Проводив мать, она садилась на свое кресло в Светкиной комнате, надевала очки и, с удовольствием кряхтя, смотрела вечерние телевизионные передачи.
Вместе со Светкой мы выходили на улицу ждать мать. Мы ходили вокруг дома, и свежий снег, напа?давший на очищенный тротуар, хрустел под моими валенками. Светкины пьяные глаза светились, она любила приключения. Ее возбуждала мысль, что, прогуливаясь вокруг дома, она встретит кого-то из знакомых и пойдет с ними гулять дальше.
Когда мать выходила из подъезда, она передавала мне пакет с бабкиными угощениями, и мы все втроем шли на остановку. Мать говорила Светлане, что нет смысла нас провожать, но Светлане хотелось еще немного побыть среди людей. Мы шли по темным дорожкам между сугробов, я чувствовала, как от женщин пахнет легким самогонным перегаром, помадой и жирной едой. От Светкиного зимнего пальто пахло табаком, а мать оставляла за собой шлейф сладковатых духов. Мы шли втроем в облаке их густого запаха, он смешивался с запахом крепкого мороза. Изо ртов, накрашенных темной помадой, вырывались облачка светлого пара, мать хохотала над какой-то глупостью, сказанной Светкой. Когда их разговор уходил во взрослые темы, они просили меня идти вперед по тропе, а сами понижали голос и говорили о мужчинах и сплетничали о материных подругах, которые, по материному мнению, часто вели себя неприлично. Я слышала их разговор. Когда они говорили на свои темы, я вся превращалась в слух и мне было интересно следить за линией материного рассказа и Светкиными комментариями. Наверное, думала я, они понимают, что я слышу их, и их просьба поторопиться была скорее мерой приличия. Таким образом они проводили черту между моим миром маленькой девочки и миром их взрослой женской жизни. Я была обречена попасть в их мир и однажды оказаться на темной тропе с накрашенными губами и в шапке формовке, аккуратно надетой так, чтобы не нарушить целостности покрытой лаком объемной челки.
Меня пугал этот мир, и одновременно я чувствовала, как любопытство жжет меня изнутри. Мне хотелось узнать все, о чем говорят и чем живут взрослые женщины, но при этом я не хотела оказаться на их месте. Я испытывала легкое отвращение к семейным застольям и ритуалам женского быта. Мне этот мир казался тесным и одновременно пустым. Какой смысл, думала я, в этих цикличных приготовлениях пищи и постоянной уборке, если все это не приводит ни к чему, кроме саднящего разочарования? С другой стороны, думала я, что, если разочарование – это только мое чувство? Что, если его испытываю только я? И если же его испытывают все женщины моей семьи, почему они из раза в раз повторяют одно и то же? Говорят одни и те же слова, готовят одну и ту же еду, пользуются одной и той же посудой? Мне казалось, что мир – это то, что бесконечно обновляется, и я ждала этого обновления каждый раз, приезжая к бабке. Но обновления не наступало. Появлялась лишь тупая тоска по несвершившемуся счастью.
На остановке мать и Светка закуривали и продолжали свой хмельной разговор. Не желая прерывать беседу, они пропускали автобусы, пока мать не начинала жаловаться, что ее ноги замерзли и после бабкиного чая ей хочется в туалет. Я сидела на скамейке и рассматривала их, стоящих на тротуаре. В оранжевом свете фонаря колкий снег переливался и быстро покрывал их норковые шапки. Мать и Светлана напоминали мне снегурочек. Я наблюдала за их темными губами, губы двигались и обнажали ровные зубы, в уголке рта матери поблескивала золотая коронка. Иногда мать спрашивала меня, не замерзла ли я. Я мерзла, но мне не хотелось прерывать их разговора, поэтому я отрицательно качала головой и сжимала остывшие пальцы в кулак, потому что влажные варежки, которыми я по пути на остановку собирала свежий снег с перил, совсем не грели.