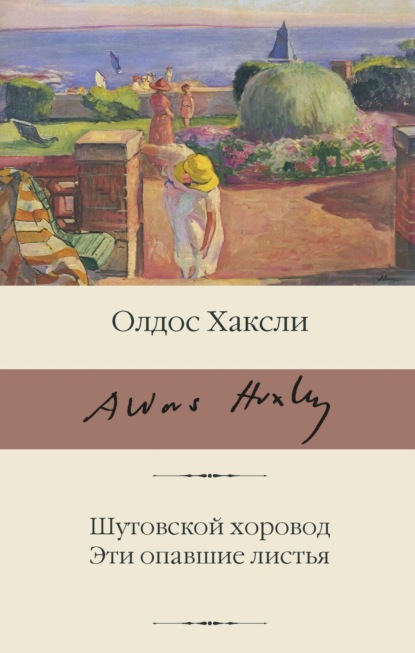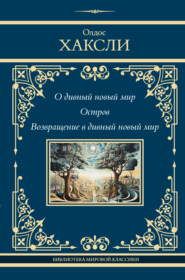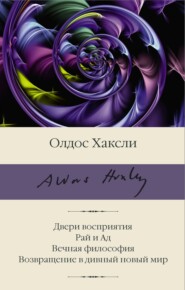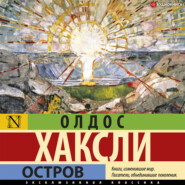По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шутовской хоровод. Эти опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Наш друг Шируотер, – сказал Гамбрил, – физиолог.
Колмэн поклонился.
– Физиологический Шируотер, – сказал он, – преклоняюсь перед тобой! Перед тем, кто не знает, что такое бобер, я отрекаюсь от всяких прав на превосходство. Во всех газетах только и пишут, что о бобрах. Скажите, вы никогда не читаете «Дейли экспресс»?
– Нет.
– «Дейли мейл»?
Шируотер покачал головой.
– «Миррор»? «Скетч»? «Грэфик»? И даже – я совсем забыл, что физиолог должен быть по убеждениям либерал, – даже «Дейли ньюс»?
Шируотер продолжал качать своей большой шарообразной головой.
– И вечерние газеты?
– Нет.
Колмэн снова обнажил голову.
– О всемогущая и праведная Смерть! – воскликнул он, надевая котелок. – Вы никогда не читаете никаких газет – и даже восхитительных статеек нашего друга Меркаптана в еженедельниках? Кстати, как поживают нынче ваши прочие статьи? – И Колмэн концом своей массивной трости легонько ткнул мистера Меркаптана в живот. – ?а marche – les tripes?[36 - Кишки в порядке? (фр.)] A? – Он снова повернулся к Шируотеру: – Даже их не читаете?
– Никогда, – сказал Шируотер. – Я занят более серьезными вещами.
– Какими серьезными вещами, разрешите узнать?
– Ну, в данный момент, – сказал Шируотер, – преимущественно почками.
– Почки! – Колмэн в экстазе забарабанил по полу железным наконечником палки. – Почки! Расскажите мне все о почках. Это страшно важно. Это подлинная жизнь. И я сяду за ваш столик, не спрашивая позволения у нашего Буонарроти, и наплюю на Меркаптана, а что касается этого вот гамбрилоида, так на него я вообще не стану обращать внимания. Я сяду и…
– Кстати, о сидении, – сказал Гамбрил. – Мне хотелось бы уговорить вас заказать себе пару моих патентованных пневматических брюк. Они…
Колмэн только отмахнулся.
– Не сейчас, не сейчас, – сказал он. – Я сяду и буду слушать, как физиологус говорит о почках, а сам тем временем буду поедать их – sautеs[37 - Жаренные в масле (фр.).]. Sautеs, обратите внимание.
Он положил шляпу и палку на пол подле себя и подсел на уголок, между Липиатом и Шируотером.
– Двое верующих, – сказал он, на минуту кладя руку на плечо Липиата, – и трое жестокосердных неверных – лицом к лицу. Так, Буонарроти? Мы с вами оба croyants et pratiquants[38 - Верующие и выполняющие обряды (фр.).], как сказал бы Меркаптан. Я верую в единого дьявола, отца недержателя мочи и кала, в Самаэля и в супругу его, всепорочную девку. Ха-ха! – Он рассмеялся своим жестоким искусственным смехом.
– Попробуйте вести тут цивилизованные разговоры, – пожаловался мистер Меркаптан, с присвистом произнося ц, любовно задерживаясь на в и растягивая первые два и в слове «цивилизованные». В его устах это слово, казалось, приобретало какую-то новую значимость.
Колмэн не обратил на него ни малейшего внимания.
– Расскажите мне, физиологус, – продолжал он, – расскажите мне о физиологии Архетипа[39 - Образцовый первозданный человек, не знавший грехов и болезней.]. Это страшно важно; Буонарроти, я знаю, разделяет мое мнение. Есть ли у него boyau rectum[40 - Прямая кишка (фр.).], как сказал бы тот же самый Меркаптан, или нет? Вольтер понял, много лет назад, что от этого зависит все. О его ногах мы знаем из высокоавторитетных источников, что они были «прямые; а подошвы его ног были, как копыта теленка». Но внутренности… вы должны рассказать нам о его внутренностях. Ведь правда, Буонарроти? А где мои rognons sautеs?[41 - Жареные почки (фр.).] – крикнул он официанту.
– У меня желчь разливается, когда я вас слушаю, – сказал Липиат.
– Надеюсь, это не смертельно? – Колмэн заботливо посмотрел на своего соседа; потом покачал головой. – Тяжелый случай; кажется, смертельно. Поцелуй меня, Стиви, и я умру счастливой. – Он изобразил воздушный поцелуй. – А чего копается физиологус? Ну, толстокожее, – раз, два, три! Отвечайте. В ваших руках ключ от всего на свете. Ключ, понятно вам это? Помнится, когда я околачивался еще в школе и торчал там в биологической лаборатории, вскрывая лягушек, – мы распинали их булавками пузом вверх, как зелененьких христосиков, – так вот, когда я сидел как-то там, размышляя над лягушечьими кишками, вошел лабораторный служитель и обратился к нашему биологу: «Пожалуйста, сэр, не дадите ли вы мне ключ от Абсолюта». И вы только подумайте – биолог спокойно сунул руку в карман штанов, извлек оттуда маленький французский ключ и, не говоря ни слова, передал его мальчишке. Что за жест! Ключ от Абсолюта. Надо сказать, впрочем, что нашему мальцу нужен был всего только абсолютный спирт – вероятно, чтобы замариновать какой-нибудь мерзкий выкидыш. Упокой, Господи, душу его. А теперь, Castor Fiber, давайте-ка нам ваш ключ. Расскажите нам об Архетипе, расскажите нам о первозданном Адаме, расскажите нам все о прямой кишке.
Шируотер медлительно переместил на стуле свое неуклюжее тело; откинувшись на спинку, он принялся изучать Колмэна со спокойным, добродушным любопытством; глаза под дикарскими бровями смотрели мягко и нежно; обезоруживающая улыбка, похожая на улыбку младенца, увидевшего соску, проступала под наводящей ужас маской усов. Широкий выпуклый лоб был невозмутимо спокоен. Он провел рукой по густым каштановым волосам, задумчиво почесал затылок и, всесторонне изучив, поняв и занеся в соответствующую рубрику это странное явление, именуемое Колмэном, раскрыл рот и благодушно рассмеялся.
– В свое время, – сказал он наконец своим тягучим низким голосом, – вопрос Вольтера казался образчиком непревзойденной иронии. Если бы он спросил, есть ли у Бога почки, этот вопрос показался бы его современникам столь же ироническим. Теперь мы знаем о почках немного больше. Если бы он спросил меня, я бы ответил: а почему бы нет? Почки организованы так совершенно, они выполняют свои регулирующие функции с такой чудодейственной или даже – трудно подобрать более подходящее слово – с такой божественной точностью, с таким знанием и мудростью, что вашему Архетипу, или как его там, не должно было бы быть стыдно обладать парой почек.
Колмэн захлопал в ладоши.
– Ключ, – вскричал он, – ключ! Он в брючных карманах младенцев и грудных детей. Единственный подлинный французский ключ! Как хорошо я сделал, что пришел сюда сегодня! Но, клянусь сефирами, вот и моя фея.
Он поднял палку, вскочил со стула и стал пробираться между столиками. У двери стояла женщина. Колмэн подошел к ней, молча показал палкой на столик и вернулся, подталкивая ее впереди себя, слегка похлопывая палкой по ее крупу, точно он вел на бойню послушное животное.
– Разрешите представить вам, – сказал Колмэн, – ту, что делит со мной радость и горе. La compagne de mes nuits blanches et de mes jours plut?t sales. Одним словом, Зоэ. Qui ne comprend pas le fran?ais, qui me dеteste avec une passion еgale ? la mienne, et qui mangera, ma foi, des rognons pour faire honneur au physiologue[42 - Подруга моих бессонных ночей и моих довольно-таки грязных дней, которая не понимает по-французски, которая ненавидит меня со страстью, равной моей, и которая будет есть почки, чтобы оказать честь физиологу (фр.).].
– He угодно ли бургундского? – И Гамбрил взялся за бутылку.
Зоэ кивнула и пододвинула стакан. У нее были темные волосы, бледное лицо и глаза, как ягоды черной смородины. Рот у нее был маленький, пухлый и красиво изогнутый. Одета она была довольно безвкусно, точно картина Августа Джона: в голубое с оранжевым. Выражение лица у нее было мрачное и злобное, и она смотрела на всех с видом глубочайшего презрения.
– Шируотер на самом деле мистик, – флейтой пропел мистер Меркаптан. – Мистик-ученый; сочетание, надо сказать, несколько неожиданное.
– Вроде либерального римского папы, – сказал Гамбрил. – Бедный Меттерних, помните? Пио-Ноно. – И он разразился смехом, понятным только ему самому. – Нижесредние умственные способности, – в восторге пробормотал он, наливая себе еще вина.
– Только люди, намеренно ослепившие себя, могут считать такое сочетание неожиданным, – негодующе вмешался Липиат. – Что такое наука и искусство, что такое религия и философия, как не способы выразить в образах и понятиях, доступных для человека, какую-то сверхчеловеческую реальность? Ньютон, и Бёме, и Микеланджело – все они выражали различными способами различные стороны одного и того же.
– Альберти, прошу вас, – сказал Гамбрил. – Уверяю вас, он был гораздо лучшим архитектором.
– Fi donc! – сказал мистер Меркаптан. – San Carlo alle Quatro Fontane[43 - Святой Карл с четырьмя фонтанами (ит.).]… – Но ему не удалось закончить. Липиат уничтожил его одним жестом.
– Единственная реальность, – прокричал он, – существует только одна реальность.
– Одна реальность, – Колмэн протянул руку через стол и погладил голую белую руку Зоэ, – и она прекраснозадая. – Зоэ ткнула его вилкой в руку.
– Все мы пытаемся говорить о ней, – продолжал Липиат. – Физики формулируют законы – жалкие рабочие гипотезы, объясняющие лишь какую-то ее часть. Физиологи проникают в тайны жизни, психологи – в тайны сознания. А мы, художники, пытаемся выразить то, что открывается нам, когда мы смотрим на моральную природу, на индивидуальное начало этой реальности, имя которой – Вселенная.
Мистер Меркаптан с деланым ужасом поднял руки.
– О, barbaridad, barbaridad![44 - О, варварство, варварство! (исп.)] – только чистое кастильское наречие могло выразить его чувства. – Но это совершенная бессмыслица!
– В отношении химиков и физиков вы совершенно правы, – сказал Шируотер. – Они вечно кричат, что подошли к истине ближе нас. Свои абстрактные гипотезы они выдают за факты и навязывают их нам, тогда как мы имеем дело с жизнью. О, их теории, конечно, священны. Они величают их законами природы и противопоставляют свои непреложные истины нашим биологическим фантазиям. Какой шум они подымают, когда мы говорим о жизни! Проклятые идиоты! – кратко выругался Шируотер. – Только идиот способен говорить о механизме перед лицом почек. А ведь есть и такие болваны, которые говорят о механизме наследственности и размножения.
– Однако же, – очень серьезно начал мистер Меркаптан, горя желанием отрицать свое собственное существование, – есть почитаемые всеми авторитеты. Конечно, я могу лишь цитировать их слова. Я не претендую на какие-нибудь знания в этой области. Но…
– Размножение, размножение, – в экстазе бормотал Колмэн. – Какой это восторг и какой ужас – как подумаешь, что все они приходят к этому, даже самые неприступные девственницы; что все эти суки созданы для этого, несмотря на их фарфорово-голубые глазки. Интересно, какую мартышку произведем на свет мы с Зоэ? – спросил он, обращаясь к Шируотеру. – Как мне хотелось бы иметь ребенка, – продолжал он, не дожидаясь ответа. – Я ничему не стал бы его учить: даже родному языку. Будет дитя природы. Выйдет из него, вероятно, чертенок. А как смешно будет, если вдруг он скажет «бекос»[45 - Геродот рассказывает («История», II, 2), что египетский царь Псамметих, желая узнать, какой язык самый древний, отдал двух грудных детей на воспитание к немому пастуху. Первое слово, произнесенное детьми, было «бекос», что по-фригийски означает «хлеб»; из этого Псамметих заключил, что самый древний язык – фригийский.], как дети у Геродота. Наш Буонарроти изобразит его на аллегорической картине и напишет эпическую поэму под названием «Неблагородный дикарь». A Castor Fiber изучит его почки и сексуальные инстинкты. А Меркаптан напишет о нем одну из своих неподражаемых статеек. А Гамбрил сошьет ему пару патентованных брюк. А мы с Зоэ будем смотреть родительским взглядом и лопаться от гордости. Правда, Зоэ? – Лицо Зоэ неизменно сохраняло мрачное и презрительное выражение: она не снизошла до того, чтобы отвечать. – Ах, как это будет чудесно! Я томлюсь о потомстве. Я живу только этой надеждой. Я пробьюсь сквозь все предохранительные преграды. Я…
Зоэ швырнула кусок хлеба, угодивший ему в щеку, немного пониже глаза. Колмэн откинулся на спинку стула и хохотал до тех пор, пока у него из глаз не покатились слезы.
Глава 5
Один за другим они вступали в вертящуюся дверь ресторана и, потоптавшись в движущейся стеклянной клетке, выходили в прохладу и мрак улицы. Шируотер поднял свое широкое лицо и два-три раза глубоко вздохнул.
Колмэн поклонился.
– Физиологический Шируотер, – сказал он, – преклоняюсь перед тобой! Перед тем, кто не знает, что такое бобер, я отрекаюсь от всяких прав на превосходство. Во всех газетах только и пишут, что о бобрах. Скажите, вы никогда не читаете «Дейли экспресс»?
– Нет.
– «Дейли мейл»?
Шируотер покачал головой.
– «Миррор»? «Скетч»? «Грэфик»? И даже – я совсем забыл, что физиолог должен быть по убеждениям либерал, – даже «Дейли ньюс»?
Шируотер продолжал качать своей большой шарообразной головой.
– И вечерние газеты?
– Нет.
Колмэн снова обнажил голову.
– О всемогущая и праведная Смерть! – воскликнул он, надевая котелок. – Вы никогда не читаете никаких газет – и даже восхитительных статеек нашего друга Меркаптана в еженедельниках? Кстати, как поживают нынче ваши прочие статьи? – И Колмэн концом своей массивной трости легонько ткнул мистера Меркаптана в живот. – ?а marche – les tripes?[36 - Кишки в порядке? (фр.)] A? – Он снова повернулся к Шируотеру: – Даже их не читаете?
– Никогда, – сказал Шируотер. – Я занят более серьезными вещами.
– Какими серьезными вещами, разрешите узнать?
– Ну, в данный момент, – сказал Шируотер, – преимущественно почками.
– Почки! – Колмэн в экстазе забарабанил по полу железным наконечником палки. – Почки! Расскажите мне все о почках. Это страшно важно. Это подлинная жизнь. И я сяду за ваш столик, не спрашивая позволения у нашего Буонарроти, и наплюю на Меркаптана, а что касается этого вот гамбрилоида, так на него я вообще не стану обращать внимания. Я сяду и…
– Кстати, о сидении, – сказал Гамбрил. – Мне хотелось бы уговорить вас заказать себе пару моих патентованных пневматических брюк. Они…
Колмэн только отмахнулся.
– Не сейчас, не сейчас, – сказал он. – Я сяду и буду слушать, как физиологус говорит о почках, а сам тем временем буду поедать их – sautеs[37 - Жаренные в масле (фр.).]. Sautеs, обратите внимание.
Он положил шляпу и палку на пол подле себя и подсел на уголок, между Липиатом и Шируотером.
– Двое верующих, – сказал он, на минуту кладя руку на плечо Липиата, – и трое жестокосердных неверных – лицом к лицу. Так, Буонарроти? Мы с вами оба croyants et pratiquants[38 - Верующие и выполняющие обряды (фр.).], как сказал бы Меркаптан. Я верую в единого дьявола, отца недержателя мочи и кала, в Самаэля и в супругу его, всепорочную девку. Ха-ха! – Он рассмеялся своим жестоким искусственным смехом.
– Попробуйте вести тут цивилизованные разговоры, – пожаловался мистер Меркаптан, с присвистом произнося ц, любовно задерживаясь на в и растягивая первые два и в слове «цивилизованные». В его устах это слово, казалось, приобретало какую-то новую значимость.
Колмэн не обратил на него ни малейшего внимания.
– Расскажите мне, физиологус, – продолжал он, – расскажите мне о физиологии Архетипа[39 - Образцовый первозданный человек, не знавший грехов и болезней.]. Это страшно важно; Буонарроти, я знаю, разделяет мое мнение. Есть ли у него boyau rectum[40 - Прямая кишка (фр.).], как сказал бы тот же самый Меркаптан, или нет? Вольтер понял, много лет назад, что от этого зависит все. О его ногах мы знаем из высокоавторитетных источников, что они были «прямые; а подошвы его ног были, как копыта теленка». Но внутренности… вы должны рассказать нам о его внутренностях. Ведь правда, Буонарроти? А где мои rognons sautеs?[41 - Жареные почки (фр.).] – крикнул он официанту.
– У меня желчь разливается, когда я вас слушаю, – сказал Липиат.
– Надеюсь, это не смертельно? – Колмэн заботливо посмотрел на своего соседа; потом покачал головой. – Тяжелый случай; кажется, смертельно. Поцелуй меня, Стиви, и я умру счастливой. – Он изобразил воздушный поцелуй. – А чего копается физиологус? Ну, толстокожее, – раз, два, три! Отвечайте. В ваших руках ключ от всего на свете. Ключ, понятно вам это? Помнится, когда я околачивался еще в школе и торчал там в биологической лаборатории, вскрывая лягушек, – мы распинали их булавками пузом вверх, как зелененьких христосиков, – так вот, когда я сидел как-то там, размышляя над лягушечьими кишками, вошел лабораторный служитель и обратился к нашему биологу: «Пожалуйста, сэр, не дадите ли вы мне ключ от Абсолюта». И вы только подумайте – биолог спокойно сунул руку в карман штанов, извлек оттуда маленький французский ключ и, не говоря ни слова, передал его мальчишке. Что за жест! Ключ от Абсолюта. Надо сказать, впрочем, что нашему мальцу нужен был всего только абсолютный спирт – вероятно, чтобы замариновать какой-нибудь мерзкий выкидыш. Упокой, Господи, душу его. А теперь, Castor Fiber, давайте-ка нам ваш ключ. Расскажите нам об Архетипе, расскажите нам о первозданном Адаме, расскажите нам все о прямой кишке.
Шируотер медлительно переместил на стуле свое неуклюжее тело; откинувшись на спинку, он принялся изучать Колмэна со спокойным, добродушным любопытством; глаза под дикарскими бровями смотрели мягко и нежно; обезоруживающая улыбка, похожая на улыбку младенца, увидевшего соску, проступала под наводящей ужас маской усов. Широкий выпуклый лоб был невозмутимо спокоен. Он провел рукой по густым каштановым волосам, задумчиво почесал затылок и, всесторонне изучив, поняв и занеся в соответствующую рубрику это странное явление, именуемое Колмэном, раскрыл рот и благодушно рассмеялся.
– В свое время, – сказал он наконец своим тягучим низким голосом, – вопрос Вольтера казался образчиком непревзойденной иронии. Если бы он спросил, есть ли у Бога почки, этот вопрос показался бы его современникам столь же ироническим. Теперь мы знаем о почках немного больше. Если бы он спросил меня, я бы ответил: а почему бы нет? Почки организованы так совершенно, они выполняют свои регулирующие функции с такой чудодейственной или даже – трудно подобрать более подходящее слово – с такой божественной точностью, с таким знанием и мудростью, что вашему Архетипу, или как его там, не должно было бы быть стыдно обладать парой почек.
Колмэн захлопал в ладоши.
– Ключ, – вскричал он, – ключ! Он в брючных карманах младенцев и грудных детей. Единственный подлинный французский ключ! Как хорошо я сделал, что пришел сюда сегодня! Но, клянусь сефирами, вот и моя фея.
Он поднял палку, вскочил со стула и стал пробираться между столиками. У двери стояла женщина. Колмэн подошел к ней, молча показал палкой на столик и вернулся, подталкивая ее впереди себя, слегка похлопывая палкой по ее крупу, точно он вел на бойню послушное животное.
– Разрешите представить вам, – сказал Колмэн, – ту, что делит со мной радость и горе. La compagne de mes nuits blanches et de mes jours plut?t sales. Одним словом, Зоэ. Qui ne comprend pas le fran?ais, qui me dеteste avec une passion еgale ? la mienne, et qui mangera, ma foi, des rognons pour faire honneur au physiologue[42 - Подруга моих бессонных ночей и моих довольно-таки грязных дней, которая не понимает по-французски, которая ненавидит меня со страстью, равной моей, и которая будет есть почки, чтобы оказать честь физиологу (фр.).].
– He угодно ли бургундского? – И Гамбрил взялся за бутылку.
Зоэ кивнула и пододвинула стакан. У нее были темные волосы, бледное лицо и глаза, как ягоды черной смородины. Рот у нее был маленький, пухлый и красиво изогнутый. Одета она была довольно безвкусно, точно картина Августа Джона: в голубое с оранжевым. Выражение лица у нее было мрачное и злобное, и она смотрела на всех с видом глубочайшего презрения.
– Шируотер на самом деле мистик, – флейтой пропел мистер Меркаптан. – Мистик-ученый; сочетание, надо сказать, несколько неожиданное.
– Вроде либерального римского папы, – сказал Гамбрил. – Бедный Меттерних, помните? Пио-Ноно. – И он разразился смехом, понятным только ему самому. – Нижесредние умственные способности, – в восторге пробормотал он, наливая себе еще вина.
– Только люди, намеренно ослепившие себя, могут считать такое сочетание неожиданным, – негодующе вмешался Липиат. – Что такое наука и искусство, что такое религия и философия, как не способы выразить в образах и понятиях, доступных для человека, какую-то сверхчеловеческую реальность? Ньютон, и Бёме, и Микеланджело – все они выражали различными способами различные стороны одного и того же.
– Альберти, прошу вас, – сказал Гамбрил. – Уверяю вас, он был гораздо лучшим архитектором.
– Fi donc! – сказал мистер Меркаптан. – San Carlo alle Quatro Fontane[43 - Святой Карл с четырьмя фонтанами (ит.).]… – Но ему не удалось закончить. Липиат уничтожил его одним жестом.
– Единственная реальность, – прокричал он, – существует только одна реальность.
– Одна реальность, – Колмэн протянул руку через стол и погладил голую белую руку Зоэ, – и она прекраснозадая. – Зоэ ткнула его вилкой в руку.
– Все мы пытаемся говорить о ней, – продолжал Липиат. – Физики формулируют законы – жалкие рабочие гипотезы, объясняющие лишь какую-то ее часть. Физиологи проникают в тайны жизни, психологи – в тайны сознания. А мы, художники, пытаемся выразить то, что открывается нам, когда мы смотрим на моральную природу, на индивидуальное начало этой реальности, имя которой – Вселенная.
Мистер Меркаптан с деланым ужасом поднял руки.
– О, barbaridad, barbaridad![44 - О, варварство, варварство! (исп.)] – только чистое кастильское наречие могло выразить его чувства. – Но это совершенная бессмыслица!
– В отношении химиков и физиков вы совершенно правы, – сказал Шируотер. – Они вечно кричат, что подошли к истине ближе нас. Свои абстрактные гипотезы они выдают за факты и навязывают их нам, тогда как мы имеем дело с жизнью. О, их теории, конечно, священны. Они величают их законами природы и противопоставляют свои непреложные истины нашим биологическим фантазиям. Какой шум они подымают, когда мы говорим о жизни! Проклятые идиоты! – кратко выругался Шируотер. – Только идиот способен говорить о механизме перед лицом почек. А ведь есть и такие болваны, которые говорят о механизме наследственности и размножения.
– Однако же, – очень серьезно начал мистер Меркаптан, горя желанием отрицать свое собственное существование, – есть почитаемые всеми авторитеты. Конечно, я могу лишь цитировать их слова. Я не претендую на какие-нибудь знания в этой области. Но…
– Размножение, размножение, – в экстазе бормотал Колмэн. – Какой это восторг и какой ужас – как подумаешь, что все они приходят к этому, даже самые неприступные девственницы; что все эти суки созданы для этого, несмотря на их фарфорово-голубые глазки. Интересно, какую мартышку произведем на свет мы с Зоэ? – спросил он, обращаясь к Шируотеру. – Как мне хотелось бы иметь ребенка, – продолжал он, не дожидаясь ответа. – Я ничему не стал бы его учить: даже родному языку. Будет дитя природы. Выйдет из него, вероятно, чертенок. А как смешно будет, если вдруг он скажет «бекос»[45 - Геродот рассказывает («История», II, 2), что египетский царь Псамметих, желая узнать, какой язык самый древний, отдал двух грудных детей на воспитание к немому пастуху. Первое слово, произнесенное детьми, было «бекос», что по-фригийски означает «хлеб»; из этого Псамметих заключил, что самый древний язык – фригийский.], как дети у Геродота. Наш Буонарроти изобразит его на аллегорической картине и напишет эпическую поэму под названием «Неблагородный дикарь». A Castor Fiber изучит его почки и сексуальные инстинкты. А Меркаптан напишет о нем одну из своих неподражаемых статеек. А Гамбрил сошьет ему пару патентованных брюк. А мы с Зоэ будем смотреть родительским взглядом и лопаться от гордости. Правда, Зоэ? – Лицо Зоэ неизменно сохраняло мрачное и презрительное выражение: она не снизошла до того, чтобы отвечать. – Ах, как это будет чудесно! Я томлюсь о потомстве. Я живу только этой надеждой. Я пробьюсь сквозь все предохранительные преграды. Я…
Зоэ швырнула кусок хлеба, угодивший ему в щеку, немного пониже глаза. Колмэн откинулся на спинку стула и хохотал до тех пор, пока у него из глаз не покатились слезы.
Глава 5
Один за другим они вступали в вертящуюся дверь ресторана и, потоптавшись в движущейся стеклянной клетке, выходили в прохладу и мрак улицы. Шируотер поднял свое широкое лицо и два-три раза глубоко вздохнул.