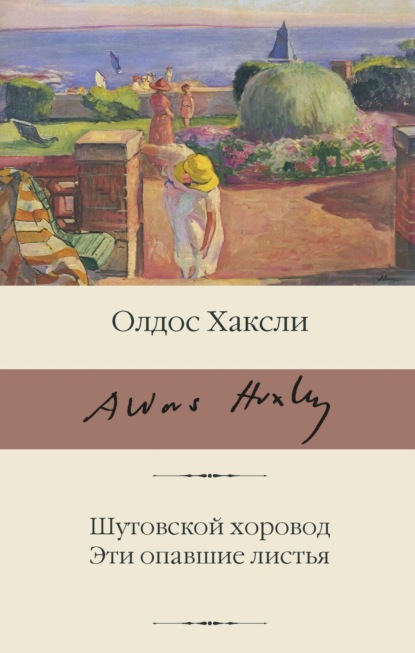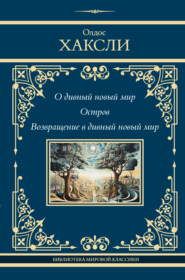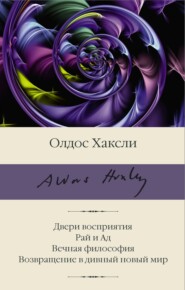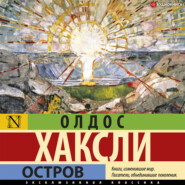По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шутовской хоровод. Эти опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Любовь! – отозвался Липиат. Он смотрел на Млечный Путь.
– Вдруг на меня налетает фараон. «Сколько лет твоей лошади? – говорит он. – Она не может возить тяжести, она припадает на все четыре ноги», – говорит. «Неправда», – говорю я. «Не сметь мне возражать, – говорит он. – Распрягите ее сию же минуту».
– Но я уже знаю все о любви. Тогда как о почках я знаю невероятно мало.
– Но, дорогой Шируотер, как можете вы знать все о любви, если вы не занимались ею со всеми женщинами на свете?
– Ну, мы и пошли, я и фараон и лошадь, прямехонько в полицейский участок…
– Или вы принадлежите к числу тех кретинов, – продолжала миссис Вивиш, – которые говорят о женщине с большого Ж и утверждают, будто мы все одинаковы? Бедный Теодор, вероятно, думает так в минуты слабости. – Гамбрил неопределенно улыбнулся откуда-то издали. Он входил вслед за человеком с чашкой чая в душный полицейский участок. – И конечно, Меркаптан, потому что все женщины, сидевшие на его софе Louis Quinze[54 - В стиле Людовика XV (фр.).], походили одна на другую как две капли воды. Возможно, Казимир тоже: все женщины похожи на его безумный идеал. Но вы, Шируотер, вы человек умный. Неужели вы верите в подобную чепуху?
Шируотер покачал головой.
– Фараон давал показания против меня. «Припадала на все четыре ноги», – говорит. «Ничего не припадала», – говорю я, а полицейский ветеринар за меня заступился: «С лошадью, – говорит, – обращались очень хорошо. Но она старая, очень старая». «Знаю, что старая, – говорю я. – А где я, по-вашему, возьму денег купить себе молодую?»
– х?
– у?
, – говорил Шируотер, – = (х + у)(х – у). И уравнение сохраняет силу при любых значениях х и у… То же самое и с вашей любовью, миссис Вивиш. Уравнение остается таким же, независимо от того, каковы личные свойства подставляемых в него величин. Мелкие индивидуальные тики и особенности – какое они, в конечном счете, имеют значение?
– Какое, в самом деле? – сказал Колмэн. – Тики – всего лишь тики. Тики, и таки, и токи, и туки, и минеральные удобрения…
– «Лошадь нужно уничтожить, – говорит полисмен. – Она слишком стара, чтобы работать». «Она-то стара, – говорю я, – да я не стар. Что, мне разве станут платить пенсию в тридцать два года? Как я стану зарабатывать себе на хлеб, если вы заберете у меня лошадь?»
Миссис Вивиш страдальчески улыбнулась.
– Вот человек, который считает, что личные особенности пошлы и незначительны, – сказала она. – Вы, значит, даже не интересуетесь людьми?
– «Что вы будете делать, это меня не касается, – говорит он. – Мое дело – привести в исполнение закон». «Странные у вас законы, как я погляжу. – говорю я. – Что это за закон такой?»
Шируотер почесал в затылке. Потом под его огромными черными усами показалась наивная детская улыбка.
– Нет, – сказал он. – Похоже на то, что не интересуюсь. Пока вы не сказали, мне это в голову не приходило. Но похоже на то, что нет. Нет. – Он рассмеялся, по-видимому, в восторге от этого открытия насчет самого себя.
– «Какой закон? – говорит он. – Закон о жестоком обращении с животными. Вот какой закон», – говорит.
Насмешливая и болезненная улыбка появилась и погасла.
– В один прекрасный день, – сказала миссис Вивиш, – они, может быть, покажутся вам более достойными внимания, чем теперь.
– А до тех пор… – сказал Шируотер.
– Здесь работу не найдешь, а как работал я сам за себя, хозяином, то и на пособие по безработице мне рассчитывать нечего. И когда мы прослышали, что в Портсмуте есть места, мы решили попытаться, даже если бы пришлось переть туда пешком.
– К тому же у меня – мои почки.
– «И не надейтесь, – говорит он мне, – и не надейтесь. Человек двести явилось, а мест всего три». Что ж нам оставалось делать? Мы и пошли назад. На этот раз четыре дня шагали. Ей стало плохо по дороге, очень плохо. Она у меня на шестом месяце. У нас это первый. А когда родится, еще трудней станет.
Из черного узла раздалось негромкое рыдание.
– Послушайте, – сказал Гамбрил, внезапно врываясь в разговор. – Какая ужасная история! – Он горел негодованием и состраданием, он чувствовал себя пророком в Ниневии. – Тут два несчастных создания. – И Гамбрил вполголоса рассказал им все, что он слышал. – Это ужасно, ужасно. Всю дорогу в Портсмут и обратно пешком, полуголодные; а женщина в положении.
Колмэна взорвало от восторга.
– В положении, – повторил он, – в положении, положении. Закон всемирного положения, впервые сформулированный Ньютоном, а ныне исправленный и дополненный божественным Эйнштейном. Бог сказал: да будет Ньюштейн, и бысть свет. И Бог сказал: да будет свет, и бысть тьма на земле от шестого часа до девятого. – Он хохотал во всю глотку.
Они собрали пять фунтов. Миссис Вивиш взялась передать их черному узлу. Шоферы расступились перед ней; наступило неловкое молчание. Черный узел поднял лицо, старое и изнуренное, как лицо статуи на портале средневекового собора; старое лицо, но при взгляде на него было ясно, что принадлежит оно женщине еще молодой. Ее рука дрожала, когда она взяла банкноты, а когда она открыла рот и произнесла едва слышные слова благодарности, стало видно, что у нее не хватает нескольких зубов.
Компания распалась. Каждый пошел своей дорогой: мистер Меркаптан направился в свой будуар рококо, в свою миленькую спальню барокко на Слон-стрит; Колмэн с Зоэ – к бог знает каким сценам интимной жизни в Пимлико; Липиат – в свою мастерскую в районе Тоттенхэм-Корт-род, одинокий, грустно-мечтательный и, быть может, чересчур сознательно сгибаясь под тяжестью несчастий. Но несчастье бедного титана было вполне реальным, потому что разве он не видел, как миссис Вивиш уехала в одном такси с этим неотесанным болваном Оппсом? «Нужно закончить танцами», – прохрипела Майра со смертного одра, на котором вечно пребывал ее беспокойный и усталый дух. Бруин послушно дал адрес, и они уехали. А после танцев? О, неужели возможно, что этот жуткий ублюдок – ее возлюбленный? И чем он ей нравится? Неудивительно, что Липиат шел согнувшись, как Атлас под тяжестью Вселенной. И когда на Пиккадилли запоздалая и неудачливая проститутка выскользнула из темноты навстречу ему, шагавшему, не замечая ничего вокруг – до такой степени он был поглощен своим горем, – и окликнула его безнадежным «развеселись, мальчик», Липиат откинул голову назад и титанически рассмеялся с жуткой горечью благородной и страждущей души. Даже на несчастных уличных женщин действовало горе, излучавшееся из него волна за волной, подобно музыке, как он это любил себе представлять, в ночную тьму. Даже уличные женщины. Он шагал и шагал, еще более безнадежно согбенный, чем раньше; но больше он никого не встретил.
Гамбрил и Шируотер жили оба в Паддингтоне: они вместе молча зашагали через Парк-лейн. Гамбрил переменил шаг на ходу, чтобы попасть в ногу со своим спутником. Идти не в ногу, когда шаги так громко и гулко звучат на пустом тротуаре, было, по его мнению, неприятно, неловко и даже почему-то опасно. Шагая не в ногу, человек, так сказать, выдает себя, дает ночи почувствовать, что идут два человека, тогда как, если шаги звучат в унисон, можно подумать, что идет только один человек, ступающий тяжелей, внушительней и уверенней, чем каждый в отдельности. Итак, они шли в ногу по Парк-лейн. Полисмен и три поэта, повернувшиеся друг к другу спиной, каждый у своего фонтана, – вот и все человеческие существа, кроме них двоих, пребывавшие в сиреневом свете электрических лун.
– Это ужасно, это возмутительно, – сказал наконец Гамбрил после очень долгого молчания, в продолжение которого он смаковал свое возмущение по поводу всего этого. – Жизнь, видите ли…
– Что возмутительно? – осведомился Шируотер. Он шел, наклонив свою большую голову, сжимая шляпу руками, заложенными за спину; шел неуклюже, на каждом шагу переваливаясь всем своим грузным телом. Где бы ни находился Шируотер, он всегда занимал столько места, сколько заняли бы два или три обыкновенных человека. Освежающие пальцы прохладного ветра перебирали его волосы. Он обдумывал опыт, который намеревался поставить у себя в физиологической лаборатории в ближайшие дни. Нужно посадить человека за эргометр в нагретой камере и заставить его работать по нескольку часов подряд. Он, разумеется, будет усиленно потеть. Нужно будет устроить приспособления, чтобы собирать пот, взвешивать его, анализировать и так далее. Интересно будет посмотреть, что получится через несколько дней. Из его организма выйдет столько солей, что может измениться состав крови; могут произойти также и другие весьма любопытные вещи. Опыт будет замечательный. Восклицание Гамбрила нарушило ход его мыслей. – Что возмутительно? – спросил он несколько раздраженно.
– Эти люди в ночном кафе, – ответил Гамбрил. – Возмутительно, что человеческим существам приходится жить так. Хуже, чем собакам.
– Собакам жаловаться не на что. – Шируотер ухватился за какое-то боковое ответвление его мысли. – Равно как и морским свинкам и крысам. Все эти проклятые антививисекционисты шумят, сами не зная из-за чего.
– Но вы только подумайте, – воскликнул Гамбрил, – что пришлось пережить этим несчастным! Пешком всю дорогу до Портсмута в поисках работы; а женщина – беременная. Это ужасно. А потом, как ужасно обращаются с людьми, принадлежащими к их классу. Это невозможно себе представить, пока сам не испытаешь. На войне, например, когда полковые врачи выслушивали у вас легкие, они обращались с вами так, точно вы тоже принадлежите к низшему классу, точно вы тоже один из этих несчастных. Это раскрывало вам глаза на многое. Вы чувствовали себя как корова, которую втолкнули в товарный вагон. И подумать только, что большинство наших ближних всю свою жизнь подвергается таким вот издевательствам!
– Гм, – сказал Шируотер. «Если человек будет потеть и потеть до бесконечности, – решил он, – он в конечном счете умрет».
Гамбрил посмотрел сквозь ограду в глубокую тьму парка. Тьма была огромна и меланхолична; то здесь, то там ее пронизывала нить уходящих вдаль огней.
– Ужасно, – сказал он и несколько раз повторил это слово: – Ужасно, ужасно.
Все безногие солдаты, вертящие шарманку, все лоточники в рваных башмаках, продающие безделушки на мокрых тротуарах Стрэнда; на углу Карситор-стрит и Чансери-лейн старуха со спичками, вечно держащая у левого глаза платок, такой же желтый и грязный, как зимний туман. Что у нее с глазом? Он никогда не осмеливался взглянуть и проходил мимо, будто не замечая ее, или порой, когда туман был особенно холодный и промозглый, останавливался на мгновение и, отвернувшись, бросал ей медную монетку на поднос со спичками. И убийцы, которых вешают в восемь часов утра, когда человек смакует в сладостном полузабытьи последние остатки сновидений. И чахоточная поденщица, приходившая работать к его отцу до тех пор, пока не ослабела окончательно и не умерла. И влюбленные, отравлявшиеся газом, и разорившиеся лавочники, бросавшиеся под поезд. Имеет ли человек право быть довольным и сытым, имеет ли он право на образование и на хороший вкус, право на знания и на разговоры и на утонченную сложность любви?
Он еще раз взглянул сквозь ограду на непроницаемую древесную тьму парка, на бусы огней. Он взглянул – и вспомнил другую ночь, много лет назад, в годы войны, когда огней в парке не было, а электрические луны на улицах были почти все в затмении. Он шел один по этой же улице, обуреваемый меланхолией, которая, хотя причина ее была иной, как две капли воды походила на меланхолию, переполнявшую его душу сегодня. В то время он был влюблен до безумия.
– Что вы думаете, – внезапно спросил он, – о Майре Вивиш?
– Что я о ней думаю? – сказал Шируотер. – Пожалуй, я вообще ничего о ней не думаю. Она ведь не очень подходящий материал для размышлений, не правда ли? Как женщина, впрочем, она показалась мне довольно привлекательной. Я обещал пообедать с ней в четверг.
Гамбрил вдруг почувствовал потребность излить душу.
– Было время, – сказал он делано безразличным, легкомысленным и небрежным тоном, – много лет назад, когда я совершенно потерял из-за нее голову. Совершенно… – Эти влажные пятна от слез на подушке, такие холодные, когда в темноте положишь на них щеку; и нестерпимая боль, когда плачешь, бессмысленно, о чем-то, что ровно ничего не значит, что значит все на свете! – Это было в конце войны. Помню, я шел однажды ночью по этой мрачной улице, в полной темноте, корчась от ревности. – Он замолчал. Как привидение, как темный преследующий дух, он ходил за ней по пятам, безмолвно, безмолвно умоляя, взывая о любви. «Слабый безмолвный человек», – говорила она о нем. Однажды, на два или на три дня, из жалости, а может быть, просто из желания отделаться от утомительного призрака, она дала ему то, о чем он молча безнадежно молил, – дала только для того, чтобы почти сейчас же отнять у него свой дар. В ту ночь, когда он шел по этой же улице, желание выпило из него всю жизнь, и его тело казалось опустошенным, до боли, до страдания пустым; ревность неустанно напоминала ему, с беспощадной злобой, о ее красоте – о ее красоте и о тех ненавистных руках, что теперь ласкали ее, о тех глазах, что теперь смотрели на нее. Все это было давным давно.
– Она безусловно хороша, – сказал Шируотер, с запозданием отвечая на одну из последних фраз Гамбрила. – Я охотно признаю, что она может доставить человеку, связавшемуся с ней, немало тяжелых минут. – Ему вдруг пришло в голову, что после одного или двух дней непрерывного потения человеку, возможно, будет приятнее утолять жажду морскою водой, чем пресной. Это было бы очень занятно.
Гамбрил разразился дьявольским хохотом.
– Но было и другое время, – развязно продолжал он, – когда другие люди ревновали ее ко мне. – О, месть, месть! В лучшем мире воображения можно было расплатиться за старые обиды. Какие демонические вендетты доводились в этом мире до благополучного конца! – Помню, я как-то написал ей французское четверостишие. – (Он написал его через несколько лет, когда все уже давным-давно кончилось, он никогда никому его не посылал; но это не имело значения.) – Как это там было? Ага, вспомнил. – И он продекламировал, сопровождая стихи соответствующими жестами:
Puisque nous sommes l?, je dois
Vous avertir, sans trop de honte,
– Вдруг на меня налетает фараон. «Сколько лет твоей лошади? – говорит он. – Она не может возить тяжести, она припадает на все четыре ноги», – говорит. «Неправда», – говорю я. «Не сметь мне возражать, – говорит он. – Распрягите ее сию же минуту».
– Но я уже знаю все о любви. Тогда как о почках я знаю невероятно мало.
– Но, дорогой Шируотер, как можете вы знать все о любви, если вы не занимались ею со всеми женщинами на свете?
– Ну, мы и пошли, я и фараон и лошадь, прямехонько в полицейский участок…
– Или вы принадлежите к числу тех кретинов, – продолжала миссис Вивиш, – которые говорят о женщине с большого Ж и утверждают, будто мы все одинаковы? Бедный Теодор, вероятно, думает так в минуты слабости. – Гамбрил неопределенно улыбнулся откуда-то издали. Он входил вслед за человеком с чашкой чая в душный полицейский участок. – И конечно, Меркаптан, потому что все женщины, сидевшие на его софе Louis Quinze[54 - В стиле Людовика XV (фр.).], походили одна на другую как две капли воды. Возможно, Казимир тоже: все женщины похожи на его безумный идеал. Но вы, Шируотер, вы человек умный. Неужели вы верите в подобную чепуху?
Шируотер покачал головой.
– Фараон давал показания против меня. «Припадала на все четыре ноги», – говорит. «Ничего не припадала», – говорю я, а полицейский ветеринар за меня заступился: «С лошадью, – говорит, – обращались очень хорошо. Но она старая, очень старая». «Знаю, что старая, – говорю я. – А где я, по-вашему, возьму денег купить себе молодую?»
– х?
– у?
, – говорил Шируотер, – = (х + у)(х – у). И уравнение сохраняет силу при любых значениях х и у… То же самое и с вашей любовью, миссис Вивиш. Уравнение остается таким же, независимо от того, каковы личные свойства подставляемых в него величин. Мелкие индивидуальные тики и особенности – какое они, в конечном счете, имеют значение?
– Какое, в самом деле? – сказал Колмэн. – Тики – всего лишь тики. Тики, и таки, и токи, и туки, и минеральные удобрения…
– «Лошадь нужно уничтожить, – говорит полисмен. – Она слишком стара, чтобы работать». «Она-то стара, – говорю я, – да я не стар. Что, мне разве станут платить пенсию в тридцать два года? Как я стану зарабатывать себе на хлеб, если вы заберете у меня лошадь?»
Миссис Вивиш страдальчески улыбнулась.
– Вот человек, который считает, что личные особенности пошлы и незначительны, – сказала она. – Вы, значит, даже не интересуетесь людьми?
– «Что вы будете делать, это меня не касается, – говорит он. – Мое дело – привести в исполнение закон». «Странные у вас законы, как я погляжу. – говорю я. – Что это за закон такой?»
Шируотер почесал в затылке. Потом под его огромными черными усами показалась наивная детская улыбка.
– Нет, – сказал он. – Похоже на то, что не интересуюсь. Пока вы не сказали, мне это в голову не приходило. Но похоже на то, что нет. Нет. – Он рассмеялся, по-видимому, в восторге от этого открытия насчет самого себя.
– «Какой закон? – говорит он. – Закон о жестоком обращении с животными. Вот какой закон», – говорит.
Насмешливая и болезненная улыбка появилась и погасла.
– В один прекрасный день, – сказала миссис Вивиш, – они, может быть, покажутся вам более достойными внимания, чем теперь.
– А до тех пор… – сказал Шируотер.
– Здесь работу не найдешь, а как работал я сам за себя, хозяином, то и на пособие по безработице мне рассчитывать нечего. И когда мы прослышали, что в Портсмуте есть места, мы решили попытаться, даже если бы пришлось переть туда пешком.
– К тому же у меня – мои почки.
– «И не надейтесь, – говорит он мне, – и не надейтесь. Человек двести явилось, а мест всего три». Что ж нам оставалось делать? Мы и пошли назад. На этот раз четыре дня шагали. Ей стало плохо по дороге, очень плохо. Она у меня на шестом месяце. У нас это первый. А когда родится, еще трудней станет.
Из черного узла раздалось негромкое рыдание.
– Послушайте, – сказал Гамбрил, внезапно врываясь в разговор. – Какая ужасная история! – Он горел негодованием и состраданием, он чувствовал себя пророком в Ниневии. – Тут два несчастных создания. – И Гамбрил вполголоса рассказал им все, что он слышал. – Это ужасно, ужасно. Всю дорогу в Портсмут и обратно пешком, полуголодные; а женщина в положении.
Колмэна взорвало от восторга.
– В положении, – повторил он, – в положении, положении. Закон всемирного положения, впервые сформулированный Ньютоном, а ныне исправленный и дополненный божественным Эйнштейном. Бог сказал: да будет Ньюштейн, и бысть свет. И Бог сказал: да будет свет, и бысть тьма на земле от шестого часа до девятого. – Он хохотал во всю глотку.
Они собрали пять фунтов. Миссис Вивиш взялась передать их черному узлу. Шоферы расступились перед ней; наступило неловкое молчание. Черный узел поднял лицо, старое и изнуренное, как лицо статуи на портале средневекового собора; старое лицо, но при взгляде на него было ясно, что принадлежит оно женщине еще молодой. Ее рука дрожала, когда она взяла банкноты, а когда она открыла рот и произнесла едва слышные слова благодарности, стало видно, что у нее не хватает нескольких зубов.
Компания распалась. Каждый пошел своей дорогой: мистер Меркаптан направился в свой будуар рококо, в свою миленькую спальню барокко на Слон-стрит; Колмэн с Зоэ – к бог знает каким сценам интимной жизни в Пимлико; Липиат – в свою мастерскую в районе Тоттенхэм-Корт-род, одинокий, грустно-мечтательный и, быть может, чересчур сознательно сгибаясь под тяжестью несчастий. Но несчастье бедного титана было вполне реальным, потому что разве он не видел, как миссис Вивиш уехала в одном такси с этим неотесанным болваном Оппсом? «Нужно закончить танцами», – прохрипела Майра со смертного одра, на котором вечно пребывал ее беспокойный и усталый дух. Бруин послушно дал адрес, и они уехали. А после танцев? О, неужели возможно, что этот жуткий ублюдок – ее возлюбленный? И чем он ей нравится? Неудивительно, что Липиат шел согнувшись, как Атлас под тяжестью Вселенной. И когда на Пиккадилли запоздалая и неудачливая проститутка выскользнула из темноты навстречу ему, шагавшему, не замечая ничего вокруг – до такой степени он был поглощен своим горем, – и окликнула его безнадежным «развеселись, мальчик», Липиат откинул голову назад и титанически рассмеялся с жуткой горечью благородной и страждущей души. Даже на несчастных уличных женщин действовало горе, излучавшееся из него волна за волной, подобно музыке, как он это любил себе представлять, в ночную тьму. Даже уличные женщины. Он шагал и шагал, еще более безнадежно согбенный, чем раньше; но больше он никого не встретил.
Гамбрил и Шируотер жили оба в Паддингтоне: они вместе молча зашагали через Парк-лейн. Гамбрил переменил шаг на ходу, чтобы попасть в ногу со своим спутником. Идти не в ногу, когда шаги так громко и гулко звучат на пустом тротуаре, было, по его мнению, неприятно, неловко и даже почему-то опасно. Шагая не в ногу, человек, так сказать, выдает себя, дает ночи почувствовать, что идут два человека, тогда как, если шаги звучат в унисон, можно подумать, что идет только один человек, ступающий тяжелей, внушительней и уверенней, чем каждый в отдельности. Итак, они шли в ногу по Парк-лейн. Полисмен и три поэта, повернувшиеся друг к другу спиной, каждый у своего фонтана, – вот и все человеческие существа, кроме них двоих, пребывавшие в сиреневом свете электрических лун.
– Это ужасно, это возмутительно, – сказал наконец Гамбрил после очень долгого молчания, в продолжение которого он смаковал свое возмущение по поводу всего этого. – Жизнь, видите ли…
– Что возмутительно? – осведомился Шируотер. Он шел, наклонив свою большую голову, сжимая шляпу руками, заложенными за спину; шел неуклюже, на каждом шагу переваливаясь всем своим грузным телом. Где бы ни находился Шируотер, он всегда занимал столько места, сколько заняли бы два или три обыкновенных человека. Освежающие пальцы прохладного ветра перебирали его волосы. Он обдумывал опыт, который намеревался поставить у себя в физиологической лаборатории в ближайшие дни. Нужно посадить человека за эргометр в нагретой камере и заставить его работать по нескольку часов подряд. Он, разумеется, будет усиленно потеть. Нужно будет устроить приспособления, чтобы собирать пот, взвешивать его, анализировать и так далее. Интересно будет посмотреть, что получится через несколько дней. Из его организма выйдет столько солей, что может измениться состав крови; могут произойти также и другие весьма любопытные вещи. Опыт будет замечательный. Восклицание Гамбрила нарушило ход его мыслей. – Что возмутительно? – спросил он несколько раздраженно.
– Эти люди в ночном кафе, – ответил Гамбрил. – Возмутительно, что человеческим существам приходится жить так. Хуже, чем собакам.
– Собакам жаловаться не на что. – Шируотер ухватился за какое-то боковое ответвление его мысли. – Равно как и морским свинкам и крысам. Все эти проклятые антививисекционисты шумят, сами не зная из-за чего.
– Но вы только подумайте, – воскликнул Гамбрил, – что пришлось пережить этим несчастным! Пешком всю дорогу до Портсмута в поисках работы; а женщина – беременная. Это ужасно. А потом, как ужасно обращаются с людьми, принадлежащими к их классу. Это невозможно себе представить, пока сам не испытаешь. На войне, например, когда полковые врачи выслушивали у вас легкие, они обращались с вами так, точно вы тоже принадлежите к низшему классу, точно вы тоже один из этих несчастных. Это раскрывало вам глаза на многое. Вы чувствовали себя как корова, которую втолкнули в товарный вагон. И подумать только, что большинство наших ближних всю свою жизнь подвергается таким вот издевательствам!
– Гм, – сказал Шируотер. «Если человек будет потеть и потеть до бесконечности, – решил он, – он в конечном счете умрет».
Гамбрил посмотрел сквозь ограду в глубокую тьму парка. Тьма была огромна и меланхолична; то здесь, то там ее пронизывала нить уходящих вдаль огней.
– Ужасно, – сказал он и несколько раз повторил это слово: – Ужасно, ужасно.
Все безногие солдаты, вертящие шарманку, все лоточники в рваных башмаках, продающие безделушки на мокрых тротуарах Стрэнда; на углу Карситор-стрит и Чансери-лейн старуха со спичками, вечно держащая у левого глаза платок, такой же желтый и грязный, как зимний туман. Что у нее с глазом? Он никогда не осмеливался взглянуть и проходил мимо, будто не замечая ее, или порой, когда туман был особенно холодный и промозглый, останавливался на мгновение и, отвернувшись, бросал ей медную монетку на поднос со спичками. И убийцы, которых вешают в восемь часов утра, когда человек смакует в сладостном полузабытьи последние остатки сновидений. И чахоточная поденщица, приходившая работать к его отцу до тех пор, пока не ослабела окончательно и не умерла. И влюбленные, отравлявшиеся газом, и разорившиеся лавочники, бросавшиеся под поезд. Имеет ли человек право быть довольным и сытым, имеет ли он право на образование и на хороший вкус, право на знания и на разговоры и на утонченную сложность любви?
Он еще раз взглянул сквозь ограду на непроницаемую древесную тьму парка, на бусы огней. Он взглянул – и вспомнил другую ночь, много лет назад, в годы войны, когда огней в парке не было, а электрические луны на улицах были почти все в затмении. Он шел один по этой же улице, обуреваемый меланхолией, которая, хотя причина ее была иной, как две капли воды походила на меланхолию, переполнявшую его душу сегодня. В то время он был влюблен до безумия.
– Что вы думаете, – внезапно спросил он, – о Майре Вивиш?
– Что я о ней думаю? – сказал Шируотер. – Пожалуй, я вообще ничего о ней не думаю. Она ведь не очень подходящий материал для размышлений, не правда ли? Как женщина, впрочем, она показалась мне довольно привлекательной. Я обещал пообедать с ней в четверг.
Гамбрил вдруг почувствовал потребность излить душу.
– Было время, – сказал он делано безразличным, легкомысленным и небрежным тоном, – много лет назад, когда я совершенно потерял из-за нее голову. Совершенно… – Эти влажные пятна от слез на подушке, такие холодные, когда в темноте положишь на них щеку; и нестерпимая боль, когда плачешь, бессмысленно, о чем-то, что ровно ничего не значит, что значит все на свете! – Это было в конце войны. Помню, я шел однажды ночью по этой мрачной улице, в полной темноте, корчась от ревности. – Он замолчал. Как привидение, как темный преследующий дух, он ходил за ней по пятам, безмолвно, безмолвно умоляя, взывая о любви. «Слабый безмолвный человек», – говорила она о нем. Однажды, на два или на три дня, из жалости, а может быть, просто из желания отделаться от утомительного призрака, она дала ему то, о чем он молча безнадежно молил, – дала только для того, чтобы почти сейчас же отнять у него свой дар. В ту ночь, когда он шел по этой же улице, желание выпило из него всю жизнь, и его тело казалось опустошенным, до боли, до страдания пустым; ревность неустанно напоминала ему, с беспощадной злобой, о ее красоте – о ее красоте и о тех ненавистных руках, что теперь ласкали ее, о тех глазах, что теперь смотрели на нее. Все это было давным давно.
– Она безусловно хороша, – сказал Шируотер, с запозданием отвечая на одну из последних фраз Гамбрила. – Я охотно признаю, что она может доставить человеку, связавшемуся с ней, немало тяжелых минут. – Ему вдруг пришло в голову, что после одного или двух дней непрерывного потения человеку, возможно, будет приятнее утолять жажду морскою водой, чем пресной. Это было бы очень занятно.
Гамбрил разразился дьявольским хохотом.
– Но было и другое время, – развязно продолжал он, – когда другие люди ревновали ее ко мне. – О, месть, месть! В лучшем мире воображения можно было расплатиться за старые обиды. Какие демонические вендетты доводились в этом мире до благополучного конца! – Помню, я как-то написал ей французское четверостишие. – (Он написал его через несколько лет, когда все уже давным-давно кончилось, он никогда никому его не посылал; но это не имело значения.) – Как это там было? Ага, вспомнил. – И он продекламировал, сопровождая стихи соответствующими жестами:
Puisque nous sommes l?, je dois
Vous avertir, sans trop de honte,