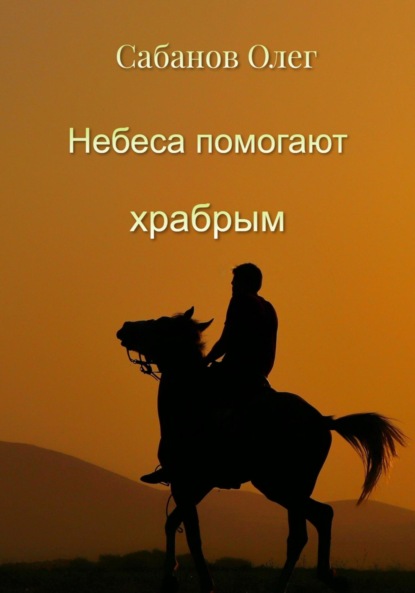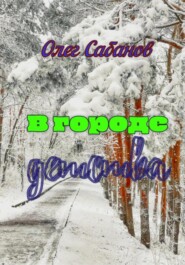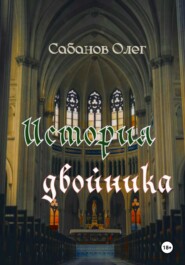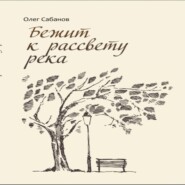По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Небеса помогают храбрым
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего не попишешь – на войне как на войне! Время фривольностей безвозвратно ушло в прошлое, и теперь сама жизнь диктует нам новые правила, – притворно вздохнув, констатировал Фонтенель Цинций. – В сложившихся непростых обстоятельствах мало только следить за своими высказываниями. Почетным долгом каждого высокообразованного подданного с недавних пор является всемерное укрепление авторитета венценосной особы при помощи своих талантов и способностей. Поэтому вам, Эрбин, стоит возобновить свои просветительские встречи и открывать людям глаза в качестве бесстрашного королевского воина.
– Восхвалять покровителя высокопоставленных лиходеев Спациана я не буду ни при каких обстоятельствах! – твердо отрезал Гавальдо.
– Прекрасно вас понимаю. Но я и не прошу хвалить его величество. Достаточно будет не возлагать на самодержца вину за выявленные безобразия, проще говоря – вывести королевский трон из-под удара. Стоит ли объяснять, что брошенная на самодержца тень уничтожает веру людей в непогрешимость помазанника Богов, выбивая главную опору государства в столь тревожное время, – спокойно произнес главный тайный страж.
– Но как быть, если все указывает на его высочайшее попустительство и даже вовлеченность? – изумился просветитель.
– Стать чуть мудрее и перестать раскачивать лодку, в которой кроме нас находится несметное число соплеменников. Утопающие проклянут вас вместе с вашей правдой, случись непоправимое, – вкрадчивым голосом ответил Цинций. – Поэтому я прошу, точнее, настоятельно советую вам оставить в покое его величество и нацелить все стрелы обвинений на любого из министров или погрязших в роскоши придворных. Мы же по следам ваших разоблачений арестуем, судим и публично казним его. Мое предложение почти идеально, ведь все останутся довольны – вы будете заниматься своим делом и добьетесь наконец реального результата, стоящий на переднем крае обороны король перестанет опасаться получить нож в спину, а его верные поданные, вдохновленные свершившимся правосудием, теснее сплотятся вокруг трона и возведут вам памятник еще при жизни.
Выслушав незваного гостя, обитатель каземата с минуту молчал, мысленно отдавая должное коварству начальника тайной королевской стражи. Эрбин ценил профессионалов во всех сферах, даже искусных мастеров заплечных дел.
– Приняв ваши условия, я сам сделаюсь соучастником творимых злодеяний, ибо буду покрывать главного лиходея, – сухо ответил он, демонстративно укладываясь на тюфяк лицом к стене. – Более можете не тратить на меня своего драгоценного времени.
– Глупо! Я, честно признаться, ожидал от вас большей прозорливости, не говоря об элементарном инстинкте выживания. Если уж вам плевать на себя, подумайте хотя бы о жене, детях и многочисленных сподвижниках. Последних мы подвергнем таким пыткам, что они проклянут день, когда появились на свет. Найдутся среди них и такие, которые ради пощады оговорят вас, а мы предоставим им трибуну. Представьте, какого будет вашей супруге и детишкам на чужбине, когда вы прослывете здесь растлителем малолетних и проходимцем, живущим на пожертвования облапошенных лживыми посулами простаков. Вам, кстати, тоже не избежать мучительных истязаний, от которых придется долго и страшно умирать под проклятия бывших последователей и разочаровавшихся друзей. Изуродованный труп разрубят на куски и бросят диким собакам на съедение, вместе с ним исчезнет сама память о так называемом «просветителе». Во всяком случае, добрая память, – тяжело вздохнув, подвел итог сказанному Фонтенель Цинций. – Но, знаете, я неисправимый оптимист, надеющийся на чудо в самых поганых обстоятельствах, поэтому обязательно вскоре навещу вас повторно. Вдруг мой вопиющий голос найдет отклик в вашем больном разуме.
– Не стоит попусту тревожиться. Свой выбор я сделал бесповоротно, – глухо произнес Эрбин в толстенную стену тюрьмы.
Покидая каземат, главный тайный страж бросил вместо прощания:
– Ваша беда в том, что вы вознамерились побороть неистребимую человеческую натуру, чего пока никому не удавалось. Не успеют новые правители усесться в освободившиеся кресла, как с достойным их предшественников азартом, начнут заниматься тем же самым!
Однако узник пропустил мимо ушей умозаключение одного из своих высокопоставленных палачей. После того, как цепной пес Спациана обмолвился о его жене и детях, образ идущей к нему навстречу вместе с малышами Люции стал затмевать все остальное. Так он и задремал, согреваемый медленной поступью самых дорогих людей.
Вскоре ему приснился сон, где его супруга вдруг преобразилась в пугающую своей потусторонней красотой женщину средних лет. Выбившиеся из-под покрывающего ее голову платка черные пряди падали на бледный лоб и широкие смоляные брови, а правильные черты скорбного лица усиливали чарующий гипноз холодного немигающего взора. Эрбин сразу же узнал великую Богиню, чей повелительный зов никто из живущих не мог игнорировать. Ее изваяния в мраморе и бронзе возвышались близ могильных курганов и на крутых берегах полноводных рек, с которых развеивался прах погребальных костров. Ее почитали как мать, возвращающую своих наигравшихся детей туда, откуда они ненадолго выбежали. Имя Богини старались произносить как можно реже, дабы не обратить ее внимание на себя раньше положенного срока. Символом же великой матери считался острый изогнутый серп, отсекающий связывающие человека с жизнью нити.
– Хватит, родной, пойдем домой! Устал ведь уже! Там тепло и уютно, а здесь разыгралось ненастье, – произнесла она певучим голосом, почти не размыкая губ и заботливо протянула к нему руки.
– Еще очень рано! Мне не хочется уходить отсюда! – по-детски капризно отозвался Гавальдо, чуть не плача.
– Ну что с тобой делать, горюшко мое луковое! Резвись, коль до сих пор не надоело и помни – за тебя беспокоятся, любят и ждут, – сказала мягко Богиня и ее образ постепенно растаял.
Пробудившегося Эрбина долго не отпускала магическая атмосфера приснившегося диалога. Он быстро пришел к мысли, что несознательно сам позвал никогда беспричинно не навещающую смертных Богиню в тот момент, когда из-за угроз сторожевого пса Спациана поддался минутному малодушию. Любящая мать просто напомнила о незапертых дверях домашнего очага, и будь просветитель менее капризным в разговоре с ней, тюремщики уже не растормошили бы одного из арестантов крепостных казематов.
В последующие дни Гавальдо раз за разом подвергался скорее психологическому, но очень изощренному истязанию. Врывающиеся в камеру бугаи ставили его на колени и заставляли во все горло петь гимн славы королю. Когда же Эрбин отказывался повиноваться, одевали ему на голову пыльный мешок и принимались во всех подробностях рассказывать о находящихся у них в арсенале пыточных орудиях, красочно живописуя нечеловеческие мучения несчастных, испытавших их действие на себе. Однако куда страшнее технических характеристик заждавшихся просветителя механизмов были клятвенные обещания профессиональных извергов познакомить в скором времени его жену Люцию с самыми усовершенствованными моделями из перечисленного ряда, усадив при этом ее детей в специально оборудованное зрительское ложе для утонченных ценителей истязаний.
Иногда его навещал какой-то мутный жрец Фулвий Сарантонелло который, видимо, работая на контрасте с живодерами, елейным голосом убеждал просветителя прекратить ерепениться и понять мудрость королевской политики.
– Разве Боги, ниспославшие нам нынешнюю власть, неразумны? – наигранно вопрошал он благоговейным полушепотом, поглаживая свою жидкую бороденку. – Зацикливаясь на придворных сребролюбцах, ты упускаешь высший смысл правления Спациана, заключающийся в сохранении привычного уклада государства и укреплении его границ. Как только самодержец окончательно возвратит отечеству былую мощь и славу, он без особого труда разделается с расплодившимися лиходеями. Именно в такой последовательности должно преображаться королевство, но никак иначе! Нам же, непосвященным в известные одному монарху тайны, следует молиться за его прозорливость, плохо осознаваемую пока некоторыми невеждами. Поэтому смирись со всем происходящим, позволив судить Богам, что нам на пользу, а что во вред, и оставь свое ослиное упрямство, от которого страдают самые близкие тебе люди.
– К чему тогда любимцы Богов герои, перед вознесением в небесную обитель, подавали нам пример мужества и самопожертвования в борьбе со всяким злом? – пытался осведомиться Эрбин, без особенной надежды на искренний ответ.
– Гордыня твоя безмерна, раз ставишь себя на одну доску с древними героями! Тогда были совсем другие времена, да и сами люди не чета нынешним! – невразумительно объяснял Сарантонелло, тут же выходя из себя. – Лучше бы поучился у них мудрости и повиновению жрецам!
После одного из визитов святоши хохочущие тюремщики бросили в каземат драную соломенную подстилку, а затем грубо втолкнули невыносимо смердящего человека в грязных лохмотьях. Когда дверь опять заперли, Гавальдо попытался познакомиться с подселенным к нему горемыкой, но тот, словно дикий зверь, забился в дальний угол и задрожал крупной дрожью. Лицо, шея и руки мужчины были усеяны сочащимися язвами, изо рта длинными нитями свисала слюна, мутные глаза смотрели вокруг испуганно и затравленно. К тому же его душил надсадный кашель, сообщающий находящемуся рядом Эрбину о реальной угрозе заражения. Он вспомнил рассказы каторжан об изуверской практике, когда заживо гниющего доходягу поселяли в тесном помещении с тем, кого хотели сломать и насколько мучительным был последующий выбор между смертельным заболеванием и бесчестьем. Но просветитель уже определился со своим выбором, тем самым вверив свое здоровье и саму жизнь высшим силам, а потому с непонятным обычному смертному спокойствием отломил кусок от краюхи и с добродушной улыбкой протянул его сокамернику. Правда вскоре изъеденного хворями бедолагу тюремщики палками выгнали из каземата, дав повод Гавальдо считать, что глава тайной стражи Фонтенель Цинций до сих пор лелеет надежду заставить его плясать под свою дудку без непоправимого ущерба здоровью и только для пущей сговорчивости ненадолго подселил к нему опасного для окружающих больного.
Ожидая как-то очередного визита истязателей и уже заранее ощущая затхлый запах пыльного мешка, Эрбин подумал, что, может быть, зря не послушался приходившей за ним Богини. Поводом для малодушия стали участившиеся мысли о тщете переносимых им страданий. «Только презренные трусы, страшащиеся неизбежных перемен, из последних сил цепляются за жизнь, когда нужен один решительный шаг в вечность. Плохо или хорошо, но я сделал все возможное, – размышлял он в такие минуты. – Встречи с людьми придавали смысл моему существованию, я понимал их пользу и чувствовал отдачу. А какой прок в нынешних страданиях? Ими никто не вдохновится, потому что кроме палачей они никому не будут известны. Мое доброе имя растопчут манипуляторы из тайной королевской стражи, как обещал ее начальник. Впереди же меня, видимо, ожидает мучительная смерть или безумие. Благополучного выхода из ситуации, в которой я оказался, найти невозможно».
Гавальдо вспомнилось далекое детство, когда он, оставшись один в детской комнате перед самым засыпанием, боялся обнаружить в темноте помещения страшных чудищ. Однако стоило ему спрятаться с головой под шерстяное одеяло, как волшебным образом приходило ощущение защищенности, словно окутавшая тело материя была массивным железным доспехам. Эрбин сейчас отдал бы многое, наверное, почти все, лишь бы вновь найти такое временное убежище. Вот только теперь его могла предложить исключительно ждущая в вечности Богиня-мать, а выбраться оттуда, просто сбросив с головы шерстяное одеяло, не удавалось еще никому.
К приступам малодушия прибавилось постоянное бормотание. Иногда просветитель ловил себя на том, что, позабыв обо всем, жарко спорит вслух с одним из своих многочисленных оппонентов из прошлого, которого с поразительной до ужасал реальностью воспроизводило его измученное воображение. Следовавшая за этим леденящая кровь догадка о подступающем сумасшествии несла внутреннее опустошение, не позволяющее даже время от времени ощущать хрупкое душевное равновесие.
Когда становилось совсем невмоготу, он тихо напевал старинную песню об израненном всаднике, храбро скачущем невзирая на преграды и выпущенные вслед стрелы к дальним огням родного поселения. Строки ее припева знали в королевстве наизусть все от мала до велика:
Летит сквозь мглу мой конь гнедой
Все ближе, ближе дом родной
Я свято верю в чудеса
Мне помогают небеса!
Пропитанная национальным колоритом мелодия, обычно заряжающая отвагой и оптимизмом, чудесным образом притупляла острое чувство безысходности узника, а также исподволь внушала ему спасительную в отчаянном положении идею, что храбрость ценна сама по себе и вовсе не обязана кого-либо вдохновлять или иметь глубокий смысл.
В такой удушливой атмосфере внутренних терзаний прошел для Эрбина день, другой, третий, однако изверги с пыльным мешком так и не появились. Пропал куда-то и скользкий как уж Фулвий Сарантонелло, называющий себя жрецом. Заключенный понемногу стал привыкать к отсутствию регулярных и натренированных ударов по своему душевному состоянию, но в самом начале одного из похожих друг на друга дней услышал за дверью частый топот, заглушаемый возбужденным гомоном. Через мгновение в каземате появился непохожий на себя прежнего Фонтенель Цинций и, резко придвинув стул, уселся у тюфяка. Пока в уме еще сонного Гавальдо возникали одно другого страшней соображения по поводу раннего визита высокопоставленного гостя, тот снова вскочил на ноги и принялся нервно метаться от стены к стене. Было заметно, как главарь тайной стражи лихорадочно подбирает подходящие для начала разговора слова, отчего и без того висящее в спертом воздухе напряжение нарастало с каждой секундой.
– Давай поговорим как много повидавшие на своем веку люди, – наконец произнес он доверительным тоном. – Мы оба искренне пытаемся принести благо стране и только волею судеб оказались по разные стороны баррикад, вернее сказать, в противостоящих друг другу воинствах. Естественно, что раньше или позже одному из нас было суждено со щитом в руке слушать звуки победных фанфар, а другому лежать на щите поверженным и проклинаемым.
Он вдруг умолк, словно неожиданно запутался и потерял нить рассуждений. Знавший его коварство Эрбин, посчитал сказанное предисловием очередного трюка и, не дожидаясь пока непонятная ему уловка будет полностью озвучена, с едва уловимым презрением произнес:
– Служить вашим интересам я не буду ни при каких раскладах, поэтому казнить меня следует как можно скорее. Если в вас осталась хоть капля человеческого, то вы не будете очернять имя того, кто не в состоянии защитить свое доброе имя по причине ухода из жизни…
– А ведомо ли мудрейшему просветителю, что я самолично уговаривал короля повременить с расправой! – заорал Цинций, не дав закончить узнику. – И все потому, что ценил вас, как смелого и умного противника, желающего только хорошего окружающим, в отличие от бешеных дворцовых крыс! Хотя кто этому теперь поверит, когда полыхает все королевство!?
Круглое холеное лицо начальника стражи побагровело, на лбу и висках выступили мелкие капельки пота, верхнее веко левого глаза чуть заметно подергивалось.
– Как полыхает? – робко спросил Эрбин, решив, что ослышался. – Неужели в наши пределы действительно вторгся враг?
– Хуже, много хуже! – обреченно произнес главный королевский страж, протирая лицо бежевым платком с вышитой монограммой. – Я должен был сразу с этого начать, но почему-то стушевался.
Цинций повернул лицо к зарешеченному оконцу и, прищурившись от первых лучиков вездесущего солнца, поведал о мятеже в одном из приморских городов, переросшем во всенародное восстание. По его словам, под копыта лошадей, запряженных в карету спешащего в свои владения аристократа, случайно угодил маленький мальчик, что стало первой искрой давно зреющего бунта. Обозленные горожане принялись громить и поджигать дома богатой знати, после чего ворвались в здания представителя монарха, королевского суда и ратуши. Посланные для усмирения мятежа части местного гарнизона стали массово переходить на сторону бунтовщиков или попросту разбегаться. К следующему дню в руках мятежников оказалась вся провинция, а через двое суток пламя бунта охватило основные крупные и портовые города. Ратники королевского войска отказывались выполнять приказы своего командующего и целыми подразделениями вливались в армию восставших.
– Столица падет, скорее всего, к вечеру или завтра утром. Остатки королевской гвардии заняли оборону в крепости, где мы с вами имеем несчастье пребывать, и пока подчиняются моим приказам, – закончил свой рассказ, больше похожий на сводку с театра военных действий Фонтенель Цинций и нервно рассмеялся.
Ошарашенный Гавальдо долго не знал, как реагировать на слова высокопоставленного хитрована и стоит ли им вообще доверять. Однако не подводившая ранее интуиция сообщала ему, что на этот раз Цинций говорит правду.
– Спациан никогда бы не доверил руководство своими выпестованными гвардейцами кому-либо другому, даже вам! – высказал единственное свое сомнение Эрбин, собравшись с мыслями.
– Когда стало ясно, что заточенный на обогащение придворных лиходеев прогнивший изнутри порядок стал рассыпаться при столкновении с реальным вызовом, его величество, будь он неладен, вместе с ближним кругом бежал в Страну Богов, – мрачно констатировал высокопоставленный визитер, тяжело вздыхая. – Присягнувшие мне воины некогда самого грозного подразделения просто страшатся участи рьяных пособников королевской клики, с которых восставшие сдирают кожу или варят живьем в кипятке.
– Но почему тогда вы до сих пор здесь, а не в священной земле? – с искреннем недоумением воскликнул просветитель.
– Хотя бы потому, что бежавшие со Спацианом вельможи расправятся со мной даже там, так как я слишком осведомлен об их грязных делах, – ответил командующий ошметками королевской гвардии. – Но главная причина в моем желании сказать перед казнью разгневанной толпе несколько слов в свое оправдание. Уверен, через год-другой, когда страсти улягутся, многие начнут меня понимать. Вас же, Гавальдо, я прошу выйти к восставшим и попросить их не рвать меня сразу же на мелкие куски, а предать публичному трибуналу. Бунтовщики вас боготворят, называя «Рыцарем Свободы», поэтому есть слабая надежда, что они прислушаются к вашим словам.
– Будете им говорить, что вы, как солдат короля, были вынуждены повиноваться и не могли нарушить данную монарху присягу? – ехидно, но без злорадства заметил Эрбин.
– А разве это не так!? – вскипел Цинций, дрожа всем своим жирным телом. – К тому же мне легко будет доказать, что если бы не я, то казнили бы куда больше людей! Вас же Спациан повелел умертвить прямо на Земле Богов, однако из-за моего намеренного саботажа исполнению указания короля постоянно что-то мешало, в результате чего вы до сих пор живы!
Гавальдо понятия не имел, насколько утверждения уже бывшего главаря королевских стражников соотносятся с действительностью, но, будучи гуманистом, он без особых раздумий согласился на его предложение.