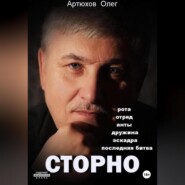По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сторно
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я махнул рукой, грохнула выстрелами сотня винтовок. Ещё и ещё. Затем упали комья земли. Через час над могилой остался только холмик с наспех сделанным памятником из досок от снарядных ящиков.
На другой день рано утром рота официально по акту сдала рубеж танкистам полковника Панова, погрузилась в машины и покатила на восток.
Глава 8
Уводя роту от фронта, я преследовал единственную цель: найти какой-нибудь укромный уголок и дать ребятам возможность хоть немного передохнуть и прийти в себя после непрерывной череды тяжелейших боёв.
Насколько я понял, Гот, как давеча и Гудериан тоже крепко получил по чавке и теперь вынужден откатиться назад. Ихний фюрер ни за что не простит им позорного поражения. Гудериана наверняка уже тащат на эшафот, да и Готу тоже вскоре намылят верёвку. А я точно знаю, что теперь уже никогда не захлопнется смертельная ловушка Белостокско-Минского котла, не погибнут 11 стрелковых, 2 кавалерийские, 6 танковых и 4 моторизованные дивизии Красной Армии. Останутся в живых и не попадут в плен 6 комкоров, 10 комдивов, почти 400 тысяч бойцов и командиров. И в дальнейшем без танкового рейда Гудериана немцы вряд ли смогут организовать страшный Киевский котёл, выживет ещё полмиллиона бойцов и командиров, а значит, война теперь пойдёт иначе, и отныне все мои знания уже не имеют никакого значения.
Выполнил ли я некую корректировку, о которой говорили три светлых личности в Запределье? Я не знал. Но я точно знал, что у меня осталось ещё три дня, и раньше срока уходить в небытие не собирался.
Казалось бы, все живы. Почти все. Рота свой долг и приказы выполнила. Одержаны пять невероятных и удивительных побед. Что ещё нужно для появления чувства полного удовлетворения. Ведь всё хорошо. Было бы хорошо, если бы не было плохо. Меня всё больше и больше тревожила судьба «стальной» роты, поскольку она явностала слишком сильным раздражителем не столько для противника, сколько для нашего командования, и, главным образом, для злопамятных спецслужб. И на нашу беду эта проблема уже вышла за пределы моих возможностей, знаний и умений. В поисках спасения отмаячившего перед нами капкана я буквально сворачивал мозги набекрень. В нынешней атмосфере военной истерии, тотальной слежки и массовых репрессий вывести роту из-под удара безопасников – задача почти невозможная, и я ума не мог приложить, каким образом нам увильнуть? Куда тут, к едреням, увильнёшь после того, как мы на весь фронт нашумели? А, впрочем… деревья лучше всего прятать в лесу. Значит, нужно забраться в этот самый «лес» поглубже. Образно говоря, в ближайшее время роте придётся скользить между сциллой и харибдой, между нашими и немцами, в постоянных рейдах на ничейных землях и в ближних немецких тылах. И ходить по этой извилистой тропинке над пропастью придётся филигранно. Без меня… Несомненно, эти планы сильно отдавали авантюризмом и анархией и требовали осмысления. Но для начала смертельно уставшие люди должны хоть немного отдохнуть.
Прикинув по карте, я выбрал глухое местечко, где две речки ограничивали лесной закуток, в котором перед войной построили пионерский лагерь, а рядом с ним заложили санаторий. Теперь, наверняка, там тихо и безлюдно.
Проехав по Минскому шоссе десяток километров, мы свернули налево на узкую местную дорогу, которая вскоре перешла в заросшую грунтовку. За старым, но крепким, мостом через небольшую чистую речку дорога нырнула в лес и упёрлась в ржавые ворота, за которыми виднелись ряды небольших домиков. Они окружали просторную засыпанную лесным мусором площадку, на которой на длинном флагштоке лёгкий ветерок шевелил выгоревший на солнце красный флаг.
Пионерский лагерь с подходящим названием «Богатырь» встретил нас тишиной и угрюмой неухоженностью. И, когда мы со всей машинерией влезли внутрь, показавшаяся сначала обширной территория оказалась небольшой и тесной, а заброшенные дощатые домики вблизи сильно смахивали на лачуги. Но много ли нужно бойцам, которые полторы недели спали на земле и ели, что придётся. Для нас эти летние хижины сейчас были шикарнее дворцов с балдахинами и канделябрами.
Дав указания взводным, я поручил Деду и Бале наладить быт, а сам устроился в открытой беседке, развернул на столике карту и начал прикидывать ситуацию к носу.
– Товарищ командир, – отвлёк меня Баля, – гляньте-ка сюда.
Я повернулся. Рядом с моим вестовым стояли три женщины в истрёпанных платьях в окружении шести чумазых детишек разного пола и возраста.
– В домике прятались. Говорят, не помнят, когда ели, перепуганы до смерти.
Я вышел из беседки:
– Вы кто такие и, что здесь делаете?
– Товарищи! Наши! Миленькие! – отчаянный крик перешёл в глухие рыдания, и женщины бросились мне на шею. Ничего не понимая, дети облепили нас с наружи и с перепугу принялись громко плакать и теребить материнские подолы. Совершенно опешивший в оцепенении я стоял в центре этой кучи-малы и не понимал, что происходит. Не прошло и минуты, как вокруг беседки собралась почти вся рота, образовав ещё один круг.
Кое-как я успокоил женщин, заставил их присесть на скамейки, одновременно слегка ругнувшись на бойцов, которые начали совать ребятишкам всякую снедь. После голода от такой пищевой перегрузки дети могли серьёзно заболеть. Я глазами указал Деду на беженцев, тот понимающе кивнул и выбрался из толпы.
Старшая женщина, вытерла краем платка глаза, подняла голову, и на её измождённом лице появилась вымученная улыбка. Она прижала к себе детишек и начала рассказ. Оказывается, эти найдёныши, на второй день войны попали в плен и оказались в полевом концлагере под городком Крево. Пробыли в нём неделю, а три дня назад при помощи местных жителей бежали. Пробирались лесными и просёлочными дорогами, шли даже по ночам, порой несли обессилевших детей. Сюда добрались за несколько часов до нас. В концлагере они пробыли относительно недолго, но то, что пережили и о чём рассказали, заставило всех бойцов крепко сжать кулаки и до боли стиснуть зубы.
Кревский лагерь состоял из двух частей. В большей находились пленные красноармейцы и командиры, в меньшей гражданские люди, захваченные без документов и по доносу. Со слов беженцев немцы согнали в лагерь от пяти до восьми тысяч человек. За ту страшную неделю беженцы стали свидетелями нескольких показательных казней: дважды публично расстреляли большие группы евреев, командиров и комиссаров, потом собрали и пристрелили около сотни больных и раненых, а затем на глазах у всех повесили двух десятилетних мальчишек, которые от голода украли горбушку хлеба у унтера. Как сообщили солагерники, такие экзекуции проводились ежедневно с самого начала в больших или меньших масштабах. В гражданском секторе не прекращалось насилие над женщинами, часто в присутствии их детей. У матерей отнимали младенцев, поскольку их нечем было кормить, заживо кидали малышей в ямы с трупами и закапывали. В основном зверствовали предатели из числа пленных. Сами немцы не пачкали руки, и всю грязную работу делали эти иуды. Возглавлял палачей некий Павло, который сам себя называл «Гаджет».
Последнее слово пронзило меня, словно током, и вывело из ступора. Так себя мог назвать только мой одновременец. И это означало, что я был обязан разобраться с ним лично. Внутри меня словно туго затянулась заводная пружина.
После окончания рассказа, женщины показали покрытые ранами и кровоподтёками истощённые тела детей и тихо заплакали. Дети испуганно прижались к матерям, а бойцы до побеления сжали кулаки и угрюмо перекатывали желваки. Я тихо свирепел. От гнева буквально свело челюсти.
Скажу прямо, не смотря на клокотавшую внутри меня ярость, внезапно свалившаяся, как кирпич на голову, ситуация загнала меня в тупик. Сами понимаете, рота не воевала сама по себе, была неотъемлемой частью Красной Армии и подчинялась приказам командующих. Потому я не мог самовольно приказать бойцам, но точно знал одно, чтобы совесть не задушила, сам сделаю всё возможное и невозможное, чтобы спасти пленных. Тем более что отчасти причиной их бедствий стали наши победы в последних боях. Почему? А потому, что немцев чрезвычайно встревожил неожиданный отпор Красной Армии на этом участке фронта, и они начали спешно отодвигать свою инфраструктуру на запад. Но, поскольку такую массу пленных быстро эвакуировать невозможно, при приближении Красной Армии их попросту ликвидируют, полностью или частично. Собственно говоря, гитлеровцы уже начали это делать.
Однако силовая акция по освобождению нескольких тысяч пленных во всех смыслах сильно смахивала на опасную и безнадёжную авантюру с вероятностью успеха близкой к нулю. Более того, даже в случае успеха, ещё большей проблемой станут сами освобождённые пленные. Предположим, мне удастся открыть ворота лагеря, и что дальше? А дальше всё просто. Тысячи настрадавшихся людей, вырвавшись на свободу, разбегутся и от голода и отчаяния разнесут в клочья все окрестности. В конце концов, их переловят и перебьют каратели.
Слава богу, долго ломать голову не пришлось, мои мучительные сомнения развеяли бойцы роты, единогласно и громко высказавшись за немедленное освобождение узников концлагеря. Так или иначе, это происшествие означало, что мои планы по небольшой передышке на природе осыпались как осенняя листва. К немалой куче проблем добавилась ещё одна вместе с сильным предчувствием смертельной опасности.
Дед увёл беженцев кормить кашей, а у меня кусок в горло не лез. Мы со взводными сразу засели за карту. Вопрос о разгроме концлагеря был решённым, но требовалось хорошенько обдумать, как сделать это правильно и как без потерь вывести людей из оккупированной территории? В конце концов, решили задействовать только постоянный состав роты и «бронированную» технику. В рейде наши трофейные камуфлированные грузовики, орудия и даже танк не должны вызвать у немцев подозрений, но для убедительности я предложил подобрать на последнем поле боя и поставить во главе колонны немецкий бронетранспортёр, а также надеть на наших ребят немецкие эсесовские каски и плащ-накидки. В таком виде сидящие в кузовах бойцы смотрелись бы, как рота ваффен СС.
Ещё одной проблемой был Пашка. Я решительно не хотел брать его с собой, и даже наорал на него, но парнишка, как клещ, вцепился в Деда и сказал, что без него не останется. А Дед, вызывающе поглядывая на меня, демонстративно чистил винтовку и в ответ на предложение остаться ухмыльнулся и заявил, что старый конь борозды не испортит, а воздух немцам легко.
В лесном лагере среди высоких деревьев вечер наступал быстрее. Решив дать роте спокойно отдохнуть хотя бы одну ночь, я никого не озадачил и предоставил полную свободу. Сам от ужина отказался. Есть не мог, рассказ женщин напрочь отбил вкус и обоняние. Хотелось побыть одному и подумать.
Ветерок чуть шелестел в кронах, шевелил кустарники и траву, ворошил прошлогоднюю листву. Ароматы вечернего леса разбудили воспоминания о прошлой жизни, и я почти физически почувствовал холодное дыхание вечности и утекающее отведённое мне в этом мире время. Приближающийся финал проявлялся нарастанием проблем и неопределённости текущих событий, которые фактически уже вышли из-под контроля, подобно несущемуся под уклон перегруженному грузовику без тормозов: кое-как рулить можно, а остановиться – нет. Сожалеть или возмущаться не было ни причин, ни смысла, ведь с самого начала я знал, что время моё ограничено, но немного смущала навязчивая мыслишка: вот вернусь я к нормальной жизни, а её уже и нет.
Несмотря на тёплый вечер, я зябко передёрнул плечами и вернулся в домик начальника пионерлагеря. Старая керосиновая лампа неярко освещала стол, застеленный картой-двухвёрсткой, над которой я склонился, перебирая в уме разные варианты. За этим занятием меня и застал капитан ГБ Самсонов, собственной персоной. Вопреки обычной привычке гебистов он зашёл тихо и один.
– Здравствуйте, Василий Захарович, – вдруг раздался за спиной знакомый голос.
– И вам поздорову, товарищ капитан госбезопасности, коль не шутите, – собрав в кулак всю волю и выдержку, я постарался не вздрогнуть и, поворачиваясь, нацепил маску спокойной уверенности. – Какими судьбами?
– Командование вас разыскивает, – он обшарил глазами помещение, – а на позициях роты почему-то не оказалось. Без приказа их оставили. Это серьёзное нарушение, если не сказать больше. Так сказать, набедокурили и свалили. – Его физиономию украсила глумливая ухмылка.
– Что-то не верится, что вы говорите от имени генералов Петрова или Голубева. А позиции я передал 33 танковой дивизии при личном участии комдива полковника Панова, начальника штаба и начальника особого отдела, о чём есть запись в боевом журнале роты и штабных документах дивизии, а также имеется акт передачи позиций за всеми подписями и печатями. Приказ командования мы выполнили и даже перевыполнили. Так что о нарушении, а тем более о преступлении, я полагаю говорить неуместно. Возвращаемся в Минск, и по пути сюда заскочили. Вот говорю сейчас с вами и сомневаюсь, нужны ли вообще эти объяснения. Ведь этот вопрос мне следует обсуждать исключительно и непосредственно с командованием или их вестовыми. Причём же здесь вы?
– Приказ, знаете ли,– бросил он в ответ с показным безразличием. – В отличие от некоторых я привык приказы выполнять неукоснительно. Вот я вас отыскал и сообщаю, что вам приказано завтра в 9-00 быть в Минске в штабе армии. А что касается заскоков, то они бывают разные. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Смекаешь о чём речь? – он мазнул насмешливым взглядом по разложенной на столе карте и укоризненно зацокал языком.
– Я вас понял, товарищ капитан и не смею задерживать.
– Обнаглел ты, лейтенант. – Его зрачки до предела сузились от ненависти. – С капитаном госбезопасности так разговариваешь. И я тебе обещаю, что ты пожалеешь об этом. Ох, пожалеешь. Обязательно пожалеешь. Кстати, куда это вы поутру собрались? – Блеснули глаза атакующего хищника. – В рейд какой-то? А командование о том знает? Ведь рейд-то на сторону врага. Не бежать ли собрались?
«В роте стукач. В роте стукач. В роте стукач», – запульсировало в голове, и состояние тут же опустилось до мерзопакостного. Однако показывать слабину и прогибаться было не к лицу, и, хорошо скрывая волнение, я брезгливо поморщился.
– Странно слышать от военного человека слова простительные бабушке колхознице. Общеизвестно, что боевые рейды всегда проходят по тылам врага. Как же можно проводить рейды по своей территории? Или вы намекаете, что это надо сделать? Странно, что это взбрело вам в голову. Тогда вам нужно срочно объясниться с вашим начальством. Во избежание, так сказать.
Он хорошо понял значение моего взгляда. Лицо капитана покрылось пятнами. Он судорожно открывал и закрывал рот, и наконец, в запале выговорил то, что до сих пор скрывал за своей обычной издевательской вкрадчивостью:
– Ты зарываешься, Батов. Твоя деятельность на особом контроле наркомата. Недолго тебе осталось балаганить, сука. Не я, так другой свернёт тебе шею, тварь.
– Вот зря вы, товарищ капитан госбезопасности, начали задавать несвоевременные вопросы и вывалили непотребный ворох обвинений. Так хорошо и вежливо начали и так плохо закончили. Уж лучше бы вы молчали, ведь пока умный молчит, и дурак молчит, их никто не различит.
– Я сказал, ты услышал, – процедил он сквозь зубы и вышел, хлопнув дверью, а я вдогонку послал его по матушке.
Я хорохорился, но на самом деле визит особиста слегка ошеломил. От генерала Петрова я знал о повышенном интересе безопасности, а теперь точно убедился, что по уши вляпался в неблагонадёжность.
С другой стороны, утешительным призом стали открытые карты безопасников, однозначно определившие их ко мне отношение и планы. Во всяком случае ситуация приобрела ясные очертания и конкретику, поставив меня перед небогатым выбором: исполнить приказ, отправиться в Минск и пойти на дыбу к гебешникам, или исполнить долг совести и потом сразу взойти на плаху. Собственно говоря, в обоих случаях финал мало отличался, ибо здешний властный кагал мою судьбу уже определил и черту под моей жизнью подвёл. Но принципиально отличался результат. В первом случае – бессмысленное и безвестное заклание, во втором – смерть во имя спасения тысяч людей. Кроме всего прочего меня больно зацепило осознание того, что в роте притаился гебешный стукач, а времени его выявить и изолировать у меня не было. От этого на душе стало ещё более пакостно.
Итак, мало того, что проблемы стали нарастать снежным комом и важнейший вопрос о судьбе моей роты оставался открытым, но и моя самоуверенность на этот раз тоже меня подвела. Всё это означало одно: пружина событий напряглась до предела и была готова сорваться и врезать по роже.
От непомерного груза голова, казалось, была готова лопнуть, и я прислонился горячим лбом к тёмному ночному окошку. Я не заметил, как в комнату вошли Дед, Баля, оба взводных, Пилипенко, Варик, Миронович и Сажин. Дед потряс меня будто только что помершего, а окрик встряхнул и отрезвил.
– Очнись, командир, и не бери в голову, – начал Дед, просто и спокойно озвучивая ответы на мои терзающие мозг мысли, – сам видишь, что нынче сволочи по обе стороны баррикады, а мы на ней. Мы чуток покумекали и меж собой рассудили, что безопасники уже состряпали дело, и хотят сделать тебя козлом отпущения. Стенки такие тонкие, а вы так громко орали, что все всё слышали. А значит, никому ничего объяснять не надо. Приказ приказом, но в неволе томятся наши люди, чьи-то братья, отцы, матери, сестры или сыновья с дочерями. И каждый день, каждую минуту кто-то из них погибает мучительной смертью. Скажи, зачем тогда мы одели эту форму, зачем нам личная броня и наше особое оружие, и для чего тогда все наши победы? Разве у наших генералов мы последняя рота? Что без нас они победить не смогут? Мы за неделю грохнули четыре танковые дивизии, и наверняка заслужили по дню отпуска за каждую. И вот за эти четыре дня мы и сделаем нужное дело, может быть самое важное в жизни. Так думают все.
– Спасибо, братцы. Но поймите меня правильно и не держите зла. Я не вправе решать ваши судьбы.
– Не гони волну, Василь Захарыч, – проговорил басом Пилипенко и страдальчески сморщился. – Многое я повидал и пережил немало, всего и не упомнишь. Голову зря не подставлял, но трусом никогда не был. А на тех безопасников плевать я хотел. Сытый голодного не разумеет. Для меня честь и совесть дороже. Видать такая судьба.