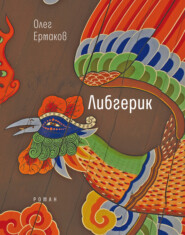По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По дороге в Вержавск
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Темен дед и внука во тьму загнать хочет.
– Мам, я уйду к дяде Семену, – пригрозил Сеня. – Пусть он меня сыном к себе возьмет. Буду Семеновичем, а не Андреевичем.
Мать изумленно уставилась на сына.
– Ты что, сынок? Что говоришь-то?
Тот упрямо боднул воздух.
– А что? Вон родственник Ильюхи: был Кузеньков, стал Задумов. Я тоже, когда вырасту окончательно, фамилию сменю.
– Чего городишь-то… Не нравится тебе фамилия.
– Да, не нравится. Она – кулацкая.
Мама испуганно оглянулась.
– Тшш, сынок… Глупый, что ли?..
– Нет, поменяю.
– Да на какую же?!
Сеня думал мгновенье:
– Лилиенталь!
Мама отшатнулась и перекрестилась.
– Сеня, мы христиане, а не жиды.
– А это и не жид.
– А кто же?
Сеня посмотрел на мать сурово и ответил:
– Немец.
Сказанное оказалось еще хуже. Лицо матери, загорелое, вечно моложавое, сероглазое, резко осунулось и постарело.
– Не-е-мец? – переспросила она.
Сеня кивнул и рассказал, что знал об этом немце, хотя толком ничего и не знал, только то, что сообщил Илье его родственник Игнат Задумов: умный немец инженер изобретал планеры и сам летал на них, пока не разбился в сорок с чем-то лет, и был он первым. Мать слушала, печально вытягивая губы и трогая иногда себя за щеку.
– Сеня, – сказала она, выслушав, – немец, он хуже жида. Он же, поганый, потравил твоего батьку. Газом. А жиды никого газом не травили. Ни поляки. Ни кто еще. Мысль не доходила. А у того у немца немилосердного – дошла.
Сеня угрюмо внимал. Он это знал. Но снова слушал рассказ матери.
А было так.
Папку взяли на войну с немцем, хотя ему уже и пять десятков стукнуло. Но Жарковская порода крепкая. Царский солдат дед Максим жил сто лет. Дед Дюрга Жар, видно, не меньше проживет. Ему вон сколько, а ходит молодцом.
Сеня не видел никогда своего отца вживую, только на фотокарточке: когда он в последний раз на побывку приезжал, а на селе как раз завелся свой фотограф Левинсон с громоздким аппаратом, и касплянцы ходили к нему фотографироваться. Пошли и Андрей с Софьей. И вот они на этой фотографической прямоугольной карточке: Софья в темном платье и белом ослепительном, как сугроб, платке стоит, положив руку на плечо сидящему на венском стуле бравому солдату в форме и фуражке, с лихо подкрученными усами, с Георгиевским крестом на груди: вид весь у него бодрый, а в темных близко посаженных глазах какой-то тоскливый вопрос… Или это так сейчас кажется?
Андрей, по наущению деда, вот чем занимался: по весне запрягал Чайку, черно-белую кобылку, да отправлялся в Касплю и по всем окрестным деревням скупать скотину, кое-как перемогшую зиму. А травы доброй еще нет. А та скотинка на ладан дышит. Ему и уступали задешево, лишь бы избавиться. И он пригонял лядащих теляток, коровенок, бычков в Белодедово-Долядудье. Нанимал двух пастухов, а сын его Тимоха да Семенов сын Васька шли к ним в подпаски. И начиналась пастьба. Гоняли то лядащее стадо по дальним лужкам, по лесным закрайкам – всюду, где только можно было ущипнуть хоть клочок травки. Какая скотинка и околевала, но шкуру с нее сдирали да отдавали бабам, Устинья ими руководила, шкуру дубили в растворе, мяли, выделывали и потом шили жилетку или чего еще, рукавицы, даже шапку, треух. Мясо скармливали собакам. А остальные буренки хоть и пугали выпирающими ребрами да слезящимися огромными глазами, но жили, беспрерывно щипали травку и мох в лесу. А к середине лета и плотнее становились, убирали ребра-то. И к концу лета то было хорошее стадо, мычащее, блеющее. И как на березе лист золотился, папка с теми двоими пастухами направляли все разномастное стадо в сторону далекого города – Смоленска. Ну как далекого? Даже и сейчас далекого для Сени: за синими горами, за долами и лесами, а к тому же и за рекой Днепром. Почти полста километров будет. И как же Сене теперь хотелось туда поехать в бричке с батькой! Смоленск тот был ровно Египет из ветхой книжки и взятых дедом оттудова молитв. Какой-то Ирод захотел поубивать всех детей, и боженька сказал Ёсифу с Марьей: бягитя в Египет, спасайте сынка моего Исусика… Тут Сене невдомек было, почему же боженька сам не хочет его спасти? Уж неужели тот Ирод сильнее? Зачем же гонять с Ёсифом на осле аж в Египет? Кинул бы колесо тележное на башку Ироду – да и вся недолга. Или просто вызвал бы к себе в хоромы того Ирода, сделал ему внушение, перетянул бы вожжой. Тут и дед Дюрга Жар сгодился бы.
А в те времена этот Смоленск был как будто еще дальше.
И возвращался из неведомого Смоленска папка с полным возом всякого добра: рубах, портков, керосиновых ламп и керосина, хомутов, сапог, скобяного товара, соли. Зимой прямо в избе и устраивали лавку, продавали ситец да лампы окрестным жителям.
И всем хотелось в тот Смоленск пропутешествовать за всеми этими богатствами и впечатлениями.
Но папка никого не брал, даже подпасков Ваську с Тимохой, хотя они же все лето бегали за теми коровками, горланили, штаны в кустах драли, кровянились, от слепней тех, злыдней, отбивались, жарились на солнце, стыли вечерами, когда вдруг с севера задует, и дрыгадали утрами в травах таких росистых, что и никакой дождь не нужен, шаг, два – и уже мокр по самые уши. Это все и Сеня спознал позже, когда и сам подпаском ходил… Правда, тогда уже папка не гонял стадо в неведомый град за полями, за лесами и синей рекой Днепром на бойню.
И под белорусской Сморгонью, где восемьсот дней с гаком шли бои, газами немец папку и потравил. Его довезли до станции Рудня. И туда отправилась мама, почему не дед Дюрга Жар, неизвестно. Хотя чего ж неизвестного-то? Эка невидаль проехать по раскисшим осенним дорогам на телеге полсотни верст. Проехала с пустым гробом, забрала запеленатого мужа и вернулась под гогот гусиных стай, улетающих на юг.
Дед Дюрга горевал по сыну, любил он его более, чем младшего Семена, тоже воевавшего где-то с немцем. Все у него ладилось, правда, при таком-то советнике как дед Дюрга… Хоронили его на кладбище, что на взгорье над речкой Касплей. Дед Дюрга попа привез из Каспли, отца Ани, тогда еще просто отца, ну батюшку Романа, Анька ведь позже объявилась на свете этом. Тот читал молитвы, махал кадилом, а все слушали, понурясь, капая горячим воском со свечек на руки себе, на порты и платья. И все летящие гуси попу вроде как вторили или перечили, не сообразишь. Сеня как будто видел сам бледное лицо того мужика, что лежал в свежем гробу, но точно знал, что это не папка, всегда загорелый, скуластый, с подстриженными усами, блестящими карими глазами, родинкой на носу.
Что такого содеял папка немцу, и тот напустил на него отраву газовую?
И Софье тот немец таким представлялся: с рогами и железным хоботом, пускающим отраву. Поп потом на поминках толковал про зверя, изрыгающего духов нечистых, подобных жабам ядовитым, и говорил о битве у града Армагеддона. Хотя Андрея потравили в Сморгони… И казался тот немец рогатым и с железным хоботом, сидевшим верхом на саранче. У немца та саранча была величиной с лошадь, по слову попа Романа. И зубы у той лошади-саранчи были, как у льва, по бокам – железные крылья, а хвост как у крысы и на конце стрекало. Не враз сообразишь, кто страшнее и опаснее: немец или его лошадь.
Софья на похоронах уже и не плакала, все выплакала, покуда папку спеленатого из Рудни средь полей голых под грай вороний и гогот гусиный везла.
– Вот тебе и немец, – сказала со вздохом мама.
– Лилиенталь другой, и крылья у него полотняные, – упрямо возразил Сеня.
И мама замахнулась на него, сверкнула глазами.
– У-ух! Дурилка!
Сеня уклонился… И после этого разговора взял и пошел к дяде Семену и попросился к нему в семью. Дядя Семен, невысокий плотный, рукастый, с залысинами, светлым лбом, курносый, с русыми усами, и не подивился нисколько его просьбе. Закурил самодельную трубочку из березового капа и вскинул ясные глаза, сказал с дымом:
– А хорошо! Только с Фофочкой надо переговорить.
Фофочкой и звали его маму близкие. И Сеня побежал к матери, только пятки сверкали.
– Мам! Тебя дядь Семен зовет!
– Зачем? – спросила она.
– На переговоры!
– Ка-а-кие еще переговоры?
– Мам, ну не знаю…
– Мам, я уйду к дяде Семену, – пригрозил Сеня. – Пусть он меня сыном к себе возьмет. Буду Семеновичем, а не Андреевичем.
Мать изумленно уставилась на сына.
– Ты что, сынок? Что говоришь-то?
Тот упрямо боднул воздух.
– А что? Вон родственник Ильюхи: был Кузеньков, стал Задумов. Я тоже, когда вырасту окончательно, фамилию сменю.
– Чего городишь-то… Не нравится тебе фамилия.
– Да, не нравится. Она – кулацкая.
Мама испуганно оглянулась.
– Тшш, сынок… Глупый, что ли?..
– Нет, поменяю.
– Да на какую же?!
Сеня думал мгновенье:
– Лилиенталь!
Мама отшатнулась и перекрестилась.
– Сеня, мы христиане, а не жиды.
– А это и не жид.
– А кто же?
Сеня посмотрел на мать сурово и ответил:
– Немец.
Сказанное оказалось еще хуже. Лицо матери, загорелое, вечно моложавое, сероглазое, резко осунулось и постарело.
– Не-е-мец? – переспросила она.
Сеня кивнул и рассказал, что знал об этом немце, хотя толком ничего и не знал, только то, что сообщил Илье его родственник Игнат Задумов: умный немец инженер изобретал планеры и сам летал на них, пока не разбился в сорок с чем-то лет, и был он первым. Мать слушала, печально вытягивая губы и трогая иногда себя за щеку.
– Сеня, – сказала она, выслушав, – немец, он хуже жида. Он же, поганый, потравил твоего батьку. Газом. А жиды никого газом не травили. Ни поляки. Ни кто еще. Мысль не доходила. А у того у немца немилосердного – дошла.
Сеня угрюмо внимал. Он это знал. Но снова слушал рассказ матери.
А было так.
Папку взяли на войну с немцем, хотя ему уже и пять десятков стукнуло. Но Жарковская порода крепкая. Царский солдат дед Максим жил сто лет. Дед Дюрга Жар, видно, не меньше проживет. Ему вон сколько, а ходит молодцом.
Сеня не видел никогда своего отца вживую, только на фотокарточке: когда он в последний раз на побывку приезжал, а на селе как раз завелся свой фотограф Левинсон с громоздким аппаратом, и касплянцы ходили к нему фотографироваться. Пошли и Андрей с Софьей. И вот они на этой фотографической прямоугольной карточке: Софья в темном платье и белом ослепительном, как сугроб, платке стоит, положив руку на плечо сидящему на венском стуле бравому солдату в форме и фуражке, с лихо подкрученными усами, с Георгиевским крестом на груди: вид весь у него бодрый, а в темных близко посаженных глазах какой-то тоскливый вопрос… Или это так сейчас кажется?
Андрей, по наущению деда, вот чем занимался: по весне запрягал Чайку, черно-белую кобылку, да отправлялся в Касплю и по всем окрестным деревням скупать скотину, кое-как перемогшую зиму. А травы доброй еще нет. А та скотинка на ладан дышит. Ему и уступали задешево, лишь бы избавиться. И он пригонял лядащих теляток, коровенок, бычков в Белодедово-Долядудье. Нанимал двух пастухов, а сын его Тимоха да Семенов сын Васька шли к ним в подпаски. И начиналась пастьба. Гоняли то лядащее стадо по дальним лужкам, по лесным закрайкам – всюду, где только можно было ущипнуть хоть клочок травки. Какая скотинка и околевала, но шкуру с нее сдирали да отдавали бабам, Устинья ими руководила, шкуру дубили в растворе, мяли, выделывали и потом шили жилетку или чего еще, рукавицы, даже шапку, треух. Мясо скармливали собакам. А остальные буренки хоть и пугали выпирающими ребрами да слезящимися огромными глазами, но жили, беспрерывно щипали травку и мох в лесу. А к середине лета и плотнее становились, убирали ребра-то. И к концу лета то было хорошее стадо, мычащее, блеющее. И как на березе лист золотился, папка с теми двоими пастухами направляли все разномастное стадо в сторону далекого города – Смоленска. Ну как далекого? Даже и сейчас далекого для Сени: за синими горами, за долами и лесами, а к тому же и за рекой Днепром. Почти полста километров будет. И как же Сене теперь хотелось туда поехать в бричке с батькой! Смоленск тот был ровно Египет из ветхой книжки и взятых дедом оттудова молитв. Какой-то Ирод захотел поубивать всех детей, и боженька сказал Ёсифу с Марьей: бягитя в Египет, спасайте сынка моего Исусика… Тут Сене невдомек было, почему же боженька сам не хочет его спасти? Уж неужели тот Ирод сильнее? Зачем же гонять с Ёсифом на осле аж в Египет? Кинул бы колесо тележное на башку Ироду – да и вся недолга. Или просто вызвал бы к себе в хоромы того Ирода, сделал ему внушение, перетянул бы вожжой. Тут и дед Дюрга Жар сгодился бы.
А в те времена этот Смоленск был как будто еще дальше.
И возвращался из неведомого Смоленска папка с полным возом всякого добра: рубах, портков, керосиновых ламп и керосина, хомутов, сапог, скобяного товара, соли. Зимой прямо в избе и устраивали лавку, продавали ситец да лампы окрестным жителям.
И всем хотелось в тот Смоленск пропутешествовать за всеми этими богатствами и впечатлениями.
Но папка никого не брал, даже подпасков Ваську с Тимохой, хотя они же все лето бегали за теми коровками, горланили, штаны в кустах драли, кровянились, от слепней тех, злыдней, отбивались, жарились на солнце, стыли вечерами, когда вдруг с севера задует, и дрыгадали утрами в травах таких росистых, что и никакой дождь не нужен, шаг, два – и уже мокр по самые уши. Это все и Сеня спознал позже, когда и сам подпаском ходил… Правда, тогда уже папка не гонял стадо в неведомый град за полями, за лесами и синей рекой Днепром на бойню.
И под белорусской Сморгонью, где восемьсот дней с гаком шли бои, газами немец папку и потравил. Его довезли до станции Рудня. И туда отправилась мама, почему не дед Дюрга Жар, неизвестно. Хотя чего ж неизвестного-то? Эка невидаль проехать по раскисшим осенним дорогам на телеге полсотни верст. Проехала с пустым гробом, забрала запеленатого мужа и вернулась под гогот гусиных стай, улетающих на юг.
Дед Дюрга горевал по сыну, любил он его более, чем младшего Семена, тоже воевавшего где-то с немцем. Все у него ладилось, правда, при таком-то советнике как дед Дюрга… Хоронили его на кладбище, что на взгорье над речкой Касплей. Дед Дюрга попа привез из Каспли, отца Ани, тогда еще просто отца, ну батюшку Романа, Анька ведь позже объявилась на свете этом. Тот читал молитвы, махал кадилом, а все слушали, понурясь, капая горячим воском со свечек на руки себе, на порты и платья. И все летящие гуси попу вроде как вторили или перечили, не сообразишь. Сеня как будто видел сам бледное лицо того мужика, что лежал в свежем гробу, но точно знал, что это не папка, всегда загорелый, скуластый, с подстриженными усами, блестящими карими глазами, родинкой на носу.
Что такого содеял папка немцу, и тот напустил на него отраву газовую?
И Софье тот немец таким представлялся: с рогами и железным хоботом, пускающим отраву. Поп потом на поминках толковал про зверя, изрыгающего духов нечистых, подобных жабам ядовитым, и говорил о битве у града Армагеддона. Хотя Андрея потравили в Сморгони… И казался тот немец рогатым и с железным хоботом, сидевшим верхом на саранче. У немца та саранча была величиной с лошадь, по слову попа Романа. И зубы у той лошади-саранчи были, как у льва, по бокам – железные крылья, а хвост как у крысы и на конце стрекало. Не враз сообразишь, кто страшнее и опаснее: немец или его лошадь.
Софья на похоронах уже и не плакала, все выплакала, покуда папку спеленатого из Рудни средь полей голых под грай вороний и гогот гусиный везла.
– Вот тебе и немец, – сказала со вздохом мама.
– Лилиенталь другой, и крылья у него полотняные, – упрямо возразил Сеня.
И мама замахнулась на него, сверкнула глазами.
– У-ух! Дурилка!
Сеня уклонился… И после этого разговора взял и пошел к дяде Семену и попросился к нему в семью. Дядя Семен, невысокий плотный, рукастый, с залысинами, светлым лбом, курносый, с русыми усами, и не подивился нисколько его просьбе. Закурил самодельную трубочку из березового капа и вскинул ясные глаза, сказал с дымом:
– А хорошо! Только с Фофочкой надо переговорить.
Фофочкой и звали его маму близкие. И Сеня побежал к матери, только пятки сверкали.
– Мам! Тебя дядь Семен зовет!
– Зачем? – спросила она.
– На переговоры!
– Ка-а-кие еще переговоры?
– Мам, ну не знаю…