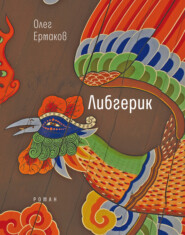По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По дороге в Вержавск
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Знаешь. Говори. Про то самое?.. Да?
Сеня кивнул. И мама Фофочка, всегда покладистая, ласковая огрела сына крестьянской дланью. Сеня только зубы стиснул и втянул голову в плечи. Ну а мама Фофочка вдруг заплакала, побежали по ее загорелым щекам крупные слезы.
– Как же ты можешь… Сеня… это предательство, – всхлипывая, бормотала она.
Нахохленный Сеня угрюмо слушал.
– То немец этот… – шептала мама.
– Дядь Семен не немец, – буркнул Сеня.
– А поросль того солдата-душегуба, – сказала в сердцах мама.
Сеня вспыхнул, быстро глянул на нее. Значит, и она разбойную версию знает! Он тут же хотел расспросить, но опомнился. Сейчас не про то речь.
– Ма, ну так… на переговоры-то?
Она не отвечала.
И может быть, Фофочка так и не предприняла бы никаких шагов, но тут Сеня вот, что сказал:
– Даже поп Анькин вышел из рясы своей ради ученья.
Она взглянула недоверчиво на сына, смаргивая ресницами слезы.
– Что балакаешь-то? Трепло…
– Я балакаю?! – вскричал Сеня как ужаленный. – А ты не слыхала еще? Все, ушел, расстригой заделался! Аминь, как говорится. Баста.
– Отец Роман?
– Он самый!
– Да как же такое возможно… Он же такой тщательный, усердный, нравный… – бормотала мама, хлопая мокрыми ресницами.
– Вот с усердием об Аньке и решил. Она же докторшей быть мечтает. А какая докторша без хотя бы семилетки? И кто ее дальше в ученье возьмет, дочку попа? Все ей пути перекрыты. Всему прошлому, темному, дремучему пути позакрыты, ага. И это вразумляет людей, а только не деда и тебя! Наше будущее с Варькой тебя не трогает, ма!
Мама всматривалась пытливо в лицо сына.
– Но ты же… не балуешь, Сень? Правду поведал?
– Про расстригу? Вот ей-богу! И он уже ходил к директору, а в школе шкрабов не хватает, и, скорей всего, его сделают нашим учителем!
– Да ну?..
– А чего? Раньше-то попы и учили, все говорят.
– Так то раньше, сынок. В России. А теперь времена другие… советские.
– Россия и есть, но уже советская. А прежнее слезло, как лягушачья шкурка.
– Ой, не болтай…
– Ма, так что? Сходи к Семену-то на переговоры, а?
– Ай, подожди уж…
Вытерев слезы и успокоившись, она встала и ушла на двор, где возился с упряжью дед Дюрга. «У, кулачина, – помышлял Сеня. – И зовут-то как коряво: Дюрга Жар. Дюрга и есть. Все люди как люди, в колхоз перешли. Скоро и Семен с семейством в Касплю переедет. А мы тут будем, как волки. Сбегу к Семену. А то и вовсе куда-нибудь в Москву, к летному училищу поближе». В Смоленске, он уже выведал, такого учебного заведения нет. А в Москве живет этот родственник Ильи, студент, что учится на инженера, Игнат Задумов, раз он им с той птичьей книгой помогал, то, глядишь, и будущему летчику пособит как-нибудь.
Вернулась мать, лицо ее было заметно бледным, грудь вздымалась, губы были плотно сжаты, глаза узки. Сеня следил за ней. Она темно глянула на него и сказала:
– А теперь собирайте с Варькой узлы, покудова я буду ходить в правление.
Сеня хлопал глазами.
– К-какие узлы, ма?
– С барахлом всяким! – почти крикнула мать. – На улице в Каспле поселимся!..
8
И она действительно собралась и ушла в село, в правление, где и написала заявление о вступлении в колхоз. Дед Дюрга ей поставил ультиматум: колхоз или его дом. И всегда подчиненная его воле невестка вдруг забунтовала. Дед Дюрга был потрясен, но непреклонен. Когда Фофочка вернулась из Каспли и сказала громко, чтоб все слышали в вечернем уже притихшем дому, озаренном светом керосиновых ламп: «Варька и Сенька! Будете учиться», дед Дюрга тут же ответил громово: «Но не в моей хате!» Баба Устинья запричитала, но Дюрга на нее так рявкнул, что она тут же затихла.
– Но и мы тут чего-то нажили, – ответила Фофочка дрожащим голосом. – Потому сразу не выселимся.
– Да я вас прямо сейчас выставлю! – заревел Дюрга Жар.
– А мы не уйдем! – ответила прерывающимся голосом Фофочка.
Дюрга расхохотался так, что зазвенели стаканы в буфете.
– Не уйдете?! – крикнул он. – Так колхозники вы или приживалы и нищеброды?
– Ах так! – воскликнула Фофочка и крикнула детям: – Собирайтеся!
Баба Устинья снова запричитала и не унималась, хотя Дюрга и бранился. А Фофочка, жарко блестя глазами в сумраке, металась по хате и действительно собирала вещи, одежду, посуду, увязывала в узлы.
– Ха-ха! Передовые телята! – смеялся дед Дюрга, глядя на внука и внучку.
И Сене хотелось его убить.
– Давайте, давайте, вперед, в передовики! В коммунизьм, его мать! – бушевал дед. – За это вашего батьку потравил фриц. За это с турками али с французами бился ваш дедушка Максим! За коммуну, мать ее!.. За обчее все! За бабу обчую, за жратву обчую. За Россию богадельню! Была при церкви-то богадельня, при Казанской. Вот, вот. Упразднили. Потому как теперь вся Расея – богадельня! Чтоб все одним одеялом укрывались. Все, да не все. Этим, в кожанках да в пенцне, все отдельное и по высшему разряду. А вам, мазурики вы клятые, дрань крестьянская, срань холопья, – вам горбушку на постном масле и обчее одеяло. И обчий голод. Будем одну собачью кость глодать, как то было уже в Поволжье. А грузин тот в Кремле перепелов жрал да рыгал. А с ним и татарин Щур, он же неспроста все щурится. Щур и есть. Экая пара нам на шею! Ладно, хоть один уже скопытился, Щур. А этот Крыс покудова и не собирается. И с обреза нихто его не попотчует, заразу. Мужика зорит. Бедноту превозносит – но токмо не повыше себя. Крыс да Щур! Новая сказка. Ее вам баба Марта Берёста не сказывала? Не сказывала? Крыс да Щур на Кремле баре, да еще был тот Лев, а по виду галка, и другой был поджарый с узкой мордой – чисто борзая. Мировой социализьм в образинах! Крыс да Щур, галка да борзая. А у нас – Ладыга да Дёмка Порезанный. Как они кинулись рыскать-раскулачивать крепких мужиков?! Аверкия Лукьяновича как они потрошили? Из печки чугунок с кашей выхватили, кашей образа в красном углу забросали, чугунок забрали. Белье мороженое с чердака стянули. Ложки-вилки похватали, чашки. Ну чего еще взять у богатея? Очки на носу усмотрели! Цап! А Даниила Иродионова как шерстили? С бабы платок тащили! С ребятишек валенки сымали, это в стужу-то. А у Трофима Федорова ничего и не сыскали, кроме семи яиц. И чего? Тут же побили в сковородку, пожарили и пожрали, революционеры голожопые! А Антония Ипатова чередили? Нажрались самогону и к его красавице Аглае полезли подол задирать. Антоний за кочергу. Шарахнул одного прямо по яйцам, всю охоту отшиб. Так они же ему той кочергой в квашеную капусту башку разбили. А слух пустили, что сопротивление комбеду оказал. А все ж знают, как было-то. Тати, тати и есть! И власть ихняя – татьба одна кровавая. Таким манером и ведут дело: чуть что – пырь ножиком, трах по зубам. Царь-то в сравнении анделом был. Всем учиться дозволял, хоть в земской школе, хоть в приходской. А Крыс, вишь, что сочинил. И крысята в той школе и получаются. И вы, вы, Сенька с Варькой, вы крысята и будете. Не ходите за маткой! Она сдурела. В самое пекло коллективное вас утягивает. Был бы живый ея мужик, мой Андрюха-то! Уж он бы па-а-стегал, па-а-стегал плеточкой.
– Врете вы, отец! Врете, Георгий Никифорович! – не выдержала Фофочка, пылая лицом. – Он не посмел никогда пальцем тронуть. Обходчивый был, Андрюша-то. Ни меня, ни детей. А немца бил. За то и Георгия дали. Он за позор почел бы так-то с бабой и детишками поступать. А вам и не совестно, Георгий Никифорович.
– Это ты меня-то позорить вздумала, колхозная ферма?
– Какая еще ферма?
Сеня кивнул. И мама Фофочка, всегда покладистая, ласковая огрела сына крестьянской дланью. Сеня только зубы стиснул и втянул голову в плечи. Ну а мама Фофочка вдруг заплакала, побежали по ее загорелым щекам крупные слезы.
– Как же ты можешь… Сеня… это предательство, – всхлипывая, бормотала она.
Нахохленный Сеня угрюмо слушал.
– То немец этот… – шептала мама.
– Дядь Семен не немец, – буркнул Сеня.
– А поросль того солдата-душегуба, – сказала в сердцах мама.
Сеня вспыхнул, быстро глянул на нее. Значит, и она разбойную версию знает! Он тут же хотел расспросить, но опомнился. Сейчас не про то речь.
– Ма, ну так… на переговоры-то?
Она не отвечала.
И может быть, Фофочка так и не предприняла бы никаких шагов, но тут Сеня вот, что сказал:
– Даже поп Анькин вышел из рясы своей ради ученья.
Она взглянула недоверчиво на сына, смаргивая ресницами слезы.
– Что балакаешь-то? Трепло…
– Я балакаю?! – вскричал Сеня как ужаленный. – А ты не слыхала еще? Все, ушел, расстригой заделался! Аминь, как говорится. Баста.
– Отец Роман?
– Он самый!
– Да как же такое возможно… Он же такой тщательный, усердный, нравный… – бормотала мама, хлопая мокрыми ресницами.
– Вот с усердием об Аньке и решил. Она же докторшей быть мечтает. А какая докторша без хотя бы семилетки? И кто ее дальше в ученье возьмет, дочку попа? Все ей пути перекрыты. Всему прошлому, темному, дремучему пути позакрыты, ага. И это вразумляет людей, а только не деда и тебя! Наше будущее с Варькой тебя не трогает, ма!
Мама всматривалась пытливо в лицо сына.
– Но ты же… не балуешь, Сень? Правду поведал?
– Про расстригу? Вот ей-богу! И он уже ходил к директору, а в школе шкрабов не хватает, и, скорей всего, его сделают нашим учителем!
– Да ну?..
– А чего? Раньше-то попы и учили, все говорят.
– Так то раньше, сынок. В России. А теперь времена другие… советские.
– Россия и есть, но уже советская. А прежнее слезло, как лягушачья шкурка.
– Ой, не болтай…
– Ма, так что? Сходи к Семену-то на переговоры, а?
– Ай, подожди уж…
Вытерев слезы и успокоившись, она встала и ушла на двор, где возился с упряжью дед Дюрга. «У, кулачина, – помышлял Сеня. – И зовут-то как коряво: Дюрга Жар. Дюрга и есть. Все люди как люди, в колхоз перешли. Скоро и Семен с семейством в Касплю переедет. А мы тут будем, как волки. Сбегу к Семену. А то и вовсе куда-нибудь в Москву, к летному училищу поближе». В Смоленске, он уже выведал, такого учебного заведения нет. А в Москве живет этот родственник Ильи, студент, что учится на инженера, Игнат Задумов, раз он им с той птичьей книгой помогал, то, глядишь, и будущему летчику пособит как-нибудь.
Вернулась мать, лицо ее было заметно бледным, грудь вздымалась, губы были плотно сжаты, глаза узки. Сеня следил за ней. Она темно глянула на него и сказала:
– А теперь собирайте с Варькой узлы, покудова я буду ходить в правление.
Сеня хлопал глазами.
– К-какие узлы, ма?
– С барахлом всяким! – почти крикнула мать. – На улице в Каспле поселимся!..
8
И она действительно собралась и ушла в село, в правление, где и написала заявление о вступлении в колхоз. Дед Дюрга ей поставил ультиматум: колхоз или его дом. И всегда подчиненная его воле невестка вдруг забунтовала. Дед Дюрга был потрясен, но непреклонен. Когда Фофочка вернулась из Каспли и сказала громко, чтоб все слышали в вечернем уже притихшем дому, озаренном светом керосиновых ламп: «Варька и Сенька! Будете учиться», дед Дюрга тут же ответил громово: «Но не в моей хате!» Баба Устинья запричитала, но Дюрга на нее так рявкнул, что она тут же затихла.
– Но и мы тут чего-то нажили, – ответила Фофочка дрожащим голосом. – Потому сразу не выселимся.
– Да я вас прямо сейчас выставлю! – заревел Дюрга Жар.
– А мы не уйдем! – ответила прерывающимся голосом Фофочка.
Дюрга расхохотался так, что зазвенели стаканы в буфете.
– Не уйдете?! – крикнул он. – Так колхозники вы или приживалы и нищеброды?
– Ах так! – воскликнула Фофочка и крикнула детям: – Собирайтеся!
Баба Устинья снова запричитала и не унималась, хотя Дюрга и бранился. А Фофочка, жарко блестя глазами в сумраке, металась по хате и действительно собирала вещи, одежду, посуду, увязывала в узлы.
– Ха-ха! Передовые телята! – смеялся дед Дюрга, глядя на внука и внучку.
И Сене хотелось его убить.
– Давайте, давайте, вперед, в передовики! В коммунизьм, его мать! – бушевал дед. – За это вашего батьку потравил фриц. За это с турками али с французами бился ваш дедушка Максим! За коммуну, мать ее!.. За обчее все! За бабу обчую, за жратву обчую. За Россию богадельню! Была при церкви-то богадельня, при Казанской. Вот, вот. Упразднили. Потому как теперь вся Расея – богадельня! Чтоб все одним одеялом укрывались. Все, да не все. Этим, в кожанках да в пенцне, все отдельное и по высшему разряду. А вам, мазурики вы клятые, дрань крестьянская, срань холопья, – вам горбушку на постном масле и обчее одеяло. И обчий голод. Будем одну собачью кость глодать, как то было уже в Поволжье. А грузин тот в Кремле перепелов жрал да рыгал. А с ним и татарин Щур, он же неспроста все щурится. Щур и есть. Экая пара нам на шею! Ладно, хоть один уже скопытился, Щур. А этот Крыс покудова и не собирается. И с обреза нихто его не попотчует, заразу. Мужика зорит. Бедноту превозносит – но токмо не повыше себя. Крыс да Щур! Новая сказка. Ее вам баба Марта Берёста не сказывала? Не сказывала? Крыс да Щур на Кремле баре, да еще был тот Лев, а по виду галка, и другой был поджарый с узкой мордой – чисто борзая. Мировой социализьм в образинах! Крыс да Щур, галка да борзая. А у нас – Ладыга да Дёмка Порезанный. Как они кинулись рыскать-раскулачивать крепких мужиков?! Аверкия Лукьяновича как они потрошили? Из печки чугунок с кашей выхватили, кашей образа в красном углу забросали, чугунок забрали. Белье мороженое с чердака стянули. Ложки-вилки похватали, чашки. Ну чего еще взять у богатея? Очки на носу усмотрели! Цап! А Даниила Иродионова как шерстили? С бабы платок тащили! С ребятишек валенки сымали, это в стужу-то. А у Трофима Федорова ничего и не сыскали, кроме семи яиц. И чего? Тут же побили в сковородку, пожарили и пожрали, революционеры голожопые! А Антония Ипатова чередили? Нажрались самогону и к его красавице Аглае полезли подол задирать. Антоний за кочергу. Шарахнул одного прямо по яйцам, всю охоту отшиб. Так они же ему той кочергой в квашеную капусту башку разбили. А слух пустили, что сопротивление комбеду оказал. А все ж знают, как было-то. Тати, тати и есть! И власть ихняя – татьба одна кровавая. Таким манером и ведут дело: чуть что – пырь ножиком, трах по зубам. Царь-то в сравнении анделом был. Всем учиться дозволял, хоть в земской школе, хоть в приходской. А Крыс, вишь, что сочинил. И крысята в той школе и получаются. И вы, вы, Сенька с Варькой, вы крысята и будете. Не ходите за маткой! Она сдурела. В самое пекло коллективное вас утягивает. Был бы живый ея мужик, мой Андрюха-то! Уж он бы па-а-стегал, па-а-стегал плеточкой.
– Врете вы, отец! Врете, Георгий Никифорович! – не выдержала Фофочка, пылая лицом. – Он не посмел никогда пальцем тронуть. Обходчивый был, Андрюша-то. Ни меня, ни детей. А немца бил. За то и Георгия дали. Он за позор почел бы так-то с бабой и детишками поступать. А вам и не совестно, Георгий Никифорович.
– Это ты меня-то позорить вздумала, колхозная ферма?
– Какая еще ферма?