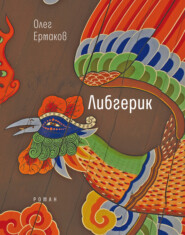По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Родник Олафа
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Футрина надвигается, – говорил он, поглядывая на небо.
Небо заволакивала багровая пелена. И отец с Зазыбой Тумаком еще и еще вплетали в шалаш березовых веток. Месяц в этот вечер лишь на мгновение появился над березняком и исчез. Задувал теплый сильный ветер. От костра далеко летели искры. Сычонок за ними следил.
И когда стемнело, вдалеке, где-то за лесами, пошли вспышки зарниц.
– Илия-пророк на колеснице скачет, – молвил отец.
– Или Перун идет со своею дружиною волчьей, – отозвался Страшко Ощера.
– А то и сам Всеслав Чародей, – добавил Зазыба Тумак, как обычно, шепелявя.
«То наш ковач[18 - Кузнец.] Воибор Власенятый в кузне огонь раздувает», – хотел сказать и Сычонок, да как скажешь? Остается только слушать. И он сидел и слушал, черпал новенькой ложкой густую жирную похлебку из котла, дул на нее, остужая, отправлял в рот. И мужики ели. И говорили про всякое. Что, мол, это чертова свадьба там скачет, пляшет, беснуется…
Поев, отец тихонько запел:
Ходит Илья
На Василья,
Носит пугу
Житяную;
Де замахне —
Жито росте…
Зазыба Тумак засмеялся хрипло.
– Эва хватил, Возгорь! Василья[19 - Васильев день – 1 января.] – он же вона егда ишшо будет, в самый холодный день!
– Илия и чичас как раз житу жизнь даёть, – отвечал отец и продолжал негромко напевать:
Жито, пшеницу,
Всяку пашницу,
У поле ядро,
А в доме добро…
– Такожде и я спею! – воскликнул Страшко Ощера и запел дурашливым писклявым голосом:
А разлюбезныя подруженьки,
А не поритя мою белую грудю!..
Что мое-то ретиво сердечеко
Все повыныло, повымерло,
Без морозу-то оно повысохло,
Без ржавчины оно заржавело!
Разлучил меня молодешеньку,
Со всем моим родом-племенем,
И с вами, мои подруженьки,
Разлюбезныя, расприятныя-а-а!
И он повел ложкой в сторону одноглазого Зазыбы Тумака и Возгоря Ржевы. Все захохотали так, что где-то поблизости утки с испугу заполошились, закрякали, полетели.
– Чегой-то ты?! – воскликнул отец.
– Дак кто молвил про чертову свадьбу? Вот свадебную и запел.
– А ты и впрямь как чертяка, – сказал отец и перекрестился.
– Чертовка, – поправил его Страшко Ощера и, охорашиваясь, как баба, поправил свой длинный чуб.
Все снова засмеялись, не утерпел и Сычонок. Только смеяться как другие он и умел.
А зарницы из-за тех лесов далеких как будто наступали воинством великим, сюда шли. И уже доносились раскаты грома. Подул ветер. Соловьи все замолкли, затаились. Только костер трещал и метал искры яростно.
И когда все улеглись, налетел сильный ветер, вздул притухший костер так, что и сквозь густые ветки свет его проник в шалаш. Все ворочались, кряхтели. Вода заплескалась в Гобзе.
– Вот свадьба и сюды доскакала, – пробормотал Страшко Ощера.
И вдруг пыхнуло еще ярче, будто в небе великий костер загорелся и тут же погас. И следом обрушился гром камнями большими. Сычонок крепко глаза закрыл. Снова пыхнуло жутко белым, и опять загрохотало так, что земля под ними затряслась.
– Ну? – хрипло спросил Зазыба Тумак.
– Чего? – переспросил отец.
– Читай молитву…
Отец помолчал, прокашлялся и начал тихо, потом громче: «О прехвальный и пречудный пророче Божий Илие, просиявый на земли равноангельским житием твоим, пламеннейшею ревностию по Господу Богу Вседержителю, еще же знамении и чудесы преславными, таже по крайнему благоволению к тебе Божию восхищенный на огненней колеснице с плотию твоею на небо…»
И тут снова вспыхнуло и ударило так яростно, будто некий злой безумец-силач разодрал надвое материю, раскинувшуюся от края земли до края, крепкую словно береста. Берестяное небо и разодралось, полыхнуло пламенем.
«Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, преспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе…»
Последние слова потонули в новом грохоте, а потом шуме ливня. Реки небесные хлынули на землю, Гобзу, березняк и шалашик. Сперва шалашик держал воду, но скоро вода засочилась внутрь, закапала на плотогонов. Страшко Ощера достал дерюгу и накрыл всех. Сычонок к теплому боку батьки прижимался. А снаружи лило и грохотало, сверкало. Уже мнилось, что Гобза тут, вокруг шалашика плещется, вышла из берегов. Капли уже густо падали на дерюгу. Как тут спать? Да вдруг среди шума этого дождевого Сычонок различил странные звуки… Прислушался. Ну, точно – Зазыба Тумак храпел. А остальные не спали. Страшко Ощера что-то бормотал. Скоро Сычонок уловил имя Перуна, господина громовника. «Ой, гульк вода!.. Бусь вода!.. Святым огнем не пожги, Перуне!.. Скинь стрелы в воду, в болото, в дерево-тучу, пусть унесет его Жыж». И отец вроде снова свою молитву Илие говорил… так и лежал Сычонок, трепеща, меж двух молитв, меж двух вер. А над ними небеса раздирались и огненными кусками падали, падали… да все не губили плотогонов-странничков. И уже Сычонок устал бояться, слушать, думать – да и свалился в глухую тьму.
5
Встали на другой день позже, чем в предыдущее утро, заспались нечаянно. Небо было хмурое. Все вокруг темнело после ночного ливня. Вода в реке и вправду поднялась.
– А то нам и на руку, – проговорил отец, умываясь в Гобзе.
Птицы пели. У них такая пора – петь и петь, хорош ли день или пасмурен.
– Ну, Ощера, что там тебе шепчут русалки? – спросил Зазыба Тумак. – Будет дождь али нет?
Страшко Ощера раздувал огонь, утирал слезящиеся глаза, отмахивался и ничего не отвечал.
А как похлебка согрелась, сказал громко:
– Вали на ядь! Брюха брячина[20 - Пир.]!
– Брячину мы учиним в Видбеске, как продадим дубье все, – сказал отец. – Да рухлядь мягкую.