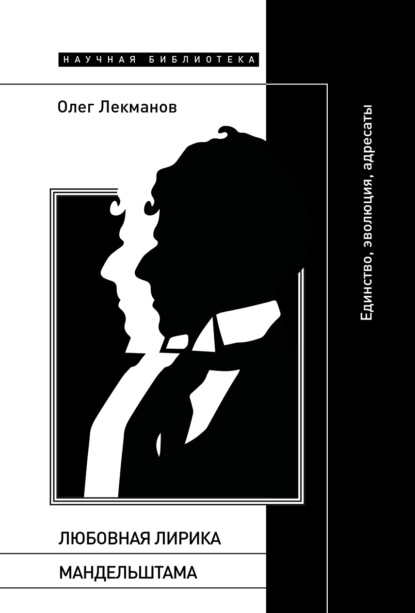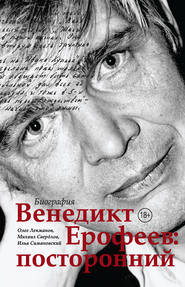По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Любовная лирика Мандельштама. Единство, эволюция, адресаты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Снег умилостивил мне взгляд,
На пригорке монастырь светел
И от снега – свят.
Вы снежинки с груди собольей
Мне сцеловываете, друг,
Я на дерево гляжу, – в поле
И на лунный круг.
За широкой спиной ямщицкой
Две не встретятся головы.
Начинает мне Господь – сниться,
Отоснились – Вы[117 - Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 247.].
Меховое одеяние спутницы упоминается и в стихотворении Мандельштама 1916 года «В разноголосице девического хора…», как и стихотворение «На розвальнях, уложенных соломой…», навеянном прогулками с Цветаевой по древней Москве:
В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.
Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.
И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне – явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой[118 - Альманах муз. Пг., 1916. С. 112. Подробней об этом стихотворении см.: Schlott W. Zur Funktion antiker Go?ttermythen in der Lyrik Osip Mandel’stams. Frankfurt a.M.; Bern, 1981. S. 116–133.].
Если для понимания стихотворения «На розвальнях, уложенных соломой…» идеальному читателю нужно было держать в голове имя мандельштамовской спутницы, идеальный читатель стихотворения «В разноголосице девического хора…» должен был вовремя припомнить ее фамилию. Эта фамилия, по точному устному наблюдению Вадима Борисова, зашифрована в последней строке предпоследней строфы: «Успенье нежное – Флоренция в Москве» (лат. florentia) – цветущая). Межъязыковой каламбур Мандельштама оказывается ключом к пониманию стихотворения для читателя, знающего, с кем оно связано (в первое время после написания стихотворения таким читателем была едва ли не одна Цветаева).
В начальной строфе сквозь очертания Успенского кремлевского собора, построенного итальянцем Аристотелем Фиораванти, проступает лицо женщины. Вторая строфа содержит почти прямой намек на имя (фамилию) возлюбленной поэта как на ключ к пониманию стихотворения («По русском имени и русской красоте»)[119 - Разумеется, имя Марина не русского происхождения, а латинского. Но ведь и по крюкам в начале ХX века пели старообрядцы, которых православными не называли.]. В третьей строфе оксюморон «Флоренция в Москве» отсылает понимающего читателя и к построенному Фиораванти Успенскому кремлевскому собору, и к образу возлюбленной поэта. Причем для характеристики Цветаевой этот оксюморон подходит даже лучше, чем для определения деятельности архитекторов кремлевских соборов: ни Аристотель Фиораванти, ни проектировщик Архангельского собора Алевиз Новый во Флоренции никогда не строили[120 - Впрочем, по наблюдению Л. М. Видгофа, фамилия «Фиораванти» тоже восходит к итальянскому слову «цветок» (Видгоф Л. М. «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам. Поэт и город: Книга-экскурсия. М., 2012. С. 37).]. А в четвертой, финальной строфе проводится откровенная параллель между итальянскими «кремлевскими соборами» и возлюбленной поэта, появляющейся в стихотворении в обличии богини утренней зари Авроры, «но с русским именем и в шубке меховой». Скорее всего, здесь подразумевается шуба, позднее упомянутая Цветаевой в очерке «Мои службы» 1919 года: «Моя тигровая шуба (леопард? барс?), которую Мандельштам, влюбившись в Москву, упорно величал боярской»[121 - Цветаева М. Мои службы // Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 4. С. 468.].
Можно высказать осторожное предположение, что стихотворение «В разноголосице девического хора…» было написано как ответ на упрек, который Цветаева однажды бросила Мандельштаму во время их прогулки у стен Московского кремля. 21 июля 1916 года, уже после расставания с Мандельштамом, она рассказывала в письме к П. Юркевичу:
Никогда не забуду, в какую ярость меня однажды этой весной привел один человек – поэт, прелестное существо, я его очень любила! – проходивший со мной по Кремлю и, не глядя на Москву-реку и соборы, безостановочно говоривший со мной обо мне же. Я сказала: «Неужели Вы не понимаете, что небо – поднимите голову и посмотрите! – в тысячу раз больше меня, неужели Вы думаете, что я в такой день могу думать о Вашей любви, о чьей бы то ни было. Я даже о себе не думаю, а, кажется, себя люблю!»[122 - Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. С. 24.]
В стихотворении «В разноголосице девического хора…» Мандельштам продолжил говорить с Цветаевой «с ней же о ней же», однако материалом для разговора послужили кремлевские соборы и то небо, на которое Цветаева Мандельштаму в раздражении указала: «Не диво ль дивное, что вертоград нам снится, / Где реют голуби в горячей синеве».
3
Как это часто бывало с Цветаевой, ее чувство стало угасать первым. Уже в письме к сестре мужа, Сергея Эфрона, Елизавете (Лиле), отправленном в середине мая 1916 года, Цветаева охарактеризовала Мандельштама так:
Конечно, он хороший, я его люблю, но он страшно слаб и себялюбив, это и трогательно и расхолаживает. Я убеждена, что он еще не сложившийся душою человек, и надеюсь, что когда-нибудь – через счастливую ли, несчастную ли любовь – научится любить не во имя свое, а во имя того, кого любит. Ко мне у него, конечно, не любовь, это – попытка любить, может быть и жажда. Скажите ему, что я прекрасно к нему отношусь и рада буду получить от него письмо – только хорошее![123 - Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. Изд. 3?е, испр. и доп. С. 105. В черновом варианте текста, получившего рабочее название «Мой ответ Осипу Мандельштаму» (1926), Цветаева писала, вероятно, вспоминая май 1916 года: «Я тебя любил и больше не люблю. Я не тебя любил, а свою мечту о тебе. – Так, кончив любить, говорит каждый» (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1994. С. 314).]
Так не пишут о человеке, которого любят. С еще бо?льшим холодом Цветаева изобразила Мандельштама в письме к той же Елизавете Эфрон от 12 июня 1916 года. Это письмо было отправлено через восемь дней после неожиданного приезда Мандельштама на один воскресный день (4 июня) в город Александров Владимирской губернии, где Цветаева с дочерью гостили в семье Анастасии Ивановны и ее мужа Маврикия Александровича Минца:
Лиленька, а теперь я расскажу Вам визит М<андельштама> в Александров. Он ухитрился вызвать меня к телефону: позвонил в Александров, вызвал Асиного прежнего квартирного хозяина и велел ему идти за Асей. Мы пришли и говорили с ним, он умолял позволить ему приехать тотчас же и только неохотно согласился ждать до следующего дня. На следующее утро он приехал. Мы, конечно, сразу захотели вести его гулять – был чудесный ясный день – он, конечно, не пошел, – лег на диван и говорил мало. Через несколько времени мне стало скучно и я решительно повела его на кладбище.
– «Зачем мы сюда пришли?! Какой ужасный ветер! И чему Вы так радуетесь?»
– «Так, – березам, небу, – всему!»
– «Да, потому что Вы женщина. Я ужасно хочу быть женщиной. Во мне страшная пустота, я гибну».
– «От чего?»
– «От пустоты. Я не могу больше вынести одиночества, я с ума сойду, мне нужно, чтобы обо мне кто-нибудь думал, заботился. Знаете, – не жениться ли мне на Лиле?»
– «Какие глупости!»
– «И мы были бы в родстве. Вы были бы моей belle-soeur!»
– «Да-да-а. Но Сережа не допустит».
– «Почему?»
– «Вы ведь ужасный человек, кроме того, у Вас совсем нет денег».
– «Я бы стал работать, мне уже сейчас предлагают 150 рублей в Банке, через полгода я получил бы повышение. Серьезно».
– «Но Лиля за Вас не выйдет. Вы в нее влюблены?»
– «Нет».
– «Так зачем же жениться?»
– «Чтобы иметь свой угол, семью…»
– «Вы шутите?»
– «Ах, Мариночка, я сам не знаю!»
День прошел в его жалобах на судьбу, в наших утешениях и похвалах, в еде, в литературных новостях. Вечером – впрочем, ночью, – около полночи, – он как-то приумолк, лег на оленьи шкуры и стал неприятным. Мы с Асей, устав, наконец, перестали его занимать и сели – Маврикий Алекс<андрович>, Ася и я в другой угол комнаты. Ася стала рассказывать своими словами Коринну, мы безумно хохотали. Потом предложили М<андельшта>му поесть. Он вскочил, как ужаленный.
– «Да что же это, наконец! Не могу же я целый день есть! Я с ума схожу! Зачем я сюда приехал! Мне надоело! Я хочу сейчас же ехать! Мне это, наконец, надоело!»
Мы с участием слушали, – ошеломленные. М<аврикий> А<лександрович> предложил ему свою постель, мы с Асей – оставить его одного, но он рвал и метал. – «Хочу сейчас же ехать!» – Выбежал в сад, но испуганный ветром, вернулся. Мы снова занялись друг другом, он снова лег на оленя. В час ночи мы проводили его почти до вокзала. Уезжал он надменный. Я забыла Вам рассказать, что он до этого странного выпада все время говорил о своих денежных делах: резко, оскорбленно, почти цинически. Платить вперед Пра за комнату он находил возмутительным и вел себя так, словно все, кому он должен, должны – ему. Неприятно поразила нас его страшная самоуверенность. – «Подождали – еще подождут. Я не виноват, что у меня всего 100 р<ублей>» – и т. д. Кроме того, страстно мечтал бросить Коктебель и поступить в монастырь, где собирался сажать картошку[124 - Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7. С. 90–92.].
Кажется очевидным, что тон удивления, взятый Цветаевой для описания поведения Мандельштама и его «странного выпада», – деланный, может быть потому, что писала она все-таки сестре мужа. Не нужно быть психологом, чтобы понять – отчаянный рывок Мандельштама в Александров перед поездкой в Коктебель стал последней попыткой удержать ускользающую возлюбленную. Чувство ужаса от совершающейся потери стоит и за мандельштамовской репликой «Во мне страшная пустота, я гибну», и за его неуклюжей попыткой вызвать ревность Цветаевой, поведав о своих матримониальных планах в отношении Елизаветы Эфрон, и за его лежанием на оленьих шкурах (надеялся остаться с Цветаевой наедине, но убедился, что она настойчиво окружает себя другими людьми?), и за его внезапным ночным бегством из Александрова.
Все было кончено. Однако в прощальном стихотворении Мандельштама из цветаевской серии первой половины 1916 года, написанном уже в Коктебеле, свидание в Александрове описано совсем по-другому, чем в письме Цветаевой к Елизавете Эфрон:
На пригорке монастырь светел
И от снега – свят.
Вы снежинки с груди собольей
Мне сцеловываете, друг,
Я на дерево гляжу, – в поле
И на лунный круг.
За широкой спиной ямщицкой
Две не встретятся головы.
Начинает мне Господь – сниться,
Отоснились – Вы[117 - Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 247.].
Меховое одеяние спутницы упоминается и в стихотворении Мандельштама 1916 года «В разноголосице девического хора…», как и стихотворение «На розвальнях, уложенных соломой…», навеянном прогулками с Цветаевой по древней Москве:
В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.
Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.
И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне – явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой[118 - Альманах муз. Пг., 1916. С. 112. Подробней об этом стихотворении см.: Schlott W. Zur Funktion antiker Go?ttermythen in der Lyrik Osip Mandel’stams. Frankfurt a.M.; Bern, 1981. S. 116–133.].
Если для понимания стихотворения «На розвальнях, уложенных соломой…» идеальному читателю нужно было держать в голове имя мандельштамовской спутницы, идеальный читатель стихотворения «В разноголосице девического хора…» должен был вовремя припомнить ее фамилию. Эта фамилия, по точному устному наблюдению Вадима Борисова, зашифрована в последней строке предпоследней строфы: «Успенье нежное – Флоренция в Москве» (лат. florentia) – цветущая). Межъязыковой каламбур Мандельштама оказывается ключом к пониманию стихотворения для читателя, знающего, с кем оно связано (в первое время после написания стихотворения таким читателем была едва ли не одна Цветаева).
В начальной строфе сквозь очертания Успенского кремлевского собора, построенного итальянцем Аристотелем Фиораванти, проступает лицо женщины. Вторая строфа содержит почти прямой намек на имя (фамилию) возлюбленной поэта как на ключ к пониманию стихотворения («По русском имени и русской красоте»)[119 - Разумеется, имя Марина не русского происхождения, а латинского. Но ведь и по крюкам в начале ХX века пели старообрядцы, которых православными не называли.]. В третьей строфе оксюморон «Флоренция в Москве» отсылает понимающего читателя и к построенному Фиораванти Успенскому кремлевскому собору, и к образу возлюбленной поэта. Причем для характеристики Цветаевой этот оксюморон подходит даже лучше, чем для определения деятельности архитекторов кремлевских соборов: ни Аристотель Фиораванти, ни проектировщик Архангельского собора Алевиз Новый во Флоренции никогда не строили[120 - Впрочем, по наблюдению Л. М. Видгофа, фамилия «Фиораванти» тоже восходит к итальянскому слову «цветок» (Видгоф Л. М. «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам. Поэт и город: Книга-экскурсия. М., 2012. С. 37).]. А в четвертой, финальной строфе проводится откровенная параллель между итальянскими «кремлевскими соборами» и возлюбленной поэта, появляющейся в стихотворении в обличии богини утренней зари Авроры, «но с русским именем и в шубке меховой». Скорее всего, здесь подразумевается шуба, позднее упомянутая Цветаевой в очерке «Мои службы» 1919 года: «Моя тигровая шуба (леопард? барс?), которую Мандельштам, влюбившись в Москву, упорно величал боярской»[121 - Цветаева М. Мои службы // Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 4. С. 468.].
Можно высказать осторожное предположение, что стихотворение «В разноголосице девического хора…» было написано как ответ на упрек, который Цветаева однажды бросила Мандельштаму во время их прогулки у стен Московского кремля. 21 июля 1916 года, уже после расставания с Мандельштамом, она рассказывала в письме к П. Юркевичу:
Никогда не забуду, в какую ярость меня однажды этой весной привел один человек – поэт, прелестное существо, я его очень любила! – проходивший со мной по Кремлю и, не глядя на Москву-реку и соборы, безостановочно говоривший со мной обо мне же. Я сказала: «Неужели Вы не понимаете, что небо – поднимите голову и посмотрите! – в тысячу раз больше меня, неужели Вы думаете, что я в такой день могу думать о Вашей любви, о чьей бы то ни было. Я даже о себе не думаю, а, кажется, себя люблю!»[122 - Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. С. 24.]
В стихотворении «В разноголосице девического хора…» Мандельштам продолжил говорить с Цветаевой «с ней же о ней же», однако материалом для разговора послужили кремлевские соборы и то небо, на которое Цветаева Мандельштаму в раздражении указала: «Не диво ль дивное, что вертоград нам снится, / Где реют голуби в горячей синеве».
3
Как это часто бывало с Цветаевой, ее чувство стало угасать первым. Уже в письме к сестре мужа, Сергея Эфрона, Елизавете (Лиле), отправленном в середине мая 1916 года, Цветаева охарактеризовала Мандельштама так:
Конечно, он хороший, я его люблю, но он страшно слаб и себялюбив, это и трогательно и расхолаживает. Я убеждена, что он еще не сложившийся душою человек, и надеюсь, что когда-нибудь – через счастливую ли, несчастную ли любовь – научится любить не во имя свое, а во имя того, кого любит. Ко мне у него, конечно, не любовь, это – попытка любить, может быть и жажда. Скажите ему, что я прекрасно к нему отношусь и рада буду получить от него письмо – только хорошее![123 - Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. Изд. 3?е, испр. и доп. С. 105. В черновом варианте текста, получившего рабочее название «Мой ответ Осипу Мандельштаму» (1926), Цветаева писала, вероятно, вспоминая май 1916 года: «Я тебя любил и больше не люблю. Я не тебя любил, а свою мечту о тебе. – Так, кончив любить, говорит каждый» (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1994. С. 314).]
Так не пишут о человеке, которого любят. С еще бо?льшим холодом Цветаева изобразила Мандельштама в письме к той же Елизавете Эфрон от 12 июня 1916 года. Это письмо было отправлено через восемь дней после неожиданного приезда Мандельштама на один воскресный день (4 июня) в город Александров Владимирской губернии, где Цветаева с дочерью гостили в семье Анастасии Ивановны и ее мужа Маврикия Александровича Минца:
Лиленька, а теперь я расскажу Вам визит М<андельштама> в Александров. Он ухитрился вызвать меня к телефону: позвонил в Александров, вызвал Асиного прежнего квартирного хозяина и велел ему идти за Асей. Мы пришли и говорили с ним, он умолял позволить ему приехать тотчас же и только неохотно согласился ждать до следующего дня. На следующее утро он приехал. Мы, конечно, сразу захотели вести его гулять – был чудесный ясный день – он, конечно, не пошел, – лег на диван и говорил мало. Через несколько времени мне стало скучно и я решительно повела его на кладбище.
– «Зачем мы сюда пришли?! Какой ужасный ветер! И чему Вы так радуетесь?»
– «Так, – березам, небу, – всему!»
– «Да, потому что Вы женщина. Я ужасно хочу быть женщиной. Во мне страшная пустота, я гибну».
– «От чего?»
– «От пустоты. Я не могу больше вынести одиночества, я с ума сойду, мне нужно, чтобы обо мне кто-нибудь думал, заботился. Знаете, – не жениться ли мне на Лиле?»
– «Какие глупости!»
– «И мы были бы в родстве. Вы были бы моей belle-soeur!»
– «Да-да-а. Но Сережа не допустит».
– «Почему?»
– «Вы ведь ужасный человек, кроме того, у Вас совсем нет денег».
– «Я бы стал работать, мне уже сейчас предлагают 150 рублей в Банке, через полгода я получил бы повышение. Серьезно».
– «Но Лиля за Вас не выйдет. Вы в нее влюблены?»
– «Нет».
– «Так зачем же жениться?»
– «Чтобы иметь свой угол, семью…»
– «Вы шутите?»
– «Ах, Мариночка, я сам не знаю!»
День прошел в его жалобах на судьбу, в наших утешениях и похвалах, в еде, в литературных новостях. Вечером – впрочем, ночью, – около полночи, – он как-то приумолк, лег на оленьи шкуры и стал неприятным. Мы с Асей, устав, наконец, перестали его занимать и сели – Маврикий Алекс<андрович>, Ася и я в другой угол комнаты. Ася стала рассказывать своими словами Коринну, мы безумно хохотали. Потом предложили М<андельшта>му поесть. Он вскочил, как ужаленный.
– «Да что же это, наконец! Не могу же я целый день есть! Я с ума схожу! Зачем я сюда приехал! Мне надоело! Я хочу сейчас же ехать! Мне это, наконец, надоело!»
Мы с участием слушали, – ошеломленные. М<аврикий> А<лександрович> предложил ему свою постель, мы с Асей – оставить его одного, но он рвал и метал. – «Хочу сейчас же ехать!» – Выбежал в сад, но испуганный ветром, вернулся. Мы снова занялись друг другом, он снова лег на оленя. В час ночи мы проводили его почти до вокзала. Уезжал он надменный. Я забыла Вам рассказать, что он до этого странного выпада все время говорил о своих денежных делах: резко, оскорбленно, почти цинически. Платить вперед Пра за комнату он находил возмутительным и вел себя так, словно все, кому он должен, должны – ему. Неприятно поразила нас его страшная самоуверенность. – «Подождали – еще подождут. Я не виноват, что у меня всего 100 р<ублей>» – и т. д. Кроме того, страстно мечтал бросить Коктебель и поступить в монастырь, где собирался сажать картошку[124 - Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7. С. 90–92.].
Кажется очевидным, что тон удивления, взятый Цветаевой для описания поведения Мандельштама и его «странного выпада», – деланный, может быть потому, что писала она все-таки сестре мужа. Не нужно быть психологом, чтобы понять – отчаянный рывок Мандельштама в Александров перед поездкой в Коктебель стал последней попыткой удержать ускользающую возлюбленную. Чувство ужаса от совершающейся потери стоит и за мандельштамовской репликой «Во мне страшная пустота, я гибну», и за его неуклюжей попыткой вызвать ревность Цветаевой, поведав о своих матримониальных планах в отношении Елизаветы Эфрон, и за его лежанием на оленьих шкурах (надеялся остаться с Цветаевой наедине, но убедился, что она настойчиво окружает себя другими людьми?), и за его внезапным ночным бегством из Александрова.
Все было кончено. Однако в прощальном стихотворении Мандельштама из цветаевской серии первой половины 1916 года, написанном уже в Коктебеле, свидание в Александрове описано совсем по-другому, чем в письме Цветаевой к Елизавете Эфрон: