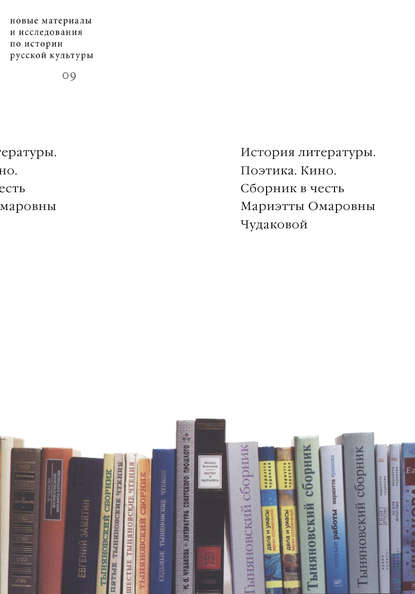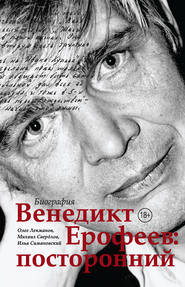По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История литературы. Поэтика. Кино: Сборник в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Очевидного Булгарина уже в самом начале 1830 году дошли какие-то пушкинские рассказы, в достоверности которых он не усомнился.
Чего на самом деле не было, так это переданного Пушкиным разговора с грузинами, поскольку сопровождающих тело Грибоедова лиц, которые на вопрос «Откуда вы?» ответили бы «Из Тегерана», не существовало. Из письма В.Н. Григорьева и рассказов очевидцев Пушкин, конечно, знал, что «на Русском берегу Аракса тело переложено было в другой гроб и поставлено на дроги», а «Свиту Персидскую сменил батальон наших войск». Весьма вероятно, что Пушкин, торопясь в армию, просто проехал мимо ничем не примечательной повозки и только задним числом, уже в крепости или в армейском лагере, узнал, какой груз в ней везли. Как бы то ни было, в тексте, написанном шесть лет спустя
, он, отталкиваясь от факта мимолетной дорожной встречи, преобразует его в многозначный художественный образ – в развернутую метафору постыдно пренебрежительного отношения российского государства к трагической гибели Грибоедова, которую по соображениям высшей политики всячески старались замолчать, принизить и, как повелел Николай I, предать «вечному забвению».
В своих записках, написанных в 1832 году, Н.Н.Муравьев-Кар-ский зафиксировал различные толки о смерти Грибоедова, имевшие хождение в то время:
Иные утверждают, что он сам был виною своей смерти, что он не умел вести дел своих, что он через сие происшествие, причиненное совершенным отступлением от правил предписанных министерством, поставил нас снова в неприятные сношения с Персиею. Другие говорят, что он подал повод к возмущению через свое сластолюбие к женщинам. Наконец, иные ставят сему причиною слугу его Александра… Все же соглашаются с мнением, что Грибоедов, с редкими знаниями и способностями, был не на своем месте… И никто не признал ни заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела!
Устанавливая параллелизм между «грибоедовским» эпизодом и описанием осетинских похорон, Пушкин дает понять, что отказ признать в Грибоедове героя, пренебрежительное отношение к его заслугам и «прекрасной смерти» так же чужды европейскому, цивилизованному сознанию, как странное «азиатское» правило хоронить мертвых за тридцать верст от «милого предела».
Как уже отмечалось в литературе о ПВА, Пушкин выстраивает «грибоедовский» эпизод таким образом, чтобы он контрастировал с изображением персидского посольства, встреча с которым описана в первой главе: здесь плетущаяся по горной дороге арба и равнодушные грузины, там – экипажи, верховые лошади, конвойные офицеры
. Еще один угадываемый фон этого эпизода – последние почести, отданные изгнаннику и бунтарю Байрону в родной стране. Несмотря на то, что Байрон, в отличие от Грибоедова, не служил своему правительству, а, наоборот, всячески над ним издевался, его тело было перевезено в Англию из Греции на британском военном корабле и выставлено для прощания в Лондоне, откуда похоронная процессия направилась в байроновское родовое поместье. Как сообщали русские журналы, это было четырехдневное «торжественное шествие», сопровождаемое «бесчисленным множеством народа»
, то есть полная противоположность жалкому зрелищу, изображенному в «Путешествии в Арзрум».
Пушкин имел возможность задуматься о сходствах и различиях двух самых громких поэтических смертей эпохи еще до отъезда из Москвы, на обеде у А.Я. Булгакова 20 марта 1829 года. В тот день в Москве, писал А.Я. Булгаков, не было «иного разговора… как о Тегеранском происшествии», и неудивительно, что старшей его дочери Екатерине в pendant к Байрону вспомнился Ерибоедов: «Ах! Не ездите, сказала ему Катя: там убили Ерибоедова. – Будьте покойны, сударыня: неужели в одном году убьют двух Александр Сергеевичев? Будет и одного!»
Чуткий к совпадениям дат Пушкин должен был обратить внимание на то, что Байрон и Ерибоедов умерли в одном возрасте – вскоре после достижения тридцатишестилетия
. Весной 1835 года, когда Пушкин писал ПВА, ему оставалось всего несколько месяцев до рокового рубежа, и он, надо полагать, сравнивал свою собственную судьбу с судьбами Байрона и Ерибоедова, стараясь угадать «тайную волю Провиденья».
Характерно, что биографию Ерибоедова Пушкин строит по трехчастной схеме, подчеркивая моменты резких обрывов. Молодой Ерибоедов – это «лишний человек» с байроническим «озлобленным умом» (читатели «Евгения Онегина» должны были узнать цитату из шестой главы романа
), «пылкими страстями» и неутоленным честолюбием, чьи достоинства – «способности человека государственного», «талант поэта» и «холодная и блестящая храбрость» – остаются непризнанными и невостребованными. Затем следует перелом: «Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию, уехал в Ерузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях» (VIII: 460). Эта добровольная (по Пушкину) перемена мест и образа жизни приносит свои плоды – Ерибоедов привозит из Ерузии комедию «Еоре от ума», которая «произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами». Признание «таланта поэта» знаменует второй «переворот в его судьбе». За ним следует завидная полоса «непрерывных успехов» – перед Ерибоедовым открывается «новое поприще», то есть признаются его «способности человека государственного»; он снова едет в Ерузию, женится «на той, которую любил», и, наконец, погибает в Тегеране, «посреди смелого, неровного боя», героической смертью доказывая «блестящую храбрость». Моделью для такого членения, как кажется, была биография Байрона, в которой тоже выделяются три периода, обозначенных двумя резкими поворотами – бегством из Англии на континент и греческой экспедицией, в которой современники видели попытку уйти из литературы и обрести славу на «новом поприще»
. В обеих судьбах, при всем очевидном различии характеров, талантов, обстоятельств и достижений, обнаруживается сходный композиционный рисунок с трагическим финалом, причем и Байрон, и Грибоедов уходят из жизни, когда иссякает их творческая сила. В этой связи уместно вспомнить разговор Пушкина с В.А. Ушаковым, который назвал Грузию «врагом нашей Литературы», потому что этот край «лишил нас Грибоедова». «– Так что же? отвечал поэт. Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал Горе от Ума»
. Сам Ушаков увидел «в сем изречении отличного писателя» только «краткую, но верную оценку» комедии как «венца бессмертия Грибоедова»
. Однако слова Пушкина имели и более глубокий смысл, эксплицированный Тыняновым в финале «Смерти Вазира-Мухтара», где они перифразированы, дополнены и соединены с цитатой из ПВА: «Ему нечего было более делать. Смерть его была мгновенна и прекрасна. Он сделал свое: оставил „Горе от ума“»
. По-видимому, Пушкин действительно считал, что жизнь Грибоедова (и, по аналогии, Байрона) закончилась тогда, когда ей следовало закончиться – на пике успеха, когда поэт, выполнив свое историческое предназначение, перестает быть поэтом.
В пушкинской версии жизни Грибоедова нередко усматривают автобиографическую проекцию. «Мысль о схожести своей судьбы с судьбой Грибоедова не могла не возникнуть у Пушкина», – утверждают, например, П.С. Краснов и С.А. Фомичев в комментариях к «грибоедовскому» эпизоду
. Согласно Н.Я. Эйдельману,
Пушкин думал о себе, о своей судьбе и сопоставлял ее с грибоедовской. Глубокий биографический подтекст получают слова о женитьбе «на той, которую любил», о завидных последних годах бурной жизни. Здесь – сожаление о своих бурно прошедших годах и сегодняшнем тягостном петербургском плене. Грибоедов умел расчесться, начать новую жизнь, покинуть столицу – Пушкин не может… Наконец, предчувствие собственной скорой гибели – и странный гимн грибоедовской смерти (посреди «смелого неровного боя», «ничего ужасного, ничего томительного», «мгновенна и прекрасна»). Эти слова, представленные читателям за год до последней пушкинской дуэли, выдают потаенные мечтания поэта
.
М. Гринлиф относит к Пушкину его упоминание о «странных предчувствиях», мучивших Грибоедова перед отъездом в Персию, и интерпретирует «грибоедовский эпизод» как встречу автора с самим собой в образе «другого», чьей гибели он завидует
. Иной точки зрения придерживается X. Рам, писавший: «Судьба Грибоедова во всех смыслах представляет собой полную противоположность судьбе Пушкина: Грибоедов уехал из России, тогда как Пушкину пришлось удовлетвориться ограниченным экзотизмом приграничного русского Юга; Грибоедов оставил после себя всего лишь несколько законченных произведений, тогда как «Путешествие в Арзрум» само по себе является свидетельством творческой силы Пушкина; Грибоедов был государственным чиновником, тогда как Пушкин стремился к творческой независимости»
.
Эти интерпретации можно совместить, если учесть, что ПВА – сложно построенный текст, предлагающий читателю двойную стратегию чтения в двух временных перспективах. С одной стороны, Пушкин выдает его за путевые записки, написанные непосредственно во время путешествия. Отсюда – бросающаяся в глаза фрагментарность текста, единицей которого, как показала К. Поморска, является дискретный абзац-эпизод
; отсюда – имитация дневниковой скорописи, синхронной изображению (особенно в военных описаниях). В данной временной перспективе может показаться, что автор записок, по известному определению Ю.Н. Тынянова, – «никак не „поэт“, а русский дворянин»
, и что само путешествие для Пушкина – это крутой поворот судьбы, подобный уходам из поэзии на «новое поприще» Байрона и Грибоедова. Как и Байрон, он торопится на войну; вослед Грибоедову едет по тем же кавказским дорогам, останавливается в Тифлисе и несколько раз чудом спасается от «мгновенной смерти». При чтении ПВА как спонтанного дневника, «грибоедовский» эпизод действительно приобретает некоторую автобиографическую зеркальность.
С другой стороны, Пушкин пишет ПВА через шесть лет после самой поездки, когда она представляется ему совсем в другом свете, нежели в 1829 году – не крутым поворотом, а лишь интерлюдией, не имевшей никаких судьбоносных последствий. В ретроспекции становится очевидно, что трехчастная схема, которую он выявляет в биографиях Байрона и Грибоедова, к его собственной судьбе неприложима, ибо после возвращения из ссылки она складывалась эволюционно, без резких переломов, как ряд последовательных изменений. В статье «Александр Радищев» Пушкин писал:
Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют (XII: 34).
Именно так, «со вздохом иль с улыбкою», смотрит на себя прежнего и на свои «моложавые мысли» скрытый автор ПВА, который в отличие от «путешественника» – прежде всего поэт, а потом уже «русский дворянин»
. На его присутствие сразу же указывает полное заглавие текста «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» (оно не только устанавливает дистанцию между временем написания и изображенными событиями, но и перекликается с «Пиром во время чумы»), а также поглавные перечни эпизодов или, в терминологии Ж. Женетта, интертитулы, которые разрушают иллюзию спонтанности
. О том, что Пушкин, в отличие от Байрона и Грибоедова, сохраняет верность старому поприщу, свидетельствует ряд особенностей поэтики ПВА: авто-аллюзии (на «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Отрывок из письма к Д.», «Полтаву», «Евгения Онегина», «Пир во время чумы»); метрические вкрапления, отмеченные выше; поэтические вставки – вольный перевод грузинской песни (глава II),
любопытное двустишье «Ночи знойные! / Звезды чуждые!..» (глава II), написанное так называемым «кольцовским пятисложником»
, и «Стамбул гяуры нынче славят» (глава V). Недаром финал текста, где осмеиваются нападки Надеждина на «Полтаву», возвращает нас к пушкинской литературной биографии.
Более того, в ПВА Пушкин вводит нас в свою поэтическую лабораторию, исподволь отсылая к уже опубликованным стихотворениям «кавказского цикла» («Калмычке», «Обвал», «Кавказ», «На холмах Грузии», «Делибаш», «Из Гафиза», «Монастырь на Казбеке», «Дон»)
и показывая, как обыкновенные дорожные и военные впечатления преобразуются во вторую, иначе устроенную реальность поэзии. Каждому из вышеупомянутых стихотворений цикла соответствует определенное прозаическое описание, в котором повторяются ключевые слова поэтического текста, но сопоставление двух версий всякий раз выявляет существенные различия между ними. Так, например, если в ироническом послании «Калмычке» «взор и дикая краса» любезной дикарки пленяют ум и сердце поэта и он чуть было не бросается вслед за ее кибиткой, то в ПВА «калмыцкое кокетство» «степной Цирцеи» его пугает и он торопится уехать прочь от нее; если в «Кавказе» поэт поднимается на такую заоблачную вершину, с которой ему, несмотря на идущие под ним тучи, видны обе стороны Кавказского хребта – южная, грузинская («где мчится Арагва в тенистых брегах») и северная («где Терек играет в свирепом весельи»), то самая высокая точка ПВА – это Крестовый перевал и Гуд-Гора, с которой, как пишет Пушкин, открывается лишь одна сторона: «Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента» (VIII: 454), и т. п. Особый интерес представляет прозаическая параллель к «Обвалу» – рассказ Пушкина о запрудившем Терек обвале 1827 года, через который он якобы проехал (VIII: 453), поскольку на самом деле никаких крупных обвалов, следы которых сохранялись бы два года спустя, в 1820-е годы вообще не было: поэтический вымысел подкрепляется вымыслом прозаическим, загримированным под свидетельство очевидца.
Благодаря двойной фокусировке, между стихотворениями кавказского цикла и ПВА устанавливаются диалогические отношения взаимовосполнения. Как великолепно показал П. Бицилли, основной темой ПВА является «тема самой Жизни, ее субстанциональной основы, понятой так же, как у Шопенгауэра, не знающей отдыха воли, ведущей ко все новым и новым – разочарованиям»
. Разочарования соседствуют с многочисленными memento mori. Первым «замечательным местом» своего путешествия Пушкин называет крепость Минарет, близ которой расположены «могилы нескольких тысяч умерших чумой» (VIII: 448); заканчивается оно в зачумленном Арзруме. Кроме безвестного осетина и Грибоедова, в ПВА упоминаются и другие безвременно умершие: погибшие в сражениях русские и турецкие солдаты, генералы Сипягин и Бурцов, драгун, утонувший в кувшине с вином, жертвы горного обвала. В «Дорожных жалобах» (которые должны были, согласно пушкинскому плану 1836 года, открывать «кавказский цикл») Пушкин полушутя предсказывал себе внезапную гибель «на большой дороге», а в «Путешествии», напротив, отмечал те точки своего странствования, где подобная гибель его миновала, – на берегу Терека от пули осетинского разбойника, на Крестовой горе от снежной лавины, на поле боя в перестрелке или под копытами сводного уланского полка, когда его лошадь чуть не упала при спуске в овраг, на крыше турецкой сакли от взрыва пороха, в Арзруме от чумы. Сразу же после «грибоедовского эпизода» в текст как бы невзначай вводится слово «Провидение», когда Пушкин пишет о своем решении продолжать путь, невзирая на бурю и ливень: «Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз, и поручил себя Провидению» (VIII: 462). Упоминание о Божьем промысле появляется и в сцене кавалерийской атаки: «Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда <сводный> уланский полк переехал бы через меня. Однако Бог вынес» (VIII: 469). Последнюю фразу можно отнести и ко всему путешествию в целом. Как кажется, Пушкин видел в благополучном завершении опасного пути, по контрасту с судьбой Грибоедова, некий провиденциальный знак благоволения, награду за верность своему поэтическому дару, подобно тому, как в том же 1835 году он в черновике «Вновь я посетил…» ретроспективно осмыслил свою михайловскую ссылку как провиденциальное спасение:
[Но здесь меня таинственным щитом
Святое Провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-[утешитель],
Спасла меня, и я воскрес душой]
(III-2: 996)
.
В этой связи обращает на себя внимание предельная скупость пушкинских оценок Грибоедова как поэта. Восхищаясь последними годами бурной жизни Грибоедова и его героической смертью «посреди смелого, неровного боя», Пушкин не упоминает никаких его литературных произведений, кроме «Горя от ума», и ничего не говорит о том, что Грибоедову не удалось закончить работу над трагедией «Грузинская ночь», хотя сцены из нее он слышал в 1828 году в Петербурге. Этим «грибоедовский эпизод» резко отличается от булгаринских характеристик «незабвенного Александра Сергеевича Грибоедова», с которыми, как давно установлено, Пушкин вступил в прямую полемику
. В воспоминаниях о Грибоедове Булгарин отмечает его перевод пролога к «Фаусту», хвалит «прекрасное стихотворение на балет Руслан и Людмила» и «прелестное стихотворение „Хищники на Чегеме“»
,но особенно выделяет «Грузинскую ночь». Он пишет:
Если б трагедия была окончена, она составила бы украшение не только одной русской, но и всей европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина… Н.И. Греч, услышав отрывки из этой трагедии и ценя талант Грибоедова, сказал в его отсутствии: «Грибоедов только попробовал перо на комедии „Горе от ума“. Он займет такую степень в литературе, до которой еще никто не приближался у нас: у него, сверх ума и гения творческого, есть – душа, а без этого нет поэзии!»
.
У Александра Сергеевича Световидова – персонажа романа Булгарина «Памятные записки титулярного советника Чухина» (1835), очевидным прототипом которого был Грибоедов, – «пиитическая душа». Световидов/Грибоедов, по Булгарину, «был философ, поэт, музыкант, артист, филолог, историк; он был все, занимался всем, но делал все как поэт. Поэзия владычествовала его умом и душою»
.