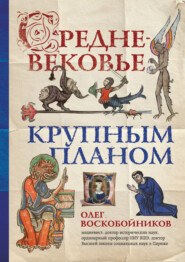По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
16 эссе об истории искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
16 эссе об истории искусства
Олег Сергеевич Воскобойников
HSE Bibliotheca Selecta
Эта книга – введение в историческое исследование искусства. Она построена по крупным проблематизированным темам, а не по традиционным хронологическому и географическому принципам. Все темы связаны с развитием искусства на разных этапах истории человечества и на разных континентах. В книге представлены различные ракурсы, под которыми можно и нужно рассматривать, описывать и анализировать конкретные предметы искусства и культуры, показано, какие вопросы задавать, где и как искать ответы. Исследуемые темы проиллюстрированы многочисленными произведениями искусства Востока и Запада, от древности до наших дней. Это картины, гравюры, скульптуры, архитектурные сооружения знаменитых мастеров – Леонардо, Рубенса, Борромини, Ван Гога, Родена, Пикассо, Поллока, Габо. Но рассматриваются и памятники мало изученные и не знакомые широкому читателю. Все они анализируются с применением современных методов наук об искусстве и культуре.
Издание адресовано исследователям всех гуманитарных специальностей и обучающимся по этим направлениям; оно будет интересно и широкому кругу читателей.
Олег Воскобойников
Эссе об истории искусства
Серия «HSE Bibliotheca Selecta»
Основана в 2020 г.
Кураторы: Елена Иванова, Александр Павлов
В книге использованы результаты проекта «Границы светского и церковного в Средние века и раннее Новое время: Русь и Западная Европа», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 г.
Рецензенты:
кандидат искусствоведения, PhD, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства Анна Вяземцева;
кандидат исторических наук, научный сотрудник учебно-научного Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени Российского государственного гуманитарного университета Михаил Майзульс;
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», литературный критик Галина Юзефович
© Воскобойников О.С., 2022
Об этой книге
Так уж получилось, что в Высшей школе экономики мне, медиевисту, суждено было преподавать не средневековую историю, а историю искусства. Я сознательно принял этот вызов в 2010 году, когда мы с коллегами начинали работать на вновь созданном историческом факультете и распределяли между собой магистральные, неприкосновенные дисциплины. Вызов был двоякого свойства. Во-первых, история искусства – моя вторая, не совсем «законная» любовь, потому что по всем «корочкам» я историк. Во-вторых, на русском языке формально не было и нет обзорного пособия по этой науке, хотя, естественно, хватает замечательных книг по отдельным проблемам и направлениям. Наконец, очень не хотелось «упаковывать» всю историю искусства «от бизона до Барбизона» (не говоря уже о Бэнкси) в традиционный курс в двадцать лекций.
С самого начала я чувствовал, что моему авторскому курсу, чтобы стать реально авторским, нужно что-то свое. Я не преподаю историкам искусства, моя задача – в том, чтобы познакомить с этой наукой и, естественно, с произведениями искусства тех, кто пришел в ВШЭ осваивать другие профессии: историков, экономистов, международников. Хотелось и хочется учить смотреть, описывать и анализировать произведения и памятники, а не расставлять реперные точки в хронологической таблице. Несколько лет назад я решился изложить мои представления об искусстве в форме эссе. Откладывая на послезавтра то, что нужно было сдать завтра, я дожил до марта 2020 года. У меня были готовы всего три эссе из запланированных. Как и все, я оказался заперт в четырех стенах. Сидел и работал.
Я точно знал, что не хочу повторять Эрнста Гомбриха, описавшего-таки всю историю искусства удивительно ясным, «для всех», языком в 1950 году и недавно переведенного, наконец, на русский. Знал также, что и Бориса Виппера мне не пересмотреть и ничем особым не дополнить. Первый, один из самых высоколобых наследников Варбурга, изложил последовательность событий так, что дальше можно лишь менять некоторые акценты. Мне, например, немного обидно, что на Бенвенуто Челлини у него нашлось две страницы, а на Андрея Рублева – ни строчки. Техническая сторона вопроса Гомбриха тоже особо не волновала, хотя он и видел, и умел представить в истории произведений искусства отражение общей истории культуры. Второй, классик советского искусствознания, не менее четко разъяснил, чем литография отличается от ксилографии, масло – от темперы, мрамор – от бронзы, и как все это смотреть и анализировать. Но интересовавшие их вопросы, отчасти сохраняя свою актуальность, обогатились несколькими крупными поворотами гуманитарных знаний, опытом еще трех поколений историков искусства и, что не менее важно, художников. Оба знали искусство своего времени, но оба словно вынесли свой век за скобки.
Любой «древник» тяготеет к своей древности. Именно поэтому я решил в эссе не увлекаться лучше всего знакомым мне «тысячелетним царством» – Средневековьем. Это стало сознательным выбором, но и элементарным проявлением любопытства и немного – дерзости: я впервые взялся за что-то серьезное не о Средневековье. Мне помог десятилетний опыт преподавания в Высшей школе экономики. Сотни студентов выступали и выступают на моих семинарах с докладами о конкретных произведениях искусства, пишут о них же эссе. Создав магистерскую программу «Медиевистика», я с удовольствием принимал историков искусства и стимулировал их работу с визуальным материалом, соглашался на чисто искусствоведческие темы, не оглядываясь на дисциплинарные привычки и предрассудки. История искусства изучает памятники искусства, но она тоже – история людей. Просто, может быть, она о том лучшем, что от людей остается на века.
Отчасти отвечая на обновленный любопытством моих учеников собственный вопросник, отчасти ради движения вперед, первой ковидной осенью я решил полностью переделать свой курс и отразить его в выбранной мной форме. Мои лекции всегда замкнуты тематически, то есть каждая предъявляет большую тему. Например, «Латынь архитектуры», «Город как произведение искусства», «Лицо, маска, портрет», «Незавершенное и незавершимое», «Против искусства: аниконизм, иконоборчество и вандализм», «Поэтика фотографии», «Искусство – философия – картина мира».
Как можно видеть, такая тематическая разбивка сознательно уходит от основных координат исторического описания: хронологии и географии. Нет или почти нет ни жанров, ни техник искусства, всем знакомых со школьной скамьи, тех самых, которые легли в основу учебного пособия Бориса Виппера «Введение в историческое изучение искусства». На самом деле историка из меня не вытравить. Я понимаю, что иконоборчество фараонов – не то же, что брань Хрущева или Бульдозерная выставка, что так называемая маска Агамемнона не равна маске индейца, выставленной в Музее на набережной Бранли, что тело у Родена не то же, что на фризах Пергамского алтаря. Но мне очень хотелось представить искусство как приключение, длящееся так же долго, как цивилизация, а может быть, и дольше. В этом приключении есть сюжеты, проблемы, вопросы, объединяющие все человечество, но эти вопросы оно всегда решает по-разному, в том числе с помощью эстетической функции. Она – лишь одна из функций вещей, вездесущая, но далеко не всегда главная. Между тем в этом мире абсолютно всё может быть красивым, даже деньги. В особенности, когда они выходят из оборота и теряют запах. Старые вещи молчат о своем, не тревожат наш быт, зато бередят воображение, воздействуют на чувства и разум. В вещах скрыта сила, совсем не заложенная в них ни производителем, ни потребителем, но пробуждающаяся в новых условиях, иногда спонтанно, иногда потому, что это кому-то показалось нужным и полезным для себя или для других. Искусство – везде, а художник – дремлет в каждом из нас.
Из последних философических рассуждений очевидно, что такой ход мыслей мало похож на нормативные знания. Именно поэтому перед читателем – не учебник, не «норматив», даже не лекционный курс. Мои эссе не претендуют на систему координат, которую ни с того ни с сего примут историки искусства, дизайнеры или культурологи. Никто из них не обязан преподавать историю искусства по-моему. Если мне есть что сказать обо всем искусстве, это не значит, что то же самое захотят сказать о нем коллеги.
Французское essai, вышедшее из среднелатинского exagium («взвешивание», «измерение»), уже в конце XII века означало во Франции «встречу с чем-то новым», «испытание» и в особенности опытное засвидетельствование качеств и характеристик какого-то предмета. Вскоре метонимически этот термин перешел в кулинарию, виноделие, так стали называть дегустационный бокал. А в середине XVI века им решили обозначить опыты начинающих литераторов, которые в прозе брались за какую-то тему, не претендуя на полноту изложения. Среди этих последних в 1580 году оказался Мишель де Монтень. Вместе с тем мне кажется, что предлагаемый здесь взгляд претендует на определенную системность, как положено университетскому курсу. Поэтому я выражаю глубокую признательность моим студентам, ассистентам и ученикам, особенно Александре Мамлиной, нашедшей время прочитать книгу целиком; и, конечно, Ольге Шестопаловой, лучшему редактору, с каким мне доводилось работать.
Олег Воскобойников
Предмет истории искусства
Искусство не изображает видимое, но делает его видимым.
Пауль Клее. Творческая исповедь (1920)
Сформулировать предмет и исследовательские задачи истории искусства, не прибегнув к тавтологии, почти невозможно. Предмет истории искусства – нечто материальное, получившее форму благодаря воздействию человека, причем не всякое произведение труда, но особое. До недавнего времени история искусства ограничивалась тем видом предметов, которые обозначали термином «произведение искусства». Их оценкой и атрибуцией занимались и занимаются эксперты, наследники «знатоков» XVIII–XIX веков. Иногда – но не всегда последовательно – различают историю искусства и искусствознание или искусствоведение. Зачастую дело – в личных исследовательских задачах конкретного ученого: если он склонен к теоретизированию и осмыслению каких-то вневременных процессов или явлений, он скорее назовет себя искусствоведом. Если же, напротив, его взгляд всегда привязан к хронологии, истории, последовательному развитию образов и стилей во времени, он скорее историк искусства. Тем не менее его тоже всегда интересует конкретный материальный предмет, каким-то способом созданный или обработанный человеком и тем самым выведенный, частично или полностью, из царства природы.
На почетное звание произведения искусства всегда мог претендовать лишь предмет, возникший в результате творческого акта, по возможности гениального, из ряда вон выходящего, акта, совершенного художником. Такое произведение, во-первых, наделяли эстетической ценностью, во-вторых, констатировали его – не побоимся этого слова – бесполезность в обыденной жизни. «Мы можем простить человека за то, что он сделал полезную вещь, пока он не начал ею восхищаться. Единственное, что извиняет бесполезную вещь, – подлинное восхищение. Всякое искусство в общем-то бесполезно» – таким рассуждением в 1890 году Оскар Уайльд предваряет «Портрет Дориана Грея»[1 - Wilde O. The Picture of Dorian Gray // The Works of Oscar Wilde / ed. G.F. Maine. L.; Glasgow, 1949. P. 17.]. Произведение изобразительного искусства или памятник архитектуры, естественно, могут выполнять разные функции в жизни индивида или общества, но как произведения искусства они из нее выключены, они – предмет эстетического созерцания.
Мы начали с рукотворности. Действительно, прекрасную реку или гору мы можем назвать разве что шедевром природы. Но все становится сложнее, если оказаться, например, в парке какого-нибудь дворца – неважно, европейского или иного. Дворец без окружающего парка немыслим, парк без дворца – неуместен. Сузим оптику: в японском или китайском саду каждый камень, никак не обработанный, но тщательно подобранный по породе, размеру, силуэту, рисунку, цвету, обладает четким положением в общей картине. Он одновременно звено в цепи, фрагмент и самодостаточный микромир. Его не назовешь рукотворным, но его коснулись мысль и руки создателя сада, претендующего на особый статус. Конечно, японский и китайский сады – самобытные историко-культурные явления, объяснимые особым эстетическим отношением к природе в традиционном Китае и в традиционной Японии, в буддизме, в синтоизме[2 - Kuitert W. Themes, Scenes, and Taste in the History of Japanese Garden Art. Amsterdam, 1988; Малинина Е.Е. Искусство, рожденное безмолвием. Новосибирск, 2013. С. 15–102.]. Но этот почти случайно взятый пример показывает, что границы между живым и неживым, органическим и созданным человеком в определении предмета истории искусства, на самом деле, размыты. Неслучайно некоторые вековые деревья бонсай в Японии возведены в ранг национального достояния. И они – живые.
Упомянутая эстетическая функция, то есть способность украшать и красотой услаждать взгляд зрителя, – одна из нескольких функций любого предмета. Все его функции распространены, но эстетическая среди них – самая выразительная. Более того, она вездесущая. Ян Мукаржовский когда-то отметил: «Как везде, откуда взяли вещь, пространство наполняется воздухом или как в изгиб пространства, откуда отступил свет, проникает тьма, точно так же и эстетическая функция неотступно следует за остальными: где другие функции ослаблены, или уступают, или перегруппировываются, туда мгновенно проникает и там соответственным образом усиливается эстетическая функция»[3 - Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994. С. 478.]. Так старый предмет в лавке старьевщика одной своей стариной уже пробуждает в нас умиление, если не восхищение. Так и сами мы расставляем вокруг себя предметы и развешиваем изображения, изначально зачем-то нужные, но постепенно обретающие значение чего-то привычного и приятного глазу. Нет такой вещи, которая не могла бы стать носительницей эстетической функции, и нет вещи, которая была бы носительницей только ее. Зато, обладая этой функцией, вещь выходит за предписанные ей бытом границы и способна преображать пространство вокруг себя (илл. 1).
1. Пьетро Пиффетти. Письменный стол. 1741 год. Венеция. Зал Ладзарини дворца Ка-Реццонико
За повсеместным проникновением основанных на зрительном восприятии средств коммуникации в гуманитарных науках произошел так называемый визуальный или, если использовать кальку с английского, «иконический поворот», iconic turn[4 - Общий обзор см.: Инишев И.Н. «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // Логос. 2012. Т. 85. № 1. С. 184–211.]. Он привел к тому, что академическая история искусства тоже сильно изменилась. В круг ее интересов вошли сначала кинематограф и фотография, затем комиксы, реклама на всех возможных носителях, включая рекламу в Интернете, перформанс, дизайн, уличные граффити – одним словом, едва ли не все, что изображено, а не написано и не высказано на словах, все, что придает «форму времени»[5 - Alpers S. Is Art History? // Daedalus. 1977. Vol. 106. No. 3. P. 1–13; Belting H. Das Ende der Kunstgeschichte? M?nchen, 1983; Kubler G. Teh Shape of Time. Remarks on the History of Things. New Haven; L., 1962.]. Еще Генрих Вёльфлин, один из классиков искусствознания, сто лет назад говорил, что у «в дения есть своя история»[6 - Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / пер. А.А. Франковского. М., 2002. С. 281–282.]. Он имел в виду, что каждая эпоха смотрит по-своему. Анализируя постройку, он сознательно описывал свою психосоматическую реакцию на нее, включая напряжение тех или иных групп мышц. Развивая его идеи, Эрнст Гомбрих писал о мышечной реакции человека на изображения, зачастую не менее отчетливой, чем на музыку, и приводил в пример… посещение зоопарка, где мы совершенно по-разному ощущаем присутствие перед нами бегемота и хищника из семейства кошачьих[7 - Gombrich E. The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation. Ithaca, N.Y., 1982. P. 128.]. Таков закон визуальной эмпатии. Современная нейробиология заинтересовалась этим диалогом между искусством и зрителем и породила нейроэстетику[8 - Zeki S. Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain. Oxford, 1999; Фридберг Д., Галлезе В. Движение, эмоция и эмпатия в эстетическом переживании // Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры / ред. – сост. Н.Н. Мазур. СПб.; М., 2018. С. 476–485.]. Но тот же Вёльфлин создал свой категориальный искусствоведческий аппарат, претендующие на ковровую применимость «основные понятия», полностью проигнорировав авангард, словно отгородившись Рафаэлем от всякого, как выразился потом арт-критик Роберт Хьюз, «шока новизны». Сегодня, осознавая эти недостатки, история искусства объединяется с визуальной антропологией, а их общим полем становится визуальная культура, то есть все видимые формы, в которых проявляется культурная деятельность человека[9 - Рехт Р. Предмет истории искусства // Его же. Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков / пер. и науч. ред. О.С. Воскобойникова. М., 2014. С. 313–334. (Исследования культуры); Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований // Логос. 2012. Т. 85. № 1. С. 212–249.].
В XX столетии пошатнулся сам статус уникального артефакта, на смену которому пришло воспроизводимое, серийное, индустриальное. Художники авангарда первыми возвестили об этом, ученые – философы и искусствоведы – осмыслили изменения в 1920–1930-е годы. Одни, не вынося приговора, видели в смене парадигмы движение вперед, другие – «утрату середины» (Г. Зедльмайр), «дегуманизацию искусства» (Х. Ортега-и-Гассет), его «умирание» (В. Вейдле)[10 - Зедльмайр Х. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / пер. С.С. Ванеяна. М., 2008. С. 229–241. (Университетская библиотека Александра Погорельского); Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы: сборник / пер. С. Васильевой и др.; сост. И. Тертерян, Н. Матяш. М., 1991. С. 500–517. (Антология литературно-эстетической мысли); Вейдле В. Умiрание искусства. Размышленiя о судьбе литературного и художественного творчества. Парижъ, 1937 (книга вышла почти одновременно на французском и русском языках в дореволюционной орфографии).]. «Закат» (нем. Untergang означает также «гибель») старой Европы ознаменовал для Шпенглера и падение всех ее традиционных ценностей. В эпоху двух великих войн такой пессимистический, тревожный настрой вполне объясним. В любом случае революционные изменения в искусстве не могли не повлиять на только что родившуюся науку об искусстве. Смена предмета естественна, с одной стороны, потому что историк искусства – полноценный участник этой революции, он не только аналитик или наблюдатель, но и потребитель визуальной информации, захлестнувшей все стороны нашей общественной и частной жизни. С другой же стороны, ни одна другая гуманитарная наука не обладает столь развитым инструментарием описания и анализа изображений, хотя нет ни одной гуманитарной науки, которая полностью отказалась бы от работы с тем, что принято называть (на мой взгляд, не всегда определенно) визуальными источниками.
В ответ на очевидный вызов современности в XX столетии возникли и новые формы знания об изображениях, такие как семиотика или визуальная антропология в самых разных проявлениях. Предмет и задачи этих форм знания могут сильно различаться, но и диалог между ними – характерная черта научной жизни XX века и в наши дни. Иногда обаяние соседних муз столь велико, что историк искусства уже изучает не произведение, а «рецепцию», «перцепцию», «суггестивность», «коммуникацию» и «репрезентацию». В нашей стране периодически возникают направления с привлекательно, но не всегда ясно звучащими названиями, вроде «иерото?пии», посвященной неким «священным пространствам», или «потестарной имагологии», изучающей формы репрезентации власти[11 - Бойцов М.А. Что такое потестарная имагология? // Власть и образ. Очерки потестарной имагологии / отв. ред. М.А. Бойцов, Ф.Б. Успенский. СПб., 2010. С. 5–37. В первом случае старинный принцип составления понятия из греческих корней сохранен, но вряд ли оправданно сводить «священное» и «место», а изучать – «пространства», объявляя их «священными». Во втором случае к латинскому слову imago приклеено греческое обозначение знания, logos, – получается некое «знание» об «изображениях», «потестарное», то есть «властное», то ли по своему характеру, то ли по объекту изучения. Спорность таких названий не означает, что в рамках описанных ими направлений не делается замечательных открытий.]. За изображениями хотят видеть «образы», «представления», «фобии», сны и галлюцинации.
Все подобные поиски на стыке ряда гуманитарных дисциплин оправданны, но историк искусства не может не быть в большой степени реалистом, ибо его волнует «вещь», по-латыни res, и материалистом, ибо он чуток к материи, из которой эта вещь сделана. Он всегда – предметник. Перед его исследовательским взором, независимо от масштаба поставленных задач, всегда должен находиться конкретный предмет. И мы не раз увидим, почему это так принципиально для нашей науки.
В середине XVI века Джорджо Вазари, ученик Микеланджело, заложил основы искусствознания: его «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» – не просто биографии и каталог памятников, но именно аналитическая история школ и стилей. Она стала великим новшеством в истории знаний, но написана, что называется, с флорентийской колокольни. Прогресс искусства для флорентийца Вазари – не историческое бытование различных неповторимых форм художественной деятельности, пусть в рамках одной лишь Италии, но новое открытие, возрождение некой Нормы, переход от «готского» варварства к совершенству. Оно воплотилось в творчестве трех гигантов – Леонардо, Рафаэля и Микеланджело. Такая история искусства есть лишь история Идеала, высших ценностей некоего «чистого искусства».
Ни для кого не секрет, сколь влиятельной оказалась эта модель: любой европеец, даже едва знакомый с искусством, назовет всех трех гигантов. Бессмысленно лишать их заслуженных пьедесталов, как бессмысленно заставлять всех европейцев становиться африканистами или востоковедами. Но само развитие искусства предполагает и постоянное обогащение изучающей его науки. Уже на рубеже XIX–XX веков, когда возникли первые этнографические коллекции, появились и первые научные монографии о неевропейских художественных традициях, и опыты многотомных историй искусств разных народов и стран. Всякий историк искусства знает, что импрессионисты непонятны без искусства Восточной Азии, экспрессионизм и кубизм – без искусства Африки и Океании, архитектура Европы XX века – без американской гегемонии, без Манхэттена[12 - Cohen J.-L. The Future of Architecture. Since 1889. L.; N.Y., 2016; Колхас Р. Нью-Йорк вне себя: [ретроактивный манифест Манхэттена] / пер. А. Смирновой. М., 2013.]. Следовательно, история искусства, ограничивающая свое поле зрения традиционными географией и хронологией, в глобальном мире окажется по определению провинциальной и позавчерашней.
Искусство принято делить на техники и виды, например, на живопись, графику, скульптуру и архитектуру. Или на живопись (с подчиненной ей графикой), скульптуру, архитектуру и прикладное искусство[13 - Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2008. С. 14 (этот курс лекций дописан в середине 1960-х годов).]. Еще один вполне обоснованный способ классификации, упорядочивания необозримого, по сути, материала можно назвать функциональным. Изображение, скажем, человека или божества в разные эпохи могут иметь общим лишь предмет изображения, зато функция изображения подвержена в историческом времени самым невероятным изменениям. Если посмотреть на проблему еще шире, картина в раме сегодня лишь отдаленно обладает в повседневной жизни значением, которым она обладала двести лет назад. Но присущее ей и сейчас достоинство, определенная неприкосновенность, аура – прямые наследники того алтарного образа, ретабля, который в Средние века и раннее Новое время приковывал к себе взгляд верующего в храме, когда он служил квинтэссенцией храмового пространства. В то же время памятник жертвам и героям страшных войн XX века может иллюстрировать смерть за родину мотивами христианского мученичества и религиозной экзальтации. В вычленении, правильном понимании и описании подобных функций, их изменений и преемственности следует видеть одну из задач истории искусства.
МАТЕРИАЛ, ТЕХНИКА, СТИЛЬ
Описать облик произведения, определить значение, вложенное в него автором, функции, которые оно выполняло на протяжении своей истории, можно только при условии, что мы обладаем максимумом доступных нам знаний о том, из чего и с помощью каких инструментов и технических процедур оно создано.
Историк искусства отличается от умного посетителя музея и культурного туриста тем, что задается вопросом о сохранности того, что мы видим, и, следовательно, о его подлинности. Чем старше произведение, тем больше шансов, что оно подвергалось частичной или полной реставрации, перестройке, перекраске, поновлению (как говорят об иконах), предпродажной полировке или, напротив, обрезке, расчленению, эрозии, коррозии, заражению, атаке грызунов или насекомых. Все эти вмешательства (осознанные или неосознанные, с добрыми или недобрыми намерениями, рукотворные или под действием стихий) – неотъемлемая часть истории предмета. Следовательно, мы не можем их игнорировать, но они же стоят между нами и, говоря словами историка Леопольда фон Ранке, тем, «как оно было на самом деле».
Предмет искусства, даже самый небольшой, чаще всего несет на себе следы времени, истории, отдаленной от момента его создания, но следы не менее поучительные и важные, чем главный, изначальный «след». Точно так же и фрагмент или осколок замечательного произведения, слепок или копия с него могут иметь для истории искусства не менее ключевое значение, чем целое, но по каким-то причинам исчезнувшее или сильно пострадавшее произведение. Мы знаем лишь по копиям «Дорифора» Поликлета и «Битву при Ангиари» Леонардо. Но без них нет истории мирового искусства. В конце концов любое событие мы тоже восстанавливаем не по цельной «картине», а по таким же «осколкам»: реляциям, воспоминаниям, дневникам, письмам, хроникам, фотографиям. Главное – понимать, когда оказавшийся в поле нашего зрения артефакт представляет собой фрагмент, а когда – полностью сохранившийся комплекс.
Эмпирическая база истории искусства состоит из трех компонентов: исследования материала (т. е., собственно, материи или носителя и примененных к нему средств художественной обработки, заложенного творцом смысла), критики связанных с произведением письменных источников и знания разноплановых исторических реалий, в которых произведение возникло. Один и тот же человек, каким бы эрудитом он ни был, не может в совершенстве владеть всеми соответствующими знаниями, от палеографии до металлургии и дендрохронологии. В истории искусства традиционно последнее слово о конкретном памятнике остается за стилистическим анализом, то есть анализом формы[14 - Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве / пер. М.Ю. Кореневой. СПб., 2001. С. 139–170. (Классика искусствознания).]. Он зиждется на тренированной зрительной памяти и эстетической чувствительности. Но вердикт, вынесенный настоящим знатоком, все же не равнозначен решению математической задачи или результату лабораторного опыта, даже если работа знатока с произведением в реальности зачастую похожа на лабораторный опыт, в особенности когда речь идет о небольшом произведении, которое можно поместить для исследования в технически оснащенный кабинет. Бывают случаи, когда знаток, чей взгляд сформирован, «заточен» внимательным изучением тысяч и тысяч памятников, может успешно противоречить даже самым надежным археометрическим критериям датировки или локализации, данным химии, палеоботаники, филологии, палеографии, исторической лингвистики, археологии, нумизматики, сфрагистики и других высокотехнических дисциплин. В то же время ни настоящее знаточество, ни полноценный стилистический анализ немыслимы без внимания к данным минимум двух десятков видов знания о предметах человеческой и природной деятельности.
Начиная с расцвета знаточества во второй половине XVIII века в истории искусства, как во всех науках, субъективный взгляд исследователя не соперник, а соратник объективной технологии. За последнюю четверть века техническая оснастка истории искусства (конечно, там, где есть соответствующее финансирование) ушла далеко вперед. Но следует учитывать, что естественно-научные методы анализа, для неопытного взгляда гуманитария непреложные, неизменно сопряжены с разного рода погрешностями. Их результаты всегда, как во всякой науке, – поле интерпретации, а не истина в последней инстанции. Радикальная переоценка «Черного квадрата», со всеми вытекающими для истории авангарда в целом последствиями, недавние исследования зала Пятисот флорентийского палаццо Веккьо, где находилась упомянутая «Битва при Ангиари», перемещение благодаря реставрации «Капитолийской волчицы» из эпохи этрусков в Средневековье – характерные примеры плодотворного сотрудничества между искусствоведами, реставраторами и технологами, даже если результаты его не всегда приводят к бесспорным, единодушно принимаемым выводам.
Общепринятого определения стиля не существует ни в искусствознании, ни в литературоведении, тем не менее искусствоведы и литературоведы считают именно стиль одновременно одним из важнейших для себя предметов изучения и категорией, инструментом своей работы[15 - Довольно четкое описание категории стиля с позиции литературоведения дал в свое время итальянский семиолог Чезаре Сегре: Segre C. Stile // Enciclopedia Einaudi. Torino, 1982. P. 549–565.]. Еще меньше ясности со стилем в истории философии. Историк же вообще крайне редко задумывается о нем – лишь тогда, когда готов думать вместе с коллегами из соседних цехов и говорить на их языках[16 - Гинзбург К. Стиль. Включение и исключение // Его же. Деревянные глаза. Десять статей о дистанции / пер. М. Велижева, С. Козлова, Г. Галкиной. М., 2021. С. 246–321.]. Он понимает, что, подбирая слова, сочетая несочетаемое, возможно, вступая в молчаливый диалог с другими поэтами, поэт формирует свой стиль; что, накладывая краски, с лессировкой или без, смягчая складку одежды или, напротив, огрубляя ее, художник следует некоему стилю. Но историк не хуже Сартра чувствует, что «стиль должен остаться незамеченным»[17 - Sartre J.-P. Qu’est-ce que la litеrature? P., 1948. P. 30. Выполненный А.К. Авеличевым достойный русский перевод первой главы этой книги: Сартр Ж.-П. Что такое литература? // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе / сост., общ. ред. Г.К. Косикова. М., 1987. С. 313–334, здесь с. 325.].
Стиль сравнивают с радугой: мы наблюдаем в ней совпадение нескольких физических условий, оказавшись между солнцем и дождем, но она исчезает, как только мы пытаемся подойти к ней[18 - Kubler G. Op. cit. Р. 129.]. Бюффон в 1753 году говорил, что «стиль – это человек»[19 - Бюффон Ж.Л.Л де. Речь при вступлении во Французскую академию / пер. В.А. Мильчиной // Новое литературное обозрение. 1995. № 13. С. 171. Ср.: Гёте И.В. Об искусстве: [сборник] / сост. А.В. Гулыга. М., 1975. С. 92–97.]. Но какой? И что именно в человеке – стиль? Не найти его и среди «странствующих понятий» (travelling concepts) современной гуманитарной междисциплинарности, даже в добротном «путеводителе», его нет в одном из лучших современных учебников по истории искусства, который вышел в Германии, нет в своде основных терминов, подготовленном в Чикаго[20 - Bal M. Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide. Toronto, 2002. (Green College Lectures) (известный культуролог, совмещающий в своей работе методы литературоведения, искусствоведения, медиаисследования, пользуется понятием стиля, как все, описательно); Kunstgeschichte: eine Einf?hrung / Hg. H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerl?nder, M. Warnke. Berlin, 2008; Critical Terms for Art History / ed. R.S. Nelson, R. Shiff. Chicago, 1996.]. В рассчитанных на широкую аудиторию замечательных обзорах всей истории искусства ни Эрнст Гомбрих семьдесят лет назад, ни Чарльз Харрисон десять лет назад не посчитали нужным объяснять, что в конкретном произведении – стиль, а что, например, – иконография, техника исполнения или какие-то еще значимые обстоятельства[21 - Гомбрих Э. История искусства / пер. В.А. Крючковой, М.И. Майской. М., 2013; Harrison Ch. An Introduction to Art. New Haven; L., 2009. См., однако: Gombrich E. Style // The International Encyclopedia of the Social Sciences. 1968. Vol. 15. P. 352–361.]. Тем не менее проблема формы и стиля в профессиональном искусствознании, конечно, ставилась не раз[22 - Frankl P. Zu Fragen des Stils. Leipzig, 1988. (Seemann-Beitrag zur Kunstwissenschaft); Шапиро М. Стиль // Советское искусствознание. 1988. Вып. 24. С. 385–425; Read H. The Origins of Form in Art. L., 1965. P. 33 ff.].
Важно понимать, что, при всей трудности определения ключевого понятия науки об искусстве, стиль все же не абстракция, потому что он есть везде, где мысль или образ нуждаются в воплощении, – в слове или в материальном изображении. Именно поэтому, на самом деле, стилем оперируют многие гуманитарные и социальные дисциплины. В такой специфической области, как социология знания, проблема стилей мышления, формирующихся в объединенных этими стилями общностях, «мыслительных коллективах» (труднопереводимое немецкое Denkkollektive), была четко сформулирована уже в конце 1920-х годов Карлом Маннгеймом. Он, живший и писавший в Веймарской Германии, видел именно в них научно верифицируемые проявления коллективного бессознательного, скрытые от нас мотивы «духовного брожения нашего времени»[23 - Mannheim K. Ideologie und Utopie. Frankfurt a.M., 2015. S. 30.]. Его подход был вскоре подхвачен и осмыслен в историческом ключе (в связи с Ренессансом) Людвиком Флеком[24 - Fleck L. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache: Einf?hrung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Basel, 1935. См. также комментированный Томасом Куном и Тадеушем Тренном отличный английский перевод, который и сделал эту работу авторитетной: Fleck L. Genesis and Development of a Scientific Fact. L., 1979. Р. 158–162.], а вслед за ним отразился в истории науки. Томас Кун, стремясь продемонстрировать не сходство, а отличия между прогрессом научного знания и прогрессом других областей культуры, тоже признавал, что научному мышлению присущ стиль и что во внедрении «парадигм» в «нормальную науку» большую роль всегда играло то, как они формулировались и принимались[25 - Кун Т. Структура научных революций / пер. И.З. Налетова; общ. ред. С.Р. Микулинского и Л.А. Марковой. М., 1977. С. 209, 272.]. Алистер Кромби, также один из самых авторитетных представителей истории науки, считает возможным говорить о «стилях научного мышления» как основной категории своей дисциплины. Он исходит из того, что язык во все времена – и во все времена по-разному! – влиял на формирование научных концепций, что внутри одной и той же цивилизации сосуществуют различные картины мира и что осмыслить этот парадокс историк науки может, лишь сделавшись в определенной мере антропологом, то есть увидев концепции науки сквозь призму моральных, практических, культурных, экономических и политических нужд конкретного общества[26 - Crombie A. Styles of Scientific Thinking in the European Tradition. The History of Argument and Explanation Especially in the Mathematical and Biomedical Sciences and Arts: in 3 vols. L., 1994. Vol. 1. Р. 7–23.].
Как верно отмечал Л.М. Баткин в книге, посвященной культуре Возрождения, «чтобы история мысли предстала как история культурного сознания в самом широком смысле, нужно подвергнуть анализу не столько предметное содержание итальянского гуманизма, сколько стиль философствования: не столько что думали гуманисты, сколько как они это делали». Исследователя, писавшего «групповой портрет» ренессансных философов, интересовали не «взгляды гуманистов», не «готовые идеологические и теоретические результаты, а скрывавшийся за ними способ выработки результатов, своеобразная манера ставить вопросы, спорить, аргументировать»[27 - Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995. С. 49–50.]. Предложенный Баткиным в конце 1970-х годов подход к истории мысли на самом деле во многом сродни подходу не только любимого им Бахтина, но и тогда еще мало известного в СССР Мишеля Фуко, искавшего исторически зафиксированные формы знания в «стиле высказывания»[28 - Foucault M. L’archеologie du savoir. P., 1969. Р. 50. (NRF; Biblioth?que des Sciences humaines). Я в данном случае ссылаюсь на французский оригинал из-за известных недостатков перевода М.Б. Раковой и А.Ю. Серебрянниковой (Фуко М. Археология знания / пер. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой. СПб., 2004. (Ars Pura. Французская коллекция)).]. В целом же баткинское понятие стиля мышления представляется мне плодотворным для решения сформулированной выше проблемы.
Олег Сергеевич Воскобойников
HSE Bibliotheca Selecta
Эта книга – введение в историческое исследование искусства. Она построена по крупным проблематизированным темам, а не по традиционным хронологическому и географическому принципам. Все темы связаны с развитием искусства на разных этапах истории человечества и на разных континентах. В книге представлены различные ракурсы, под которыми можно и нужно рассматривать, описывать и анализировать конкретные предметы искусства и культуры, показано, какие вопросы задавать, где и как искать ответы. Исследуемые темы проиллюстрированы многочисленными произведениями искусства Востока и Запада, от древности до наших дней. Это картины, гравюры, скульптуры, архитектурные сооружения знаменитых мастеров – Леонардо, Рубенса, Борромини, Ван Гога, Родена, Пикассо, Поллока, Габо. Но рассматриваются и памятники мало изученные и не знакомые широкому читателю. Все они анализируются с применением современных методов наук об искусстве и культуре.
Издание адресовано исследователям всех гуманитарных специальностей и обучающимся по этим направлениям; оно будет интересно и широкому кругу читателей.
Олег Воскобойников
Эссе об истории искусства
Серия «HSE Bibliotheca Selecta»
Основана в 2020 г.
Кураторы: Елена Иванова, Александр Павлов
В книге использованы результаты проекта «Границы светского и церковного в Средние века и раннее Новое время: Русь и Западная Европа», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 г.
Рецензенты:
кандидат искусствоведения, PhD, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства Анна Вяземцева;
кандидат исторических наук, научный сотрудник учебно-научного Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени Российского государственного гуманитарного университета Михаил Майзульс;
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», литературный критик Галина Юзефович
© Воскобойников О.С., 2022
Об этой книге
Так уж получилось, что в Высшей школе экономики мне, медиевисту, суждено было преподавать не средневековую историю, а историю искусства. Я сознательно принял этот вызов в 2010 году, когда мы с коллегами начинали работать на вновь созданном историческом факультете и распределяли между собой магистральные, неприкосновенные дисциплины. Вызов был двоякого свойства. Во-первых, история искусства – моя вторая, не совсем «законная» любовь, потому что по всем «корочкам» я историк. Во-вторых, на русском языке формально не было и нет обзорного пособия по этой науке, хотя, естественно, хватает замечательных книг по отдельным проблемам и направлениям. Наконец, очень не хотелось «упаковывать» всю историю искусства «от бизона до Барбизона» (не говоря уже о Бэнкси) в традиционный курс в двадцать лекций.
С самого начала я чувствовал, что моему авторскому курсу, чтобы стать реально авторским, нужно что-то свое. Я не преподаю историкам искусства, моя задача – в том, чтобы познакомить с этой наукой и, естественно, с произведениями искусства тех, кто пришел в ВШЭ осваивать другие профессии: историков, экономистов, международников. Хотелось и хочется учить смотреть, описывать и анализировать произведения и памятники, а не расставлять реперные точки в хронологической таблице. Несколько лет назад я решился изложить мои представления об искусстве в форме эссе. Откладывая на послезавтра то, что нужно было сдать завтра, я дожил до марта 2020 года. У меня были готовы всего три эссе из запланированных. Как и все, я оказался заперт в четырех стенах. Сидел и работал.
Я точно знал, что не хочу повторять Эрнста Гомбриха, описавшего-таки всю историю искусства удивительно ясным, «для всех», языком в 1950 году и недавно переведенного, наконец, на русский. Знал также, что и Бориса Виппера мне не пересмотреть и ничем особым не дополнить. Первый, один из самых высоколобых наследников Варбурга, изложил последовательность событий так, что дальше можно лишь менять некоторые акценты. Мне, например, немного обидно, что на Бенвенуто Челлини у него нашлось две страницы, а на Андрея Рублева – ни строчки. Техническая сторона вопроса Гомбриха тоже особо не волновала, хотя он и видел, и умел представить в истории произведений искусства отражение общей истории культуры. Второй, классик советского искусствознания, не менее четко разъяснил, чем литография отличается от ксилографии, масло – от темперы, мрамор – от бронзы, и как все это смотреть и анализировать. Но интересовавшие их вопросы, отчасти сохраняя свою актуальность, обогатились несколькими крупными поворотами гуманитарных знаний, опытом еще трех поколений историков искусства и, что не менее важно, художников. Оба знали искусство своего времени, но оба словно вынесли свой век за скобки.
Любой «древник» тяготеет к своей древности. Именно поэтому я решил в эссе не увлекаться лучше всего знакомым мне «тысячелетним царством» – Средневековьем. Это стало сознательным выбором, но и элементарным проявлением любопытства и немного – дерзости: я впервые взялся за что-то серьезное не о Средневековье. Мне помог десятилетний опыт преподавания в Высшей школе экономики. Сотни студентов выступали и выступают на моих семинарах с докладами о конкретных произведениях искусства, пишут о них же эссе. Создав магистерскую программу «Медиевистика», я с удовольствием принимал историков искусства и стимулировал их работу с визуальным материалом, соглашался на чисто искусствоведческие темы, не оглядываясь на дисциплинарные привычки и предрассудки. История искусства изучает памятники искусства, но она тоже – история людей. Просто, может быть, она о том лучшем, что от людей остается на века.
Отчасти отвечая на обновленный любопытством моих учеников собственный вопросник, отчасти ради движения вперед, первой ковидной осенью я решил полностью переделать свой курс и отразить его в выбранной мной форме. Мои лекции всегда замкнуты тематически, то есть каждая предъявляет большую тему. Например, «Латынь архитектуры», «Город как произведение искусства», «Лицо, маска, портрет», «Незавершенное и незавершимое», «Против искусства: аниконизм, иконоборчество и вандализм», «Поэтика фотографии», «Искусство – философия – картина мира».
Как можно видеть, такая тематическая разбивка сознательно уходит от основных координат исторического описания: хронологии и географии. Нет или почти нет ни жанров, ни техник искусства, всем знакомых со школьной скамьи, тех самых, которые легли в основу учебного пособия Бориса Виппера «Введение в историческое изучение искусства». На самом деле историка из меня не вытравить. Я понимаю, что иконоборчество фараонов – не то же, что брань Хрущева или Бульдозерная выставка, что так называемая маска Агамемнона не равна маске индейца, выставленной в Музее на набережной Бранли, что тело у Родена не то же, что на фризах Пергамского алтаря. Но мне очень хотелось представить искусство как приключение, длящееся так же долго, как цивилизация, а может быть, и дольше. В этом приключении есть сюжеты, проблемы, вопросы, объединяющие все человечество, но эти вопросы оно всегда решает по-разному, в том числе с помощью эстетической функции. Она – лишь одна из функций вещей, вездесущая, но далеко не всегда главная. Между тем в этом мире абсолютно всё может быть красивым, даже деньги. В особенности, когда они выходят из оборота и теряют запах. Старые вещи молчат о своем, не тревожат наш быт, зато бередят воображение, воздействуют на чувства и разум. В вещах скрыта сила, совсем не заложенная в них ни производителем, ни потребителем, но пробуждающаяся в новых условиях, иногда спонтанно, иногда потому, что это кому-то показалось нужным и полезным для себя или для других. Искусство – везде, а художник – дремлет в каждом из нас.
Из последних философических рассуждений очевидно, что такой ход мыслей мало похож на нормативные знания. Именно поэтому перед читателем – не учебник, не «норматив», даже не лекционный курс. Мои эссе не претендуют на систему координат, которую ни с того ни с сего примут историки искусства, дизайнеры или культурологи. Никто из них не обязан преподавать историю искусства по-моему. Если мне есть что сказать обо всем искусстве, это не значит, что то же самое захотят сказать о нем коллеги.
Французское essai, вышедшее из среднелатинского exagium («взвешивание», «измерение»), уже в конце XII века означало во Франции «встречу с чем-то новым», «испытание» и в особенности опытное засвидетельствование качеств и характеристик какого-то предмета. Вскоре метонимически этот термин перешел в кулинарию, виноделие, так стали называть дегустационный бокал. А в середине XVI века им решили обозначить опыты начинающих литераторов, которые в прозе брались за какую-то тему, не претендуя на полноту изложения. Среди этих последних в 1580 году оказался Мишель де Монтень. Вместе с тем мне кажется, что предлагаемый здесь взгляд претендует на определенную системность, как положено университетскому курсу. Поэтому я выражаю глубокую признательность моим студентам, ассистентам и ученикам, особенно Александре Мамлиной, нашедшей время прочитать книгу целиком; и, конечно, Ольге Шестопаловой, лучшему редактору, с каким мне доводилось работать.
Олег Воскобойников
Предмет истории искусства
Искусство не изображает видимое, но делает его видимым.
Пауль Клее. Творческая исповедь (1920)
Сформулировать предмет и исследовательские задачи истории искусства, не прибегнув к тавтологии, почти невозможно. Предмет истории искусства – нечто материальное, получившее форму благодаря воздействию человека, причем не всякое произведение труда, но особое. До недавнего времени история искусства ограничивалась тем видом предметов, которые обозначали термином «произведение искусства». Их оценкой и атрибуцией занимались и занимаются эксперты, наследники «знатоков» XVIII–XIX веков. Иногда – но не всегда последовательно – различают историю искусства и искусствознание или искусствоведение. Зачастую дело – в личных исследовательских задачах конкретного ученого: если он склонен к теоретизированию и осмыслению каких-то вневременных процессов или явлений, он скорее назовет себя искусствоведом. Если же, напротив, его взгляд всегда привязан к хронологии, истории, последовательному развитию образов и стилей во времени, он скорее историк искусства. Тем не менее его тоже всегда интересует конкретный материальный предмет, каким-то способом созданный или обработанный человеком и тем самым выведенный, частично или полностью, из царства природы.
На почетное звание произведения искусства всегда мог претендовать лишь предмет, возникший в результате творческого акта, по возможности гениального, из ряда вон выходящего, акта, совершенного художником. Такое произведение, во-первых, наделяли эстетической ценностью, во-вторых, констатировали его – не побоимся этого слова – бесполезность в обыденной жизни. «Мы можем простить человека за то, что он сделал полезную вещь, пока он не начал ею восхищаться. Единственное, что извиняет бесполезную вещь, – подлинное восхищение. Всякое искусство в общем-то бесполезно» – таким рассуждением в 1890 году Оскар Уайльд предваряет «Портрет Дориана Грея»[1 - Wilde O. The Picture of Dorian Gray // The Works of Oscar Wilde / ed. G.F. Maine. L.; Glasgow, 1949. P. 17.]. Произведение изобразительного искусства или памятник архитектуры, естественно, могут выполнять разные функции в жизни индивида или общества, но как произведения искусства они из нее выключены, они – предмет эстетического созерцания.
Мы начали с рукотворности. Действительно, прекрасную реку или гору мы можем назвать разве что шедевром природы. Но все становится сложнее, если оказаться, например, в парке какого-нибудь дворца – неважно, европейского или иного. Дворец без окружающего парка немыслим, парк без дворца – неуместен. Сузим оптику: в японском или китайском саду каждый камень, никак не обработанный, но тщательно подобранный по породе, размеру, силуэту, рисунку, цвету, обладает четким положением в общей картине. Он одновременно звено в цепи, фрагмент и самодостаточный микромир. Его не назовешь рукотворным, но его коснулись мысль и руки создателя сада, претендующего на особый статус. Конечно, японский и китайский сады – самобытные историко-культурные явления, объяснимые особым эстетическим отношением к природе в традиционном Китае и в традиционной Японии, в буддизме, в синтоизме[2 - Kuitert W. Themes, Scenes, and Taste in the History of Japanese Garden Art. Amsterdam, 1988; Малинина Е.Е. Искусство, рожденное безмолвием. Новосибирск, 2013. С. 15–102.]. Но этот почти случайно взятый пример показывает, что границы между живым и неживым, органическим и созданным человеком в определении предмета истории искусства, на самом деле, размыты. Неслучайно некоторые вековые деревья бонсай в Японии возведены в ранг национального достояния. И они – живые.
Упомянутая эстетическая функция, то есть способность украшать и красотой услаждать взгляд зрителя, – одна из нескольких функций любого предмета. Все его функции распространены, но эстетическая среди них – самая выразительная. Более того, она вездесущая. Ян Мукаржовский когда-то отметил: «Как везде, откуда взяли вещь, пространство наполняется воздухом или как в изгиб пространства, откуда отступил свет, проникает тьма, точно так же и эстетическая функция неотступно следует за остальными: где другие функции ослаблены, или уступают, или перегруппировываются, туда мгновенно проникает и там соответственным образом усиливается эстетическая функция»[3 - Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994. С. 478.]. Так старый предмет в лавке старьевщика одной своей стариной уже пробуждает в нас умиление, если не восхищение. Так и сами мы расставляем вокруг себя предметы и развешиваем изображения, изначально зачем-то нужные, но постепенно обретающие значение чего-то привычного и приятного глазу. Нет такой вещи, которая не могла бы стать носительницей эстетической функции, и нет вещи, которая была бы носительницей только ее. Зато, обладая этой функцией, вещь выходит за предписанные ей бытом границы и способна преображать пространство вокруг себя (илл. 1).
1. Пьетро Пиффетти. Письменный стол. 1741 год. Венеция. Зал Ладзарини дворца Ка-Реццонико
За повсеместным проникновением основанных на зрительном восприятии средств коммуникации в гуманитарных науках произошел так называемый визуальный или, если использовать кальку с английского, «иконический поворот», iconic turn[4 - Общий обзор см.: Инишев И.Н. «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // Логос. 2012. Т. 85. № 1. С. 184–211.]. Он привел к тому, что академическая история искусства тоже сильно изменилась. В круг ее интересов вошли сначала кинематограф и фотография, затем комиксы, реклама на всех возможных носителях, включая рекламу в Интернете, перформанс, дизайн, уличные граффити – одним словом, едва ли не все, что изображено, а не написано и не высказано на словах, все, что придает «форму времени»[5 - Alpers S. Is Art History? // Daedalus. 1977. Vol. 106. No. 3. P. 1–13; Belting H. Das Ende der Kunstgeschichte? M?nchen, 1983; Kubler G. Teh Shape of Time. Remarks on the History of Things. New Haven; L., 1962.]. Еще Генрих Вёльфлин, один из классиков искусствознания, сто лет назад говорил, что у «в дения есть своя история»[6 - Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / пер. А.А. Франковского. М., 2002. С. 281–282.]. Он имел в виду, что каждая эпоха смотрит по-своему. Анализируя постройку, он сознательно описывал свою психосоматическую реакцию на нее, включая напряжение тех или иных групп мышц. Развивая его идеи, Эрнст Гомбрих писал о мышечной реакции человека на изображения, зачастую не менее отчетливой, чем на музыку, и приводил в пример… посещение зоопарка, где мы совершенно по-разному ощущаем присутствие перед нами бегемота и хищника из семейства кошачьих[7 - Gombrich E. The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation. Ithaca, N.Y., 1982. P. 128.]. Таков закон визуальной эмпатии. Современная нейробиология заинтересовалась этим диалогом между искусством и зрителем и породила нейроэстетику[8 - Zeki S. Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain. Oxford, 1999; Фридберг Д., Галлезе В. Движение, эмоция и эмпатия в эстетическом переживании // Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры / ред. – сост. Н.Н. Мазур. СПб.; М., 2018. С. 476–485.]. Но тот же Вёльфлин создал свой категориальный искусствоведческий аппарат, претендующие на ковровую применимость «основные понятия», полностью проигнорировав авангард, словно отгородившись Рафаэлем от всякого, как выразился потом арт-критик Роберт Хьюз, «шока новизны». Сегодня, осознавая эти недостатки, история искусства объединяется с визуальной антропологией, а их общим полем становится визуальная культура, то есть все видимые формы, в которых проявляется культурная деятельность человека[9 - Рехт Р. Предмет истории искусства // Его же. Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков / пер. и науч. ред. О.С. Воскобойникова. М., 2014. С. 313–334. (Исследования культуры); Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований // Логос. 2012. Т. 85. № 1. С. 212–249.].
В XX столетии пошатнулся сам статус уникального артефакта, на смену которому пришло воспроизводимое, серийное, индустриальное. Художники авангарда первыми возвестили об этом, ученые – философы и искусствоведы – осмыслили изменения в 1920–1930-е годы. Одни, не вынося приговора, видели в смене парадигмы движение вперед, другие – «утрату середины» (Г. Зедльмайр), «дегуманизацию искусства» (Х. Ортега-и-Гассет), его «умирание» (В. Вейдле)[10 - Зедльмайр Х. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / пер. С.С. Ванеяна. М., 2008. С. 229–241. (Университетская библиотека Александра Погорельского); Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы: сборник / пер. С. Васильевой и др.; сост. И. Тертерян, Н. Матяш. М., 1991. С. 500–517. (Антология литературно-эстетической мысли); Вейдле В. Умiрание искусства. Размышленiя о судьбе литературного и художественного творчества. Парижъ, 1937 (книга вышла почти одновременно на французском и русском языках в дореволюционной орфографии).]. «Закат» (нем. Untergang означает также «гибель») старой Европы ознаменовал для Шпенглера и падение всех ее традиционных ценностей. В эпоху двух великих войн такой пессимистический, тревожный настрой вполне объясним. В любом случае революционные изменения в искусстве не могли не повлиять на только что родившуюся науку об искусстве. Смена предмета естественна, с одной стороны, потому что историк искусства – полноценный участник этой революции, он не только аналитик или наблюдатель, но и потребитель визуальной информации, захлестнувшей все стороны нашей общественной и частной жизни. С другой же стороны, ни одна другая гуманитарная наука не обладает столь развитым инструментарием описания и анализа изображений, хотя нет ни одной гуманитарной науки, которая полностью отказалась бы от работы с тем, что принято называть (на мой взгляд, не всегда определенно) визуальными источниками.
В ответ на очевидный вызов современности в XX столетии возникли и новые формы знания об изображениях, такие как семиотика или визуальная антропология в самых разных проявлениях. Предмет и задачи этих форм знания могут сильно различаться, но и диалог между ними – характерная черта научной жизни XX века и в наши дни. Иногда обаяние соседних муз столь велико, что историк искусства уже изучает не произведение, а «рецепцию», «перцепцию», «суггестивность», «коммуникацию» и «репрезентацию». В нашей стране периодически возникают направления с привлекательно, но не всегда ясно звучащими названиями, вроде «иерото?пии», посвященной неким «священным пространствам», или «потестарной имагологии», изучающей формы репрезентации власти[11 - Бойцов М.А. Что такое потестарная имагология? // Власть и образ. Очерки потестарной имагологии / отв. ред. М.А. Бойцов, Ф.Б. Успенский. СПб., 2010. С. 5–37. В первом случае старинный принцип составления понятия из греческих корней сохранен, но вряд ли оправданно сводить «священное» и «место», а изучать – «пространства», объявляя их «священными». Во втором случае к латинскому слову imago приклеено греческое обозначение знания, logos, – получается некое «знание» об «изображениях», «потестарное», то есть «властное», то ли по своему характеру, то ли по объекту изучения. Спорность таких названий не означает, что в рамках описанных ими направлений не делается замечательных открытий.]. За изображениями хотят видеть «образы», «представления», «фобии», сны и галлюцинации.
Все подобные поиски на стыке ряда гуманитарных дисциплин оправданны, но историк искусства не может не быть в большой степени реалистом, ибо его волнует «вещь», по-латыни res, и материалистом, ибо он чуток к материи, из которой эта вещь сделана. Он всегда – предметник. Перед его исследовательским взором, независимо от масштаба поставленных задач, всегда должен находиться конкретный предмет. И мы не раз увидим, почему это так принципиально для нашей науки.
В середине XVI века Джорджо Вазари, ученик Микеланджело, заложил основы искусствознания: его «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» – не просто биографии и каталог памятников, но именно аналитическая история школ и стилей. Она стала великим новшеством в истории знаний, но написана, что называется, с флорентийской колокольни. Прогресс искусства для флорентийца Вазари – не историческое бытование различных неповторимых форм художественной деятельности, пусть в рамках одной лишь Италии, но новое открытие, возрождение некой Нормы, переход от «готского» варварства к совершенству. Оно воплотилось в творчестве трех гигантов – Леонардо, Рафаэля и Микеланджело. Такая история искусства есть лишь история Идеала, высших ценностей некоего «чистого искусства».
Ни для кого не секрет, сколь влиятельной оказалась эта модель: любой европеец, даже едва знакомый с искусством, назовет всех трех гигантов. Бессмысленно лишать их заслуженных пьедесталов, как бессмысленно заставлять всех европейцев становиться африканистами или востоковедами. Но само развитие искусства предполагает и постоянное обогащение изучающей его науки. Уже на рубеже XIX–XX веков, когда возникли первые этнографические коллекции, появились и первые научные монографии о неевропейских художественных традициях, и опыты многотомных историй искусств разных народов и стран. Всякий историк искусства знает, что импрессионисты непонятны без искусства Восточной Азии, экспрессионизм и кубизм – без искусства Африки и Океании, архитектура Европы XX века – без американской гегемонии, без Манхэттена[12 - Cohen J.-L. The Future of Architecture. Since 1889. L.; N.Y., 2016; Колхас Р. Нью-Йорк вне себя: [ретроактивный манифест Манхэттена] / пер. А. Смирновой. М., 2013.]. Следовательно, история искусства, ограничивающая свое поле зрения традиционными географией и хронологией, в глобальном мире окажется по определению провинциальной и позавчерашней.
Искусство принято делить на техники и виды, например, на живопись, графику, скульптуру и архитектуру. Или на живопись (с подчиненной ей графикой), скульптуру, архитектуру и прикладное искусство[13 - Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2008. С. 14 (этот курс лекций дописан в середине 1960-х годов).]. Еще один вполне обоснованный способ классификации, упорядочивания необозримого, по сути, материала можно назвать функциональным. Изображение, скажем, человека или божества в разные эпохи могут иметь общим лишь предмет изображения, зато функция изображения подвержена в историческом времени самым невероятным изменениям. Если посмотреть на проблему еще шире, картина в раме сегодня лишь отдаленно обладает в повседневной жизни значением, которым она обладала двести лет назад. Но присущее ей и сейчас достоинство, определенная неприкосновенность, аура – прямые наследники того алтарного образа, ретабля, который в Средние века и раннее Новое время приковывал к себе взгляд верующего в храме, когда он служил квинтэссенцией храмового пространства. В то же время памятник жертвам и героям страшных войн XX века может иллюстрировать смерть за родину мотивами христианского мученичества и религиозной экзальтации. В вычленении, правильном понимании и описании подобных функций, их изменений и преемственности следует видеть одну из задач истории искусства.
МАТЕРИАЛ, ТЕХНИКА, СТИЛЬ
Описать облик произведения, определить значение, вложенное в него автором, функции, которые оно выполняло на протяжении своей истории, можно только при условии, что мы обладаем максимумом доступных нам знаний о том, из чего и с помощью каких инструментов и технических процедур оно создано.
Историк искусства отличается от умного посетителя музея и культурного туриста тем, что задается вопросом о сохранности того, что мы видим, и, следовательно, о его подлинности. Чем старше произведение, тем больше шансов, что оно подвергалось частичной или полной реставрации, перестройке, перекраске, поновлению (как говорят об иконах), предпродажной полировке или, напротив, обрезке, расчленению, эрозии, коррозии, заражению, атаке грызунов или насекомых. Все эти вмешательства (осознанные или неосознанные, с добрыми или недобрыми намерениями, рукотворные или под действием стихий) – неотъемлемая часть истории предмета. Следовательно, мы не можем их игнорировать, но они же стоят между нами и, говоря словами историка Леопольда фон Ранке, тем, «как оно было на самом деле».
Предмет искусства, даже самый небольшой, чаще всего несет на себе следы времени, истории, отдаленной от момента его создания, но следы не менее поучительные и важные, чем главный, изначальный «след». Точно так же и фрагмент или осколок замечательного произведения, слепок или копия с него могут иметь для истории искусства не менее ключевое значение, чем целое, но по каким-то причинам исчезнувшее или сильно пострадавшее произведение. Мы знаем лишь по копиям «Дорифора» Поликлета и «Битву при Ангиари» Леонардо. Но без них нет истории мирового искусства. В конце концов любое событие мы тоже восстанавливаем не по цельной «картине», а по таким же «осколкам»: реляциям, воспоминаниям, дневникам, письмам, хроникам, фотографиям. Главное – понимать, когда оказавшийся в поле нашего зрения артефакт представляет собой фрагмент, а когда – полностью сохранившийся комплекс.
Эмпирическая база истории искусства состоит из трех компонентов: исследования материала (т. е., собственно, материи или носителя и примененных к нему средств художественной обработки, заложенного творцом смысла), критики связанных с произведением письменных источников и знания разноплановых исторических реалий, в которых произведение возникло. Один и тот же человек, каким бы эрудитом он ни был, не может в совершенстве владеть всеми соответствующими знаниями, от палеографии до металлургии и дендрохронологии. В истории искусства традиционно последнее слово о конкретном памятнике остается за стилистическим анализом, то есть анализом формы[14 - Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве / пер. М.Ю. Кореневой. СПб., 2001. С. 139–170. (Классика искусствознания).]. Он зиждется на тренированной зрительной памяти и эстетической чувствительности. Но вердикт, вынесенный настоящим знатоком, все же не равнозначен решению математической задачи или результату лабораторного опыта, даже если работа знатока с произведением в реальности зачастую похожа на лабораторный опыт, в особенности когда речь идет о небольшом произведении, которое можно поместить для исследования в технически оснащенный кабинет. Бывают случаи, когда знаток, чей взгляд сформирован, «заточен» внимательным изучением тысяч и тысяч памятников, может успешно противоречить даже самым надежным археометрическим критериям датировки или локализации, данным химии, палеоботаники, филологии, палеографии, исторической лингвистики, археологии, нумизматики, сфрагистики и других высокотехнических дисциплин. В то же время ни настоящее знаточество, ни полноценный стилистический анализ немыслимы без внимания к данным минимум двух десятков видов знания о предметах человеческой и природной деятельности.
Начиная с расцвета знаточества во второй половине XVIII века в истории искусства, как во всех науках, субъективный взгляд исследователя не соперник, а соратник объективной технологии. За последнюю четверть века техническая оснастка истории искусства (конечно, там, где есть соответствующее финансирование) ушла далеко вперед. Но следует учитывать, что естественно-научные методы анализа, для неопытного взгляда гуманитария непреложные, неизменно сопряжены с разного рода погрешностями. Их результаты всегда, как во всякой науке, – поле интерпретации, а не истина в последней инстанции. Радикальная переоценка «Черного квадрата», со всеми вытекающими для истории авангарда в целом последствиями, недавние исследования зала Пятисот флорентийского палаццо Веккьо, где находилась упомянутая «Битва при Ангиари», перемещение благодаря реставрации «Капитолийской волчицы» из эпохи этрусков в Средневековье – характерные примеры плодотворного сотрудничества между искусствоведами, реставраторами и технологами, даже если результаты его не всегда приводят к бесспорным, единодушно принимаемым выводам.
Общепринятого определения стиля не существует ни в искусствознании, ни в литературоведении, тем не менее искусствоведы и литературоведы считают именно стиль одновременно одним из важнейших для себя предметов изучения и категорией, инструментом своей работы[15 - Довольно четкое описание категории стиля с позиции литературоведения дал в свое время итальянский семиолог Чезаре Сегре: Segre C. Stile // Enciclopedia Einaudi. Torino, 1982. P. 549–565.]. Еще меньше ясности со стилем в истории философии. Историк же вообще крайне редко задумывается о нем – лишь тогда, когда готов думать вместе с коллегами из соседних цехов и говорить на их языках[16 - Гинзбург К. Стиль. Включение и исключение // Его же. Деревянные глаза. Десять статей о дистанции / пер. М. Велижева, С. Козлова, Г. Галкиной. М., 2021. С. 246–321.]. Он понимает, что, подбирая слова, сочетая несочетаемое, возможно, вступая в молчаливый диалог с другими поэтами, поэт формирует свой стиль; что, накладывая краски, с лессировкой или без, смягчая складку одежды или, напротив, огрубляя ее, художник следует некоему стилю. Но историк не хуже Сартра чувствует, что «стиль должен остаться незамеченным»[17 - Sartre J.-P. Qu’est-ce que la litеrature? P., 1948. P. 30. Выполненный А.К. Авеличевым достойный русский перевод первой главы этой книги: Сартр Ж.-П. Что такое литература? // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе / сост., общ. ред. Г.К. Косикова. М., 1987. С. 313–334, здесь с. 325.].
Стиль сравнивают с радугой: мы наблюдаем в ней совпадение нескольких физических условий, оказавшись между солнцем и дождем, но она исчезает, как только мы пытаемся подойти к ней[18 - Kubler G. Op. cit. Р. 129.]. Бюффон в 1753 году говорил, что «стиль – это человек»[19 - Бюффон Ж.Л.Л де. Речь при вступлении во Французскую академию / пер. В.А. Мильчиной // Новое литературное обозрение. 1995. № 13. С. 171. Ср.: Гёте И.В. Об искусстве: [сборник] / сост. А.В. Гулыга. М., 1975. С. 92–97.]. Но какой? И что именно в человеке – стиль? Не найти его и среди «странствующих понятий» (travelling concepts) современной гуманитарной междисциплинарности, даже в добротном «путеводителе», его нет в одном из лучших современных учебников по истории искусства, который вышел в Германии, нет в своде основных терминов, подготовленном в Чикаго[20 - Bal M. Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide. Toronto, 2002. (Green College Lectures) (известный культуролог, совмещающий в своей работе методы литературоведения, искусствоведения, медиаисследования, пользуется понятием стиля, как все, описательно); Kunstgeschichte: eine Einf?hrung / Hg. H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerl?nder, M. Warnke. Berlin, 2008; Critical Terms for Art History / ed. R.S. Nelson, R. Shiff. Chicago, 1996.]. В рассчитанных на широкую аудиторию замечательных обзорах всей истории искусства ни Эрнст Гомбрих семьдесят лет назад, ни Чарльз Харрисон десять лет назад не посчитали нужным объяснять, что в конкретном произведении – стиль, а что, например, – иконография, техника исполнения или какие-то еще значимые обстоятельства[21 - Гомбрих Э. История искусства / пер. В.А. Крючковой, М.И. Майской. М., 2013; Harrison Ch. An Introduction to Art. New Haven; L., 2009. См., однако: Gombrich E. Style // The International Encyclopedia of the Social Sciences. 1968. Vol. 15. P. 352–361.]. Тем не менее проблема формы и стиля в профессиональном искусствознании, конечно, ставилась не раз[22 - Frankl P. Zu Fragen des Stils. Leipzig, 1988. (Seemann-Beitrag zur Kunstwissenschaft); Шапиро М. Стиль // Советское искусствознание. 1988. Вып. 24. С. 385–425; Read H. The Origins of Form in Art. L., 1965. P. 33 ff.].
Важно понимать, что, при всей трудности определения ключевого понятия науки об искусстве, стиль все же не абстракция, потому что он есть везде, где мысль или образ нуждаются в воплощении, – в слове или в материальном изображении. Именно поэтому, на самом деле, стилем оперируют многие гуманитарные и социальные дисциплины. В такой специфической области, как социология знания, проблема стилей мышления, формирующихся в объединенных этими стилями общностях, «мыслительных коллективах» (труднопереводимое немецкое Denkkollektive), была четко сформулирована уже в конце 1920-х годов Карлом Маннгеймом. Он, живший и писавший в Веймарской Германии, видел именно в них научно верифицируемые проявления коллективного бессознательного, скрытые от нас мотивы «духовного брожения нашего времени»[23 - Mannheim K. Ideologie und Utopie. Frankfurt a.M., 2015. S. 30.]. Его подход был вскоре подхвачен и осмыслен в историческом ключе (в связи с Ренессансом) Людвиком Флеком[24 - Fleck L. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache: Einf?hrung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Basel, 1935. См. также комментированный Томасом Куном и Тадеушем Тренном отличный английский перевод, который и сделал эту работу авторитетной: Fleck L. Genesis and Development of a Scientific Fact. L., 1979. Р. 158–162.], а вслед за ним отразился в истории науки. Томас Кун, стремясь продемонстрировать не сходство, а отличия между прогрессом научного знания и прогрессом других областей культуры, тоже признавал, что научному мышлению присущ стиль и что во внедрении «парадигм» в «нормальную науку» большую роль всегда играло то, как они формулировались и принимались[25 - Кун Т. Структура научных революций / пер. И.З. Налетова; общ. ред. С.Р. Микулинского и Л.А. Марковой. М., 1977. С. 209, 272.]. Алистер Кромби, также один из самых авторитетных представителей истории науки, считает возможным говорить о «стилях научного мышления» как основной категории своей дисциплины. Он исходит из того, что язык во все времена – и во все времена по-разному! – влиял на формирование научных концепций, что внутри одной и той же цивилизации сосуществуют различные картины мира и что осмыслить этот парадокс историк науки может, лишь сделавшись в определенной мере антропологом, то есть увидев концепции науки сквозь призму моральных, практических, культурных, экономических и политических нужд конкретного общества[26 - Crombie A. Styles of Scientific Thinking in the European Tradition. The History of Argument and Explanation Especially in the Mathematical and Biomedical Sciences and Arts: in 3 vols. L., 1994. Vol. 1. Р. 7–23.].
Как верно отмечал Л.М. Баткин в книге, посвященной культуре Возрождения, «чтобы история мысли предстала как история культурного сознания в самом широком смысле, нужно подвергнуть анализу не столько предметное содержание итальянского гуманизма, сколько стиль философствования: не столько что думали гуманисты, сколько как они это делали». Исследователя, писавшего «групповой портрет» ренессансных философов, интересовали не «взгляды гуманистов», не «готовые идеологические и теоретические результаты, а скрывавшийся за ними способ выработки результатов, своеобразная манера ставить вопросы, спорить, аргументировать»[27 - Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995. С. 49–50.]. Предложенный Баткиным в конце 1970-х годов подход к истории мысли на самом деле во многом сродни подходу не только любимого им Бахтина, но и тогда еще мало известного в СССР Мишеля Фуко, искавшего исторически зафиксированные формы знания в «стиле высказывания»[28 - Foucault M. L’archеologie du savoir. P., 1969. Р. 50. (NRF; Biblioth?que des Sciences humaines). Я в данном случае ссылаюсь на французский оригинал из-за известных недостатков перевода М.Б. Раковой и А.Ю. Серебрянниковой (Фуко М. Археология знания / пер. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой. СПб., 2004. (Ars Pura. Французская коллекция)).]. В целом же баткинское понятие стиля мышления представляется мне плодотворным для решения сформулированной выше проблемы.