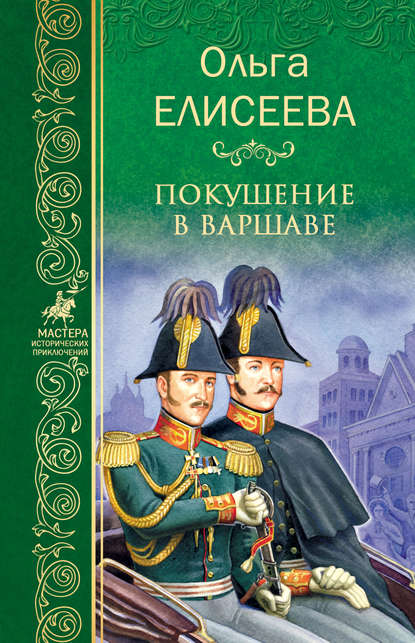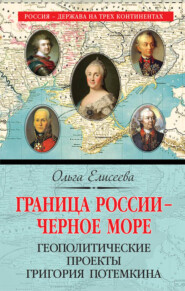По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Покушение в Варшаве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Как он интересен своим несчастьем!» – почти испугалась за герцога мадам Фикельмон.
– Мне довелось танцевать и говорить с ним, – вслух произнесла она. – Его мысли глубоки. Но он привык их скрывать. Привык таиться, вы понимаете?
– О-о, – протянула собеседница. – Очень понимаю.
– Сейчас трудно сказать, какое будущее его ожидает, – продолжала гостья. – Но на его челе читается великая судьба, отягощенная муками сердца.
Можно ли было понравиться Жанетте больше? Она и сама не знала, кто пленил ее сильнее: посланница или несчастный Франсуа-Наполеон? Известный ей только с чужих слов, но такой милый в своем горе! Каков он станет? Чья сущность перетянет в нем? Отца или матери? Тьма или свет? Очень важное решение.
Теперь Жанетта знала, о чем будет думать и за кого молиться в ближайшие дни.
– Дорогая княгиня, – собравшись с духом, сказала госпожа Фикельмон, – в Вене я имела счастье познакомиться с графиней Вонсович.
Гостья заметила, что хозяйка мигом напряглась, даже случайно стукнула серебряной ложкой по краю чашки, чего никогда не позволила бы себе в минуту полного душевного равновесия.
– Не примите мои слова за бестактность, – настойчиво повторила гостья, – но здесь, в Варшаве, я узнала, что правительство высылает из города всех подозрительных особ. Не мое дело, но в таком случае разве стоит оставлять в обществе, в свете такую влиятельную сумасбродку? Она со своей горячей головой и идеями, далекими от преданности монарху, способна всколыхнуть недовольство.
Лович подобралась. Сразу было видно, что тема ей неприятна и даже слишком хорошо известна.
– Что же с ней делать? – Жанетта развела руками. – Ее главное поместье Мокотув – едва ли не часть Варшавы. Да и где вы возьмете довольных? Не можем же мы выслать весь город.
Дарья Федоровна помедлила.
– Я не даю советов. Но в дни коронации такой багаж в столице вряд ли уместен.
Кажется, эти слова следовало сказать великому князю, а не его супруге, у которой на лице застыло столь хорошо знакомое мадам Фикельмон выражение: это не тема для дамской беседы. Неужели женщины должны говорить только о рукоделии?!
– Я покажу вам наше собрание картин. – Княгиня Лович поднялась, вынуждая тем самым и гостью встать из-за чайного столика.
* * *
Тем временем мужчины вели свою, куда более заинтересовавшую бы посланницу беседу. Они расположились в курительной. Великий князь норовил превратить в продымленный салон любую комнату. Летом и осенью Жанетта выгоняла его с сигарой на балкон. Но сейчас было еще слишком холодно, даже в сюртуке, и цесаревич курил у камина, стоя к нему спиной и заложив руки в карманы.
– Итак, вы едете в Петербург для того, чтобы гнуть там линию канцлера Меттерниха? – Лучше всего Константину давалась роль простодушного, прямолинейного солдафона.
Его собеседник тонко улыбнулся. Он понаслышке знал, как умен и изворотлив цесаревич. Шутка ли – не поехать в Петербург, когда тебя ждет корона, а вместе с ней и заговорщики! Это не каприз, не слабость, не преданность раз и навсегда данному слову, а дальний расчет. Пусть он и не вполне оправдался: брат, которого ты намеревался похоронить, похоронил мятежников. Но важно, что твоя голова осталась в недосягаемости. Не зря заговорщики именовали Константина «старым котищем», в отличие от «котенка» Николая. Додразнились!
– Австрия в первую очередь заинтересована в дружеских отношениях между двумя дворами, – Шарль-Луи сказал банальность.
– Стало быть, Священный союз решено похоронить? – настаивал великий князь. – И господин Меттерних с вами согласен? Вы готовы вывесить белый флаг?
Посланник пока не понял, чего от него добиваются. Чтобы он сказал правду? Россия своей войной против Турции закопала прежний альянс континентальных держав, даже не написав на камне имени почившего. А еще оккупировала Молдавию и Валахию, на которые австрийская корона привыкла посматривать как на свои будущие провинции.
– Сознаюсь, нас не может радовать тот факт, что держава, прежде поддерживавшая сходные с нами принципы, теперь покровительствует бунтовщикам-грекам. Возмутились ли подданные против султана-магометанина или против христианского владыки – все равно, принцип остается принципом. – Шарль-Луи быстро глянул в лицо великого князя. – Что бы вы стали делать, восстань сегодня ваши польские подданные?
Посланник ожидал, что на лице цесаревича возникнет выражение: давить! Тот и правда набычился, но за угрожающей миной Фикельмону почудилось что-то растерянное, беспомощное, почти жалкое.
– До тех пор, пока моя армия стоит на страже благополучия этого королевства, опасаться нечего.
Шарль-Луи отметил только, что цесаревич назвал польские войска «моя армия».
– Вы поэтому не отправили ее на турецкий театр военных действий? – невинно спросил он. – К императору Николаю? Остерегаетесь мятежа?
Константин сдвинул косматые брови.
– Меня глубоко задело бы, если бы части, которые обязаны мне своим существованием, ушли бы на войну без меня, – отчеканил он. – А уж удобно или неудобно было бы мое присутствие их командующим, в какое положение перед державами оно поставило бы брата – разве все это имеет значение, когда обсуждаются рыцарские приоритеты августейших особ?
Фикельмон понял, что собеседник глубоко уязвлен отказом царя принять его вместе с польской армией на Дунае. И что теперь он выговаривает то, что не осмеливается сказать в письме к императору Николаю. Не путает адресатов, а просто хочет поставить австрийского посла в курс своей позиции: ему все равно, хоть небо тресни! Капризный и упрямый себялюбец, констатировал Шарль-Луи. Но вместе с тем опытный, наторевший в дипломатических намеках лицедей, не хуже брата Александра.
«А ведь он Николаю совсем не друг», – решил посол.
– Ваш покойный брат царь Александр создал систему, которая удовлетворяла интересам всех континентальных держав. Основанный им рука об руку с монархами Австрии и Пруссии Священный союз сдерживал и карал мятежников по всей Европе. Наследник Благословенного царя грубо попрал эти принципы и если в его собственной державе разгорится огонь, то вряд ли ему поспешат помочь.
«То-то вы спешили помочь в 25-м году, – хмыкнул Константин. – Даже выгораживали некоторых главных подозреваемых. Трубецкого, например».
– Это была частная, семейная ошибка нашего посла Лебцельтерна, – поспешил оправдаться Шарль-Луи, легко поняв ход мыслей собеседника.
– За которую он поплатился местом, – кивнул цесаревич. – Не совершите подобной оплошности.
Грубость, конечно, но грубость сознательная. Предупреждение, как минимум. Как максимум – угроза.
Посол не привык, чтобы им помыкали. Он не просто дипломат. Он генерал. Стоит ли с ним говорить в таком тоне?
– Австрийский эмиссар не принимает приказов даже от августейших особ других держав, – отчеканил он. – Мой предшественник вел себя недопустимо. Извинения принесены. Посол отозван. Не хотите же вы и меня упрекать за то, чего я еще не делал!
– Но можете. – Константина тоже трудно было напугать. Он сам умел устраивать демарши и громко, при всех, говорить неудобные вещи. – Мой незабвенный брат Александр оставил Европе золотое дитя – Священный союз, – чтобы больше никогда не могло произойти ничего подобного революции и войнам Бонапарта. Четыре миллиона жизней, подумать только! Какой мор, какая война унесла столько же? – глубоко спрятанные под нависшими бровями глаза цесаревича засверкали. – И что же мы видим? Союз – эту гарантию всеобщего мира – надо было лелеять, защищать и охранять как зеницу ока. Но своекорыстие некоторых членов, – собеседник готов был ткнуть толстым пальцем посла в грудь, будто тот был сам Меттерних, – своекорыстие некоторых членов подточило альянс изнутри. Ваш канцлер хвастался перед другими кабинетами влиянием на моего покойного брата. Выставлял его слабым, безвольным, внушаемым. Чего никогда не было. Вы оскорбили нас задолго до 14 декабря. Что же оставалось делать, кроме как послать вашей компании прощальный привет? – Константин сделал ручкой. – А теперь господин Меттерних готовит на польский престол своего кандидата.
Фикельмон обомлел. Он не думал, что цесаревич осведомлен о святая святых венской политики.
– Вы полагаете, у меня нет источников? – снисходительно пожал плечами собеседник. – Графиня Вонсович уже растрезвонила по всей Варшаве о своем грандиозном успехе в постели Наполеонова щенка, прошу прощения, будущего польского короля Франциска Первого, у нас с таким именем еще никого не было.
Какое бы унижение ни чувствовал посол, он почти машинально отметил это «у нас».
– Или вы думаете, что источников нет у моего брата? – продолжал цесаревич. – Как бы прост он ни был – а на самом деле мой брат совсем непрост, – такие шаги господина Меттерниха окончательно отвратят его от союза с Веной. Ваш канцлер сначала своим неумеренным хвастовством, а затем детским, недостойным великой державы коварством погубил дело жизни моего покойного благодетеля, незабвенного Александра, которого я не постесняюсь назвать Александром Великим. Монархом Мира, а не Войны. – Константин потряс перед лицом гостя руками, а затем совсем спокойно, будто и не бесновался секунду назад, спросил: – И вы полагаете, будто я прощу вам это?
Фикельмон был озадачен. Если великий князь, и даже сам император, знают о герцоге Рейхштадтском, то есть ли у замыслов Меттерниха будущее? Не следует ли все в отношениях держав начинать с чистого листа? Даже не пытаясь апеллировать к вчерашним договоренностям?
– Принципы Священного союза крепки в каждом из моих братьев, – сказал Константин. – Россия предпочла не вольнодумство греков тишине и покою Европы, а свой интерес слишком явно выпяченному интересу Австрии. Только и всего. Судить ли человека на улице за то, что он предпочитает свою шубу желанию соседа согреться? Тем более за его счет.
Шарль-Луи мог бы согласиться. Но ведь и у его страны есть свои интересы.
– Вы можете ехать отсюда прямо в Петербург или остаться на коронацию, – криво усмехнулся цесаревич, – если туалеты жены позволяют. В любом случае вам придется говорить с моим братом напрямую, так, словно господин Меттерних не стоит за вашими плечами. Если Никс вам поверит, вы достигнете успеха.
Снова посол неосознанно отметил, что великий князь назвал императора домашним, уменьшительным прозвищем. Без должного уважения.
– Спасибо за совет. – Фикельмон поклонился. – Но ведь не только греки у турок. Венгры у нас. Поляки у вас. На кого вы обопретесь, если они вздумают бунтовать?
Цесаревич улыбнулся послу как родному.
– Мне довелось танцевать и говорить с ним, – вслух произнесла она. – Его мысли глубоки. Но он привык их скрывать. Привык таиться, вы понимаете?
– О-о, – протянула собеседница. – Очень понимаю.
– Сейчас трудно сказать, какое будущее его ожидает, – продолжала гостья. – Но на его челе читается великая судьба, отягощенная муками сердца.
Можно ли было понравиться Жанетте больше? Она и сама не знала, кто пленил ее сильнее: посланница или несчастный Франсуа-Наполеон? Известный ей только с чужих слов, но такой милый в своем горе! Каков он станет? Чья сущность перетянет в нем? Отца или матери? Тьма или свет? Очень важное решение.
Теперь Жанетта знала, о чем будет думать и за кого молиться в ближайшие дни.
– Дорогая княгиня, – собравшись с духом, сказала госпожа Фикельмон, – в Вене я имела счастье познакомиться с графиней Вонсович.
Гостья заметила, что хозяйка мигом напряглась, даже случайно стукнула серебряной ложкой по краю чашки, чего никогда не позволила бы себе в минуту полного душевного равновесия.
– Не примите мои слова за бестактность, – настойчиво повторила гостья, – но здесь, в Варшаве, я узнала, что правительство высылает из города всех подозрительных особ. Не мое дело, но в таком случае разве стоит оставлять в обществе, в свете такую влиятельную сумасбродку? Она со своей горячей головой и идеями, далекими от преданности монарху, способна всколыхнуть недовольство.
Лович подобралась. Сразу было видно, что тема ей неприятна и даже слишком хорошо известна.
– Что же с ней делать? – Жанетта развела руками. – Ее главное поместье Мокотув – едва ли не часть Варшавы. Да и где вы возьмете довольных? Не можем же мы выслать весь город.
Дарья Федоровна помедлила.
– Я не даю советов. Но в дни коронации такой багаж в столице вряд ли уместен.
Кажется, эти слова следовало сказать великому князю, а не его супруге, у которой на лице застыло столь хорошо знакомое мадам Фикельмон выражение: это не тема для дамской беседы. Неужели женщины должны говорить только о рукоделии?!
– Я покажу вам наше собрание картин. – Княгиня Лович поднялась, вынуждая тем самым и гостью встать из-за чайного столика.
* * *
Тем временем мужчины вели свою, куда более заинтересовавшую бы посланницу беседу. Они расположились в курительной. Великий князь норовил превратить в продымленный салон любую комнату. Летом и осенью Жанетта выгоняла его с сигарой на балкон. Но сейчас было еще слишком холодно, даже в сюртуке, и цесаревич курил у камина, стоя к нему спиной и заложив руки в карманы.
– Итак, вы едете в Петербург для того, чтобы гнуть там линию канцлера Меттерниха? – Лучше всего Константину давалась роль простодушного, прямолинейного солдафона.
Его собеседник тонко улыбнулся. Он понаслышке знал, как умен и изворотлив цесаревич. Шутка ли – не поехать в Петербург, когда тебя ждет корона, а вместе с ней и заговорщики! Это не каприз, не слабость, не преданность раз и навсегда данному слову, а дальний расчет. Пусть он и не вполне оправдался: брат, которого ты намеревался похоронить, похоронил мятежников. Но важно, что твоя голова осталась в недосягаемости. Не зря заговорщики именовали Константина «старым котищем», в отличие от «котенка» Николая. Додразнились!
– Австрия в первую очередь заинтересована в дружеских отношениях между двумя дворами, – Шарль-Луи сказал банальность.
– Стало быть, Священный союз решено похоронить? – настаивал великий князь. – И господин Меттерних с вами согласен? Вы готовы вывесить белый флаг?
Посланник пока не понял, чего от него добиваются. Чтобы он сказал правду? Россия своей войной против Турции закопала прежний альянс континентальных держав, даже не написав на камне имени почившего. А еще оккупировала Молдавию и Валахию, на которые австрийская корона привыкла посматривать как на свои будущие провинции.
– Сознаюсь, нас не может радовать тот факт, что держава, прежде поддерживавшая сходные с нами принципы, теперь покровительствует бунтовщикам-грекам. Возмутились ли подданные против султана-магометанина или против христианского владыки – все равно, принцип остается принципом. – Шарль-Луи быстро глянул в лицо великого князя. – Что бы вы стали делать, восстань сегодня ваши польские подданные?
Посланник ожидал, что на лице цесаревича возникнет выражение: давить! Тот и правда набычился, но за угрожающей миной Фикельмону почудилось что-то растерянное, беспомощное, почти жалкое.
– До тех пор, пока моя армия стоит на страже благополучия этого королевства, опасаться нечего.
Шарль-Луи отметил только, что цесаревич назвал польские войска «моя армия».
– Вы поэтому не отправили ее на турецкий театр военных действий? – невинно спросил он. – К императору Николаю? Остерегаетесь мятежа?
Константин сдвинул косматые брови.
– Меня глубоко задело бы, если бы части, которые обязаны мне своим существованием, ушли бы на войну без меня, – отчеканил он. – А уж удобно или неудобно было бы мое присутствие их командующим, в какое положение перед державами оно поставило бы брата – разве все это имеет значение, когда обсуждаются рыцарские приоритеты августейших особ?
Фикельмон понял, что собеседник глубоко уязвлен отказом царя принять его вместе с польской армией на Дунае. И что теперь он выговаривает то, что не осмеливается сказать в письме к императору Николаю. Не путает адресатов, а просто хочет поставить австрийского посла в курс своей позиции: ему все равно, хоть небо тресни! Капризный и упрямый себялюбец, констатировал Шарль-Луи. Но вместе с тем опытный, наторевший в дипломатических намеках лицедей, не хуже брата Александра.
«А ведь он Николаю совсем не друг», – решил посол.
– Ваш покойный брат царь Александр создал систему, которая удовлетворяла интересам всех континентальных держав. Основанный им рука об руку с монархами Австрии и Пруссии Священный союз сдерживал и карал мятежников по всей Европе. Наследник Благословенного царя грубо попрал эти принципы и если в его собственной державе разгорится огонь, то вряд ли ему поспешат помочь.
«То-то вы спешили помочь в 25-м году, – хмыкнул Константин. – Даже выгораживали некоторых главных подозреваемых. Трубецкого, например».
– Это была частная, семейная ошибка нашего посла Лебцельтерна, – поспешил оправдаться Шарль-Луи, легко поняв ход мыслей собеседника.
– За которую он поплатился местом, – кивнул цесаревич. – Не совершите подобной оплошности.
Грубость, конечно, но грубость сознательная. Предупреждение, как минимум. Как максимум – угроза.
Посол не привык, чтобы им помыкали. Он не просто дипломат. Он генерал. Стоит ли с ним говорить в таком тоне?
– Австрийский эмиссар не принимает приказов даже от августейших особ других держав, – отчеканил он. – Мой предшественник вел себя недопустимо. Извинения принесены. Посол отозван. Не хотите же вы и меня упрекать за то, чего я еще не делал!
– Но можете. – Константина тоже трудно было напугать. Он сам умел устраивать демарши и громко, при всех, говорить неудобные вещи. – Мой незабвенный брат Александр оставил Европе золотое дитя – Священный союз, – чтобы больше никогда не могло произойти ничего подобного революции и войнам Бонапарта. Четыре миллиона жизней, подумать только! Какой мор, какая война унесла столько же? – глубоко спрятанные под нависшими бровями глаза цесаревича засверкали. – И что же мы видим? Союз – эту гарантию всеобщего мира – надо было лелеять, защищать и охранять как зеницу ока. Но своекорыстие некоторых членов, – собеседник готов был ткнуть толстым пальцем посла в грудь, будто тот был сам Меттерних, – своекорыстие некоторых членов подточило альянс изнутри. Ваш канцлер хвастался перед другими кабинетами влиянием на моего покойного брата. Выставлял его слабым, безвольным, внушаемым. Чего никогда не было. Вы оскорбили нас задолго до 14 декабря. Что же оставалось делать, кроме как послать вашей компании прощальный привет? – Константин сделал ручкой. – А теперь господин Меттерних готовит на польский престол своего кандидата.
Фикельмон обомлел. Он не думал, что цесаревич осведомлен о святая святых венской политики.
– Вы полагаете, у меня нет источников? – снисходительно пожал плечами собеседник. – Графиня Вонсович уже растрезвонила по всей Варшаве о своем грандиозном успехе в постели Наполеонова щенка, прошу прощения, будущего польского короля Франциска Первого, у нас с таким именем еще никого не было.
Какое бы унижение ни чувствовал посол, он почти машинально отметил это «у нас».
– Или вы думаете, что источников нет у моего брата? – продолжал цесаревич. – Как бы прост он ни был – а на самом деле мой брат совсем непрост, – такие шаги господина Меттерниха окончательно отвратят его от союза с Веной. Ваш канцлер сначала своим неумеренным хвастовством, а затем детским, недостойным великой державы коварством погубил дело жизни моего покойного благодетеля, незабвенного Александра, которого я не постесняюсь назвать Александром Великим. Монархом Мира, а не Войны. – Константин потряс перед лицом гостя руками, а затем совсем спокойно, будто и не бесновался секунду назад, спросил: – И вы полагаете, будто я прощу вам это?
Фикельмон был озадачен. Если великий князь, и даже сам император, знают о герцоге Рейхштадтском, то есть ли у замыслов Меттерниха будущее? Не следует ли все в отношениях держав начинать с чистого листа? Даже не пытаясь апеллировать к вчерашним договоренностям?
– Принципы Священного союза крепки в каждом из моих братьев, – сказал Константин. – Россия предпочла не вольнодумство греков тишине и покою Европы, а свой интерес слишком явно выпяченному интересу Австрии. Только и всего. Судить ли человека на улице за то, что он предпочитает свою шубу желанию соседа согреться? Тем более за его счет.
Шарль-Луи мог бы согласиться. Но ведь и у его страны есть свои интересы.
– Вы можете ехать отсюда прямо в Петербург или остаться на коронацию, – криво усмехнулся цесаревич, – если туалеты жены позволяют. В любом случае вам придется говорить с моим братом напрямую, так, словно господин Меттерних не стоит за вашими плечами. Если Никс вам поверит, вы достигнете успеха.
Снова посол неосознанно отметил, что великий князь назвал императора домашним, уменьшительным прозвищем. Без должного уважения.
– Спасибо за совет. – Фикельмон поклонился. – Но ведь не только греки у турок. Венгры у нас. Поляки у вас. На кого вы обопретесь, если они вздумают бунтовать?
Цесаревич улыбнулся послу как родному.