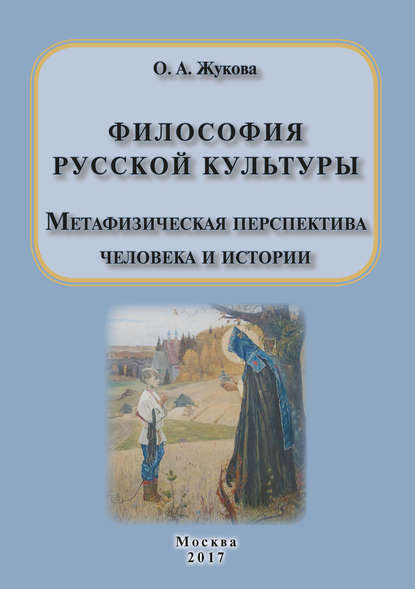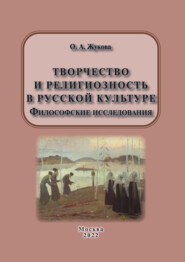По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Философия русской культуры. Метафизическая перспектива человека и истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гордость всяку отложше и удобь обратный грех
Понеже гордый и величавый бывает в посмех,
Последи же зле потребляется
И душею своею во ад низпосылается[169 - Там же.].
Иной аспект обличения и уничижения греха гордости – сатирический, возникает в русской литературе в начале XVIII века в творчестве Иосифа Туробойского, знаменитого воспитанника Киево-Могилянской академии, ставшего впоследствии ее профессором, а затем и префектом Московской славяно-греко-латинской академии. Полтавская победа русского оружия над шведами в 1709 году послужила сюжетом для школьной пьесы. «Божие уничижителей гордых ‹…› уничижение» – сокращенный пересказ настоящей пьесы, в которой обыгрывается библейский сюжет о Самсоне, победителе филистимлян. Некогда богатырской мощью своею Самсон расправился со львом, разодрав ему пасть. Со времени первых успехов России в Северной войне образ Самсона связывался с образом Петра I и России, а поверженный лев выступал аллегорией Швеции, наказанной за свою гордость и политические притязания на европейское господство. «Прегордая» Швеция, многих уничижавшая, постыжена и посрамлена, как лев, усмиренный Самсоном, о чем повествует заключительная часть пьесы:
«Является на престоле началная Смерть, имущая под ногами Гордость и Поношение, Орлом убиенныя, пред нею же меншия Смерти пляшут, хромому Лву увенчанну насмевающеся; и насмеян доволно, убеже со гласом с небес: “Бежи, несытая душе, и весма смирися!”
Надпись Лва: “смирихся до зела”»[170 - Сатира XI–XVII веков. С. 66.].
Российская империя, созданная Петром I и его преемниками, изменила социально-политическое и культурное положение Православной Церкви, но святоотеческая традиция, дав плоды творчества в Духе и Истине, была преемственно воспринята и обогощена духовным опытом русских подвижников. Так, в XIX веке богословская мысль представлена трудами святителя Феофана Затворника, неоднократно обращавшегося к проблеме греха и его искоренения на пути стяжания христианских добродетелей.
Свт. Феофан Затворник определяет грех гордыни как самочинное волеизъявление. По выражению святителя, такой человек превращается в раба страстей. Его мнимая свобода оборачивается тяжким и мучительным пленом: «Творить волю плоти и помышлений значит – что пришло на мысль, то и делать, что захотелось, к тому и стремиться. Пришел гнев – браниться; пришла похоть – удовлетворять ей; представился случай к неправой прибыли – сейчас воспользоваться им; захотелось стать повыше – решиться на все кривые пути к тому. Кто таков, тот очень походит на вьючное животное. Как мула, навьючив, ведут куда хотят и еще бьют, так и на человека наложив бремя страстей, враг связывает его ими и ведет куда хочет, тиранствуя и издеваясь над ним»[171 - Святитель Феофан Затворник. Созерцание и размышление. С. 439.]. Стоит ли упорствовать в своих страстях, самоутверждаясь под ярмом греха? Этот вопрос и задает христианину св. Феофан Затворник: «А это что ж за жизнь? Что тут человеческого? Человеческое тут все замерло, а действует только все самостное, страстное, сатанинское, принося плод смерти, а не жизни»[172 - Там же. С. 440.].
По слову святителя, отпав от Бога, человек перестал подчиняться Духу – всеблагой и премудрой силе, которая им водительствовала. Человек в своем понимании остановился на себе и поставил себя главной целью жизни. Это стало источником самолюбия. Так, говорит святитель, «из самолюбия развилась гордость, своекорыстие, сластолюбие, а от этих потом все полчища страстей. Все они в разных оттенках стали заправителями жизни человека. Дух замолк, и если подавал голос, его не слушали»[173 - Там же. С 560.]. Природа же человека такова, что он жив Духом Божьим. У него есть и свой дух – та богоподобная сила, которая вдунута в него от Бога, и которая призвана вводить его в духовную жизнь. Слово, проповедованное Спасителем, принесло на землю благодать Всесвятого Духа. Когда благодать Духа Божьего воздействует на дух человеческий, то он встает и оживляет страх Божий, стремление угождать Богу, воспламеняет надежду на лучшую жизнь – на спасение. Тот, кто покоряется этим требованиям Духа, по мысли Феофана Затворник, тот «отказывается от себя, попирает самолюбие со всем полчищем страстей и начинает всеусердно работать Господу наперекор всем земным видам. С этого момента начинается у него жизнь в духе, или Духом, с попранием самолюбия и всех страстей»[174 - Там же. С 561.].
В борьбе со страстями человеку нужно быть исключительно внимательным к себе и следить за своими помыслами. Об этом говорят все подвижники, опираясь на тысячелетний опыт духовной жизни в лоне Церкви Христовой и на собственные наблюдения и опыт богопознания и богообщения. Призыв к духовной бдительности – это призыв к совести человеческой, которая памятует о Божественных установлениях и страшится греха. Этот нравственный призыв постоянно сопровождал книжную (литературную, философскую, богословскую) традицию русской культуры, взращенную этической установкой церковного сознания. Вплетаясь в ткань устной фольклорной культуры, христианский этос придал творческий импульс развития и народной мудрости. Литературное и устное слово сохранили в истории русской культуры живые традиции религиозности, стремление к духовному совершенствованию, в многообразии духовно-творческого опыта удерживая основные нравственные аксиомы и эстетические идеалы христианской цивилизации.
Глава 4. Эстетические идеалы русской культуры в творческом опыте композиторов
В четвертой главе в рамках общей задачи реконструкции и философской проблематизации истории русской культуры рассматриваются пути сложения и развития русской музыкальной культуры XIX–XX вв., которая, став содержанием и формой индивидуального творческого опыта, обретя профессиональный статус и традиции бытования в рамках светской культуры, сохранила преемственность с древнерусской духовной традицией. В исследовании мы обращаем внимание на сохранение взаимообусловленности религиозного и секулярного типа мироотношения в понимании этического смысла творчества с характерным для светской культуры мотивом служения (как инверсии религиозной идеи соработничества) и эстетическим идеалом красоты как образа совершенства, выражаемого целостностью Абсолюта, природы и духовного мира человека.
С нашей точки зрения, эстетическая интуиция русских композиторов демонстрирует опыт непосредственного переживания бытия с характерным для православного типа духовности стремлением к предельному образу Совершенства как цели и смысла творчества. В свою очередь в образно-интонационном строе русской музыкальной классики воссоздается культурно-природный ландшафт российской цивилизации, что в восприятии современника формирует целостный образ русской музыки как своеобразной путеводительницы по «национальному парку» культуры. Тем самым, образы-идеи культурной истории России, нашедшие воплощение в музыкальных произведениях, приобретают мемориальный характер, соединяя значение художественной ценности и памятника истории.
Специфичность анализа музыкальной культуры в контексте данного исследования состоит в том, что предметом рассмотрения здесь выступает не только художественное произведение, обращенное к аудитории и готовое вступить в ситуацию диалога смыслов понимания и предпонимания, но и творческий опыт композитора как событие культуры. Жизнь и творчество художника предстает произведением культуры. При этом нас интересует момент рецепции профессиональной традицией, складывающейся первоначально в опыте европейской культуры и усваиваемой на этапе классической культуры русскими композиторами, той неопределенной целостности искусства и религии, которая была исходным основанием формирующейся древнерусской культуры.
Структура взаимообусловленности религии и искусства складывается в профессиональной музыкальной традиции под влиянием нескольких факторов. Во-первых, источниками музыкального предания в истории русской культуры выступают как профессиональные, так и непрофессиональные типы традиционализма – композиторское и народное творчество; во-вторых, бытование музыки связаны с различными типами культуры – церковной, светской, народной; в-третьих, сама традиция профессионального композиторского творчества находится в ситуации активного сложения школы, что подразумевает появление эталонных текстов с соответствующими ему содержательно-стилистическими и композиционно-структурными особенностями, которые должны стать ее парадигмальным основанием; в-четвертых, в период формирования национальной композиторской школы названные выше источники музыкального предания не даны как синтез культурных традиций или обязательный образец творчества, а являются предметом изучения и освоения, что предполагает принципиальную свободу творческого самополагания в виде самостоятельно поставленных и решенных художественных задач. Подобную ситуацию мы наблюдаем в творчестве М. И. Глинки, который увидел саму возможность подобного синтеза-освоения образцов профессионального традиционализма западноевропейского музыкального искусства в соединении «узами законного брака» русской песенности и европейской фуги и определил линию развития русской музыкальной культуры в рамках профессиональной традиции.
С этой точки зрения история русской музыки в XIX веке предстает как путь сложения традиции, где различные источники письменной и устной музыкальной культуры сплавляются в новый синтез. Таким образом, груз культурной преемственности в музыкальном искусстве России возлагается не на ранее существовавшие канонические тексты в рамках профессионального традиционализма, которые требуется сохранить живыми в неуклонно растущей исторической дистанции, а на обращение к образцам музыкальных традиций, достаточно замкнутых внутри своей линии развития. Как нам представляется, феномен русской композиторской школы состоит в сложении традиции в процессе самообоснования музыкальных преданий, или типов профессионализма, главной задачей которого оказывается культурный синтез как творческое освоение духовно-исторического опыта одного общеевропейского культурного предания. С деятельностью «Могучей кучки» и творчеством П. И. Чайковского эта задача была в полной мере решена на предельно высоком художественном уровне.
Если композиторы-кучкисты, вдохновленные путем, открытым Глинкой, искали данный синтез в обращении к допрофессиональной традиции народного музыкального творчества, которая воспринималась ими как готовый, уже сложившийся культурный синтез русской истории в ее эпическом, драматическом, лирическом, сказочно-мифологическом и эсхатологическом выражении, то лирико-драматический симфонизм Чайковского более опосредовано связан с допрофессиональной народно-музыкальной традицией. Его музыкальное мышление определяется инструментальной природой европейской традиции, специфически преломляясь в лирически исповедальном типе высказывания, имеющем трагедийный оттенок и тематизированном характерным для позднего романтизма образом-идеей рока. Потому для решения исследовательской задачи, поставленной в работе, необходимо рассмотреть проблему преемственности творческого опыта в русской музыкальной классике в аспекте наследования традиции, предстающей уже как культурный синтез в рамках определяющих его эстетических и нравственных установок. Представляется возможным обратиться к наследию тех композиторов, чьи жизненные судьбы соединили собой традиции высокой музыкальной классики при переходе к радикальному изменению культурной парадигмы Российской цивилизации. Речь идет о художественно-эстетических идеях и концепциях музыкального творчества в России конца XIX – начала XX веков, которые раскрываются в ситуации развития традиции, при этом выявляется парадоксальная логика исторического движения: будущее становится возможным как рефлексия и актуализация прошлого.
Для нашего исследования важно показать способ преемственности творческого опыта, осуществленный в рамках музыкальной профессиональной традиции при переходе от поздней классики к постклассическому, неклассическому и, далее, к постнеклассическому модусу современной культуры. Он репрезентативен в анализе рассматриваемой нами линии взаимодействия религиозных и художественных интенций творчества. Русская композиторская школа выступила своеобразным связующим звеном между двумя историческими массивами культуры России – имперским и советским, выполняя функцию эстетического самообоснования культурной традиции в экзистенциальном опыте личности, в его ценностном измерении.
Классическое наследие и просветительский идеал музыкального искусства. Примером преемственности традиций русской композиторской школы на этапе достижений позднеклассической культуры является творчество Александра Константиновича Глазунова (1865–1936), которое послужило своеобразным мостиком между двумя школами – Петербургской и Московской. Младший в плеяде петербургских композиторов «Новой русской школы», Глазунов, общаясь с великими русскими музыкантами, был полностью погружен в творческую атмосферу музыкальной и театральной жизни. Его жизнь одновременно вобрала и заключила собою эпоху расцвета и всеобщего признания русской композиторской школы. Не случайно композитор и музыковед, академик Б. В. Асафьев сравнивал его музыку с творениями М. И. Глинки, со стилем и мироощущением эпохи золотого века русской культуры: «В характере музыки Глазунова есть черты, роднящие его с музыкой Глинки: светлый эпикуреизм и влюбленность в ясность и гармоничность»[175 - Асафьев Б. В. Избранные труды: в 5 т. М.: Издательство АН СССР, 1954. Т. 2. С. 266]. Для музыкантов поколения начала XX века он представлялся уже живым классиком. Это особенно подчеркивалось резким переломом в русской культуре, произошедшим после Октябрьской революции. А. К. Глазунов, находясь в должности Петербургской (Петроградской/Ленинградской) консерватории, олицетворял собой преемственность двух культур, являясь нравственным образцом служения музыки.
Творчество Глазунова, пользуясь определением Н. А. Римского-Корсакова, значимо прогрессивным развитием эстетических концепций и художественных открытий русской музыки. Композитора нельзя безоговорочно отнести к новаторам. Он мастер, очень тонко усвоивший заветы своих учителей и старших друзей. По своим эстетическим взглядам и композиторской технике Глазунов ближе эпохе 80-х годов XIX столетья. Не случайно Н. А. Римский-Корсаков противопоставил кружок Балакирева и кружок Беляева, к которому вместе с Римским-Корсаковым и Лядовым принадлежал Глазунов, как революционный и прогрессивный. Именно воплощение идеи прогресса как поступательного неуклонного развития традиции находили друзья композитора и современные ему критики в технически безукоризненных, грамотных, образно ярких произведениях, где музыкальная мысль выражалась ясно и находила точное композиционно-драматургическое выражение. Все это позволяет говорить о Глазунове как о композиторе классико-роман тического стиля, вдохновляемого идеалами реалистического искусства.
Композитор, который воспитывался в духе кучкистских народно-просветительских представлений о целях и содержании музыкального искусства, в русле идеологии о самобытности русской музыкальной школы и роли в оформлении профессиональной традиции народной музыки, в некоторых вопросах заметно расходился с ведущим представителем Московской школы, П. И. Чайковским. Однако именно Глазунову выпала роль объединить в своем творчестве эпическую и лирико-драматическую линию русской музыки. Полнее всего это выразилось в симфонических произведениях композитора, стиль которых характеризовала отмечаемая всеми ясность, гармоничность и стройная логика целого. Конструктивное начало его произведений служило мастерским основанием художественного замысла. Как отмечает Ю. В. Келдыш, «Начиная с ‹…› Первой симфонии ‹…› он определяется как симфонист монументального плана, склонный к мышлению крупными синтетическими образами, к широким масштабам музыкального письма при ясности соотношений и стройной логической завершенности целого»[176 - Цит. по: Крюков А. Н. Александр Константинович Глазунов. М.: Музыка, 1984. С. 24.]. Еще более выпукло особенности композиторского почерка А. К. Глазунова определил В. В. Стасов: «Главный характер всех сочинений Глазунова до сих пор – неимоверный широкий размах, сила, вдохновение, светлость могучего настроения, чудесная красота, роскошная фантазия, иногда юмор, элегичность, страстность, и всегда – изумительная ясность и свобода формы»[177 - Там же. С. 24.].
Середина и конец 1890-х – пора расцвета художественных сил композитора. Две своеобразные трилогии – симфоническая и балетная: Четвертая, Пятая, Шестая симфонии, а затем в три года один за другим написанные балеты «Раймонда», «Барышня-служанка, или Испытание Дамиса», «Времена года» принесли ему заслуженную мировую славу. В лучших своих творениях он достиг той четкости и точности композиционной техники, позволявшей музыкальные идеи сделать рельефными, придать им фантазийно-вдохновенный оттенок. Жанрово-эпический симфонизм «могучей кучки» и лирико-драматическая традиция симфонизма Чайковского соединились в «общей идее» национальной музыки, что воплощает собой высокую ступень культурного синтеза собственно профессиональной традиции – школы и народной самобытности. И хотя начало XX века в России – пора интенсивных художественных поисков, культурфилософский проект символизма, русского модерна, тем более, русского авангарда находился вне эстетического кругозора Глазунова. Радикальные опыты новейших композиторов он считал деградацией музыкального языка, а их самих называл «выродками». Однако именно Глазунов самым высоким образом отметил талант юного Шостаковича и предрек ему место гениального продолжателя традиций русской музыки, ее славное будущее. Уходящее поколение, к которому принадлежал и Глазунов, оставаясь преданным идее музыкального просвещения народа, сохраняло гармоническую целостность идеального образа красоты и добра как непосредственного выражения достигнутого культурного синтеза народно-церковного и индивидульно-творческого образа искусства.
А. К. Глазунов составил неотъемлемое единое целое с историей русской музыки. Особенно это положение и значение Глазунова укрепилось на посту Петербургской консерватории, которую он возглавлял почти двадцать три года. Его человеческий и художнический масштаб как-то сразу стал очевидным. По выражению Римского-Корсакова, Глазунов для студентов сделался и отцом, и наставником, и нянькой. Его чуткая забота о педагогах и учащихся снискала подлинную любовь и даже преклонение перед композитором. Уходящее поколение, к которому принадлежал Глазунов, явило пример цельности и нравственной высоты личности, оставаясь преданными идее просвещения народа, служа человеку тем, что считали самым совершенным плодом культуры – музыкальным искусством.
Служение творчеством. В судьбе Василия Сергеевича Калинникова (1866–1900) притяжение творчества оказалось столь сильным, а цена его столь высокой, что приходится говорить о подлинном воплощении идеала жертвенного служения музыке как высшему искусству в православно-аскетическом его понимании. В. С. Калинников – талантливый русский композитор – не столь знаем и почитаем, не столь любим биографами и историками музыки в ряду творческих имен блистательного XIX века, богатого художественными гениями. Фигура композитора остается в тени великих музыкантов и их монументальных шедевров. Между тем, как отмечает Б. В. Асафьев, «Калинников был бы самым талантливым из московских композиторов лирико-эпического направления, родившихся в период 1860–70-х годов, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Именно Калинников, – отмечает исследователь, – мог писать лирично без банальностей и сентиментальности, потому что, как ни у кого из композиторов его поколения, упомянутые качества – сердечность и непосредственность – были ему действительно вполне присущи. Это – Кольцов русской музыки, с той разницей, что родиной его была не Воронежская, а Орловская губерния»[178 - Асафьев Б. В. Избранные труды: Т. 2. С. 354.].
Жизнь Калинникова представляет собой беспримерный путь борьбы за творчество. Это была борьба духа и воли с тяжелейшими обстоятельствами – крайней нуждой и неизлечимой болезнью. Сам композитор прекрасно понимал, что вступает в мир, где ценности творчества, планка эстетических требований к художнику очень велика, и ему придется «состязаться» с композиторами, чьи имена окружены ореолом европейской и всемирной известности. Но жажда к творчеству оказалась столь сильной, что Калинников решает проделать этот путь от провинциальной, тихой, ничем не примечательной и совершенно обыденной жизни к жизни артистической, не гарантирующей успех, но бесконечно привлекательной своими художественными возможностями.
В письме к своему другу и учителю С. Кругликову Калинников признавался, что тяга к творчеству – неодолимая сила, которая ради нескольких мгновений неземного наслаждения заставляет переносить постоянные муки. Это излияние сокровенных мыслей в полной мере раскрывает внутреннюю интуицию творческих стремлений автора письма, обнажает «болевой нерв» его души. Музыка здесь названа страшной силой, и это действительно верно – верно в судьбе композитора, который, стремясь к своей цели – быть художником, – подорвал здоровье, и пора наивысшего взлета его творчества пришлась уже на момент серьезной болезни. Все лучшее, созданное Калинниковым, – это результат упорного противостояния тяжким и удручающим обстоятельствам жизни. Нужно было обладать исключительным духовным здоровьем, противостоя болезни и бедности, чтобы жизненные коллизии не вторглись в светлый, обаятельно лиричный мир музыки. При этом требования, предъявляемые к себе как к художнику, всегда были очень высокими.
Калинников боялся быть «нотописателем». Достичь желаемого художественного уровня он мог только систематическим трудом. Трудовая этика Калинникова – пример поучительный во всех отношениях. Воля, дисциплина, пиетет к знанию и ценностям образования, труд – качества, которые помогли Калинникову в освоении музыкального наследия прошлого и которые принесли ему композиторские успехи. Это счастливое сочетание качеств культивировалось и взращивалось с детства, в семье, где отец и мать композитора, происходившие из духовной среды, придавали воспитанию и обучению детей большое значение.
После обучения в семинарии начинается московский период жизни композитора. В студенческие годы Калинников из-за неблагоприятных условий жизни, постоянных лишений заболел тяжелой болезнью, приведшей его к ранней смерти. Приходилось переносить ему немало и моральных обид. Всегда находясь в зависимом положении, будучи «стипендиатом», он терпел иногда незаслуженные замалчивания его творчества, когда произведения по непонятным причинам вычеркивались из программ Филармонических концертов. Однако в 1889 году состоялся успешный дебют молодого композитора. Симфоническая картина «Нимфы», а затем прекрасно принятое оркестровое «Скерцо» определили инструментальное направление в творчестве Калинникова. Оркестровую сюиту, исполненную как конкурсное произведение, одобрил П. И. Чайковский.
Наибольший успех при жизни композитора имела Первая симфония. Публика принимала творение Калинникова прекрасно. Очень скоро она сделалась одним из самых популярных номеров концертных программ. Взыскательный композитор желал видеть оценку и со стороны маститых критиков и музыкантов, всячески стараясь сблизиться с художественной элитой Москвы и Петербурга. Особый вес в глазах Калинникова имело суждение Н. А. Римского-Корсакова. Римский-Корсаков мог ввести Калинникова в среду участников беляевского кружка. Но мнение мэтра крайне разочаровало композитора. Прозорливый педагог и гениальный композитор не разглядел в Калинникове самобытного музыкального дарования, отметив технические просчеты и некоторую простоту идей его симфонии. «Многое обещали лирические симфонии рано угасшего талантливого В. Калинникова… В них намечалась возможность дальнейшего преломления влияний Бородина и Чайковского. Прелесть Первой симфонии Калинникова – в ее задушевной и изобильной мелодике. Вторая симфония обнаруживает большой размах, но уже ощущается недохватка широкого и глубокого дыхания – диапазон замысла превосходит наличные силы, и симфония теряет в свежести и естественности (в сравнении с первой)…», – справедливо заметит Б. В. Асафьев[179 - Там же. С. 354.].
Первая, в меньшей степени Вторая симфония, а также симфоническая картина «Кедр и пальма» снискали заслуженную любовь к творческому дарованию Василия Сергеевича Калинникова. Его композиторский опыт тем более ценен, что представляет собой тернистый путь талантливого провинциала к вершинам музыкального искусства. Трагическая рамка жизни композитора придает еще больше оттенков для восприятия и понимания его музыки. Дар песни, лирики и мелоса, в широком значении этого слова, проистекают от песенного и мелодического изобилия русской культуры – источника музыкальных идей и образов в творчестве композиторов русской школы, линию лирического симфонизма которой продолжил В. С. Калинников.
Этико-эстетический идеал творчества. В этот аксиологический горизонт вписывается и творчество Сергея Ивановича Танеева (1856–1915) с его трудовой этикой, основанной на воле и дисциплине, и достижением однажды сформулированного для себя идеала творческого мастерства. «Без преувеличения можно сказать, что в нравственном отношении эта личность есть безусловное совершенство. И превосходнейшие качества его тем более трудно оценить большинству людей, что он их не старался выказать, и только близкие ему люди знают, сколько бесконечной доброты, какой-то идеальной честности и, можно сказать, душевной красоты в этом невзрачном на вид, скромном человеке. Я не знаю ни одного случая за многие годы моего знакомства с ним, который бы указал на что-нибудь вроде эгоизма, тщеславия, желания выставить себя напоказ с выгодной стороны, словом, ни один из тех маленьких недостатков, которые свойственны огромному большинству людей, хотя бы и очень хороших», – характеризует композитора П. И. Чайковский в письме к Н. Ф. фон Мекк от 26 июня 1887 г.[180 - Чайковский П. И. Переписка с Н.Ф. фон Мекк: в 3 кн. Кн. 3. 1882–90. М.: Захаров, 2004. С. 1861.]
Скромное танеевское житие, как и его музыка, лишенная внешних эффектов, без манифестирующего новаторства, – всё это не сразу позволило современникам разглядеть в композиторе одну из ключевых фигур русского музыкального искусства рубежа XIX–XX вв. Искусство Танеева продолжает традиции русской композиторской школы, являясь связующим звеном между западноевропейской и русской культурой. Творчество Танеева затмевала слава, с одной стороны, его учителя П. И. Чайковского, с другой – гениальных учеников А. Н. Скрябина и С. В. Рахманинова. В Танееве всегда видели замечательного педагога, первого русского учёного с мировым именем в области теории и истории музыки. Композиторское же дарование его несколько затеняло признание Сергея Ивановича как выдающегося музыкально-общественного деятеля. Однако то, что казалось в музыкальном наследии Танеева слишком учёным и «классичным» на фоне художественных поисков и эстетических установок XX века, воспринимается как пророческое ви?дение путей развития музыкального искусства.
Взяв на себя миссию говорить о музыке языком науки, Танеев увидел в ней наилучший способ трансляции культурного опыта, своего рода, философско-теоретическую квинтэссенцию искусства, возвращаясь, тем самым, к способу бытования музыки в античной и средневековой культуре, где она выполняла функцию не только общей теории искусства, но и являлась частью метафизики. Ограничив проблему изучения музыки, её природы и закономерностей исследованиями в области полифонии, он утверждал универсальный характер полифонического способа изложения и развития музыкального материала. Потому и особый «учёный» стиль его музыки потребовал вдумчивого, подготовленного слушателя. Увлекаясь исследованиями контрапункта, композитор иногда перегружал музыкальную ткань произведений полифоническими построениями, что придавало его сочинениям рационалистический оттенок. Однако главная его интуиция – синтез различных музыкально-стилистических направлений на основе использования общих элементов, универсальных «строительных» единиц музыкальной ткани – в свете будущих тенденций развития музыкального языка и композиторской техники в XX веке оказалась верной.
Танеев остался в памяти современников и музыкальной культуры как выдающаяся личность, о чем свидетельствовали и П. И. Чайковский, и С. В. Рахманинов. «Своим личным примером он учил нас, как жить, как мыслить, как работать, даже как говорить… И смотрели мы на него как-то снизу вверх!.. Его советами, указаниями дорожили все. Дорожили потому, что верили. Верили же потому, что, верный себе, он и советы давал только хорошие. Представлялся он мне всегда той правдой на земле, которую когда-то отвергал пушкинский Сальери», – напишет о своём высокочтимом Учителе в некрологе С. В. Рахманинов[181 - Рахманинов С. В. С. И. Танеев // Рахманинов С. В. Литературное наследие: в 3 т. Т. 1. Воспоминания. Статьи. М.: Советский композитор, 1978. С. 68.]. «Танеев был велик и гениален своей нравственной личностью и своим исключительно священным отношением к искусству», – подчеркнет Л. Л. Сабанеев[182 - Цит. по: Савенко С. И. Сергей Иванович Танеев. М.: Музыка, 1984. С. 167.]. Но, пожалуй, ярче всего о Танееве-человеке говорит ещё один эпизод: крестьяне Дюдькова на руках несли гроб композитора до Звенигорода и, стоя на коленях, прощались с Танеевым, которого почитали за праведника.
В творческом облике Танеева отношение к искусству как к священной обязанности служения приобретает значение идеала – той эталонной вершины, которая была определена исторической памятью русской музыкальной культуры в ее секулярном опыте.
Рассудительность и самоуглублённость как свойства личности, проявившиеся уже в раннем возрасте, создали особый стиль его жизни, которая представляется цельным опытом с четкой программой самосовершенствования, которую Танеев, в соответствии со своим представлением об идеале творчества, понимал как постоянное приобретение знаний в овладении вершинами мастерства. В двадцать лет, поставив себе цель, быть пианистом, композитором и образованным человеком, он понимал ее гораздо шире: «Это, в то же время, цель моей жизни, хотя слово “цель” тут совсем не у места. Действительно, слово “цель” предполагает нечто такое, на чём можно остановиться, какой-то предел, тогда как искусство и наука этого предела не имеют…»[183 - Там же. С. 34.]. Беспредельность танеевской цели – это не просто профессиональная «сверхзадача», а искомый идеал творчества, в котором образ совершенства присутствует как непосредственная трансцендирующая возможность разума выходить за положенные самим собой пределы, каждый раз при встрече с новым знанием изменять достигнутое прежним опытом понимание.
Рациональный принцип обоснования иррационального идеала творчества – характерная черта Танеева. Свое творческое кредо композитор сформулирует в атмосфере празднования открытия в Москве памятника А. С. Пушкину, по случаю которого Танеев напишет кантату «Памятник», на первые восемь строк пушкинского стихотворения. Знаменитая речь Ф. М. Достоевского о мировом значении русского поэта, по-видимому, подтолкнет композитора к размышлениям о судьбах русского искусства, о его месте в общеевропейском культурном предании. Призывая отмежёвываться от «хорошенького» и «пикантного», которое, по мнению Танеева, стало целью в искусстве, он приглашает учиться у классиков, беря эталонные образцы профессиональной музыкальной традиции за основание интеллектуально-творческой работы современных композиторов. Главная же эстетическая концепция заключается в «приложении» мысли к истокам русской музыки – народной песне и церковным напевам, что должно, в конечном итоге, способствовать созиданию национального музыкального искусства, так как в музыкально-богослужебной и народно-песенной традиции композитор видит не только интонационный источник, но и выражение единства эстетического и этического смысла творчества. «Начать с элементарных контрапунктических форм, переходить к более сложным, выработать форму русской фуги, а тогда до сложных инструментальных форм один шаг. Европейцам на это понадобилось несколько столетий, нам время значительно сократится»[184 - Там же. С. 52.]. В этой идее «догоняющего развития» русской культуры по отношению к европейской на самом деле заключалось положение о необходимости оформления русской композиторской школы как самобытного феномена мировой культуры. И первым успехом на этом пути стала кантата «Иоанн Дамаскин», посвящённая памяти Н. Г. Рубинштейна, на текст поэмы А. К. Толстого. Не являясь произведением церковным, она вобрала в себя традиции западноевропейской и русской духовной музыки, раскрыв в Танееве музыкального мыслителя-гуманиста.
Две кантаты «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» на стихи А. С. Хомякова создают своеобразную арку в творчестве композитора. Обращаясь к библейским образам, Танеев, который не обладал глубоким церковным мироощущением, трактует религиозную тему в духе высоких философско-этических размышлений о ценностях жизни человека. В настоящих произведениях он утверждает объективный положительный смысл человеческого бытия, тяготея к идее соборности как выражения соборного опыта самой культурной истории человечества, что говорит о духовной зрелости музыканта, обладающего универсальным культурным мышлением. В то же время творчество Танеева выражает и классическую зрелость русской музыкальной культуры, осознающей себя наследницей европейской и национально-музыкальной традиции. Не случайно именно на вершине этого культурного синтеза появление композитора, творчество которого имеет глубокие национальные корни и, прорастая в пласты народной традиции, всегда остается ярко индивидуальным и личностно окрашенным.
Тематизация музыкальной традиции: «русский стиль как эстетическая категория». Имя Сергея Васильевича Рахма нинова (1873–1943) композитора, пианиста, дирижёра, овеянное легендой, стоит в ряду величайших имён в истории мировой музыкальной культуры. «Русский талант» – так можно было бы точнее всего охарактеризовать этого столь щедро одарённого человека. Творчество Рахманинова имеет глубокие национальные корни, прорастая в пласты народной традиции, всегда оставаясь ярко индивидуальным и личностно окрашенным. Для Рахманинова, неразрывно связанного нитями своей души с русской культурой, тема Родины и Художника – певца её, страдающего и любящего, – определяются рано и становятся главным стержнем творческого пути.
С именем Рахманинова связаны два взаимодополняющих философско-эстетических и культурологических концепта, которые по своему происхождению имеют метафорическую природу – «русский стиль» и «русский талант», синонимом которых выступает выражение «русская душа». Именно так можно было бы точнее всего охарактеризовать музыкальный гений Рахманинова. Композитор «безгранично любил все русское: русский народ, русский язык, русскую природу, русское искусство. У него была большая русская душа, полная глубоких и благородных чувств», – пишет в воспоминаниях о Рахманинове Л. Д. Ростовцова[185 - Воспоминания о Рахманинове: в 2 т. Т. 1. М.: Музыка, 1988. С. 250.]. Впечатления детства остались самыми сильными в жизни композитора, связав образ Родины, мира ее природы и культуры с красотой и эстетическим совершенством православного богослужения, что во многом определило содержание его творчества как опыт любящего и созерцающего сердца. В этом смысле характеристика, данная философом И. А. Ильиным русской культуре как культуре созерцающего сердца – непосредственного переживания целостности жизни как звучащего бытия в его предельном трансцендентном измерении – в полной мере раскрывает сущность рахманиновского творчества.
В контексте рассматриваемого нами принципа взаимообусловленности художественного и религиозного опыта показательна история возникновения Прелюдии до-диез минор. Этот сюжет в творческой биографии Рахманинова демонстрирует опыт непосредственного возникновения произведения уже в завершенной (данной) целостности музыкального образа. В полной мере здесь проявляется особенность музыкального дарования композитора, обладавшего не только феноменальным слухом и памятью, но и способностью слышания, интегрирующей разнородные музыкальные впечатления в целостную логико-композиционную структуру. Композитор признавался, что «в один прекрасный день прелюдия просто пришла сама собой, и я её записал. Она явилась с такой силой, что я не мог от неё отделаться, несмотря на все мои усилия»[186 - Цит. по: Соколова О. И. Сергей Васильевич Рахманинов. М.: Музыка, 1987. с. 30; См. также: Рахманинов С. В. Литературное наследие: в 3 т. Т. 1. Воспоминания. Статьи. М.: Советский композитор, 1978. 668 с.].
В небольшой трёхчастной пьесе в свёрнутом, концентрированном виде отражена образно-интонационная природа музыки Рахманинова, где основной эпико-драматический образ колокольного звучания получает сквозное развитие. Скрытая программность произведения заставляла слушателей придумывать сюжеты и задавать вопросы по этому поводу Рахманинову, на что они получали ответ, что композитор написал просто музыку. В этом ответе подчеркнута способность слышания как интегрирующую способность мышления композитора, при которой слышимое переводится в смысл – усваивается как осмысленная интонация-образ, обладающая своей семантикой. Подобное можно сказать и о других творениях Рахманинова, которые, возможно, и содержат внутреннюю сюжетную линию, но литературная основа никогда не довлеет над музыкальной образностью. Обратим внимание: колокольность и мелодика знаменного распева – постоянно присутствующие смысловые единицы музыкальной речи Рахманинова – сами по себе представляют результат длительного исторического опосредствования интонационно-семантической системы музыкального языка. Однако в художественном опыте композитора они являются образом непосредственной целостности восприятия музыкальной традиции, которая усваивается как экзистенциальный опыт, своего рода, способ вхождения в культуру в особой форме жизнепроживания ее событий, имеющих личностный смысл.
Не случайно такой синтез непосредственного и опосредствованного в структуре художественного образа как выражение предельной целостности религиозно-экзистенциального и художественного опыта остается не достижимой вершиной, поскольку в нем ясно различима не только интуиция совершенства, но и воплощение его в идеальном образе Прекрасного, примером чему может служить Второй фортепианный концерт, с его завораживающей красотой звучания, вызвавшей слезы восхищения у С. И. Танеева. Эта особенность, заключающаяся в прямом типе высказывания, отсылает восприятие человека к знакомому ему слуховому опыту и способствует созданию лейттем, центральной из которой в творчестве Рахманинова является тема Родины, создаваемая как эпический, лирический и драматический образ. Так, во Втором концерте она обретает монументальное звучание. Характеризуя ее, Н. К. Метнер напишет: «Каждый раз с первого же колокольного удара чувствуется, как во весь рост поднимается Россия». Основная тема Третьего концерта становится знаковой для всего творчества композитора. В ней соединяется мелодика знаменных распевов и народных лирических протяжных песен. Эта тема словно вырастает из глубин русской культуры и русской души, поётся солистом, а звучит в неслышном хоре соборных голосов, как будто взор скользит по бескрайним просторам и встречает белокаменные храмы, парящие на фоне голубого неба в окружении зелени берёз, прозрачных рек и озёр. В ней нет нарочитой картинности – она есть пейзаж души. Прорыв к Свету – так можно было бы определить драматургическую концепцию Третьего концерта. И Второй, и Третий концерты своим стремлением к торжествующему, победному финалу приближаются к всепобеждающему ликованию – к образу совершенной радости, который связан в самосознании русской культуры с Пасхальным празднеством.
В наследии композитора с точки зрения интересующей проблемы культурного синтеза как основания преемственности творческого опыта необходимо выделить хоровые циклы «Литургия Иоанна Златоуста» (1910) и «Всенощное бдение» (1915). Напевно-полифонический стиль «Литургии» и «Всенощной», явившийся развитием традиций П. И. Чайковского, С. И. Танеева, А. Т. Гречанинова, А. Д. Кастальского, С. В. Смоленского, в строгом смысле слова нельзя назвать церковным. Духовные произведения Рахманинова – это обобщённо-музыкальные полотна, объединённые композиторским замыслом, в которых создаётся образ Света как идеала красоты и добра в трансцендентном значении святости – смыслопорождающего образа для древнерусской традиции. Рахманинов как бы возводит ей памятник – мемориальный храм за пределами древнего исторического предания, во времени вечности культуры, наследующей духовную традицию, видение и слышание которой открывается созерцающему сердцу композитора.
Трагическая потеря Родины обостряет интонации печали и тоски в произведениях последнего периода – «лебединой» трилогии – с характерной для нее темой «Dies irae». В 1934 году появляется Рапсодия на тему Паганини, в 1936 – Третья симфония. В 1940 году Рахманинов завершает работу над «Симфоническими танцами». Эти произведения в полной мере раскрывают философию творчества композитора, погружая слушателя в глубоко сокровенный мир его переживаний и размышлений, окрашенный в трагедийные тона. С точки зрения стилистических экспериментов XX века последние опусы композитора многими современниками воспринимались как традиционалистские. Однако в них Рахманинов проявляет себя человеком культуры XX века с ее трагедией человеческой судьбы как экзистенциа льным опытом самой культуры, балансирующей на грани бытия и небытия. Его чуткий нравственный слух и дарование художника позволяют очень точно проинтонировать содержание эпохи, в которой личной духовной и экзистенциальной катастрофой гениального музыканта стала утрата Родины.
Философский модус русской музыки: эстетический универсализм постклассики. Осознанием трагического разрыва с национальной культурой отмечено и творчество Николая Карловича Метнера (1879–1951), демонстрирующее ретроспективистскую тенденцию, которую можно было бы определить как охранительное новаторство. Его имя уступает по популярности Скрябину и Рахманинову, как и композиторам младшего поколения – Стравинскому и Прокофьеву. Отчасти это объясняется известной камерностью его творчества и некоторым инструментальным «монотематизмом» – из достаточно обширного наследия Метнера произведения для фортепиано составляют две трети написанного им. Объясняется это также и тем, что Николай Метнер, рано сложившийся как композитор, придерживался своего собственного пути в музыке. Он остался вне каких-либо определенных эстетических течений и направлений в музыкальном искусстве, сознательно избегая художественной однозначности своей творческой позиции. В то же время его убеждения отличались устойчивостью и последовательностью. Композитор признавался, что его рождение было несвоевременным, подчеркивая тем самым отличие своего духовного опыта от общих веяний и умонастроений эпохи. «Если мое искусство “интимно”, как ты часто говоришь, то этому так и быть надо! Искусство рождается всегда интимно, и если ему суждено возродиться, то оно должно снова стать интимным… Напоминать об этом людям я и считаю своей обязанностью. И в этом я тверд и железен, как и полагается быть сыну века…», – писал в своем письме брату композитор[187 - Метнер Н. К. Письма. М.: Музыка, 1973. С. 200.].
«Несвоевременность» рождения – это психологическая характеристика экзистенциально проживаемого времени культуры, данная Метнером, и позволяющая зафиксировать важный этап в развитии художественной ситуации в русской культуре, связанный с постклассической культурой. Не случайно И. А. Ильин в своих лекциях о русской культуре поставил творчество Николая Метнера в один ряд с Пушкиным, Достоевским и Толстым, признав законное право называть его классиком, в то же время назвав его и провидцем. Ильин тем самым пытался показать присущий творчеству Метнера принцип новизны как открытия нового горизонта искусства. Стоит прислушаться к оценкам творчества Метнера его современников, признававших в нем талант первой величины. Это сделает образ композитора более понятным и значимым в философско-культурологической перспективе рассматриваемой нами линии преемственности творческого опыта во взаимодействии искусства и религии в истории культуры России. Почему С. В. Рахманинов упорно пропагандировал музыку Метнера, называя его «самым гениальным из всех современных музыкантов», неизменно подчеркивая, что «произведения этого действительно великого композитора… изумительно свежи и современны»[188 - Цит. по: Долинская Е. Николай Метнер. М.: Музыка, 1966. С. 37.]? Очевидно, наследие Метнера требует особой чуткости слухового восприятия, изначально нацеленного на постижение исходной целостности музыкального образа, который, по словам самого композитора, рождается интимно, как экзистенциальный опыт проживания музыкальной идеи. Соответственно, сочинения Метнера предполагают слушателя высокой музыкальной и, шире, художественно-философской культуры. Не случайно Рахманинов заметит, что Метнер – один из «тех редких людей, – как музыкант и человек, – которые выигрывают, тем более чем ближе к ним подходишь. Удел немногих!»[189 - Там же. С. 37.]. Подобное можно сказать и о стиле Метнера-пианиста, кото рый в первую очередь отличался глубоким проникновением в замысел произведения, что создавало впечатление непосредственного рождения музыки. Обладая высокой стилевой культурой, прекрасно владея инструментом, Метнер принадлежал, скорее, не к пианистам-виртуозам, а к «исполнит елям-творцам».
Музыке Метнера нередко отказывали в общительности, теплоте и непосредственности выражения (А. Б. Гольденвейзер). Однако если признать в философско-обобщенном характере многих произведений композитора образ музыкальных созерцаний, то становится понятной интимно-личностная тональность его творчества. Созерцательность – это индивидуальное проявление свойств личности, ее особого общения с миром, целостность которого воспринимается в непосредственной данности образа. Как верно заметит И. А. Ильин, «Своеобразие Метнера состоит, прежде всего в том, что он в своем музыкальном творчестве следует своему внутреннему духовному опыту, полностью доверяясь ему во всем»[190 - Ильин И. А. Собрание сочинений. Т. 6, кн.3; С. 501.]. Пытаясь раскрыть феномен творчества Метнера, философ говорит, что своим внутренним слухом, силою своего субъективного восприятия и переживания мира, композитор «улавливает» объективный характер и содержание внемузыкальный событий: «… содержания этого опыта, являющиеся ему в качестве музыкальных тем, имеют объективную природу, что они щедро наделены своим собственным законом и судьбой, а композитору остается лишь серьезно и внимательно прислушиваться к ним. Его вдохновение есть как раз созерцающее прислушивание, определенное творческое повиновение теме к ее развитию»[191 - Там же. С. 501.].
Упомянутое Ильиным «созерцающее прислушивание» свойственно религиозному типу восприятия мира как целостности Абсолюта в непосредственном опыте его обнаружения. Индивидуальной особенностью творческого опыта Метнера является то, что оно направлено не только в глубины своего духовного мира, но и во вне – к музыкальной традиции как длительной исторической системе опосредствований языка и художественного мышления. Хотя композитор и старался не допускать в свою душу разрушительных «диссонансов» времени, но его музыка удивительным образом передает общую культурную атмосферу, в которой переплетаются и жесткие интонации совсем не идиллической эпохи, и эстетические изыски русской постклассической культуры в смешении модернизма, символизма, позднего романтизма и реализма. Показательно и то, что выросший в культурной атмосфере России композитор, живший ее духом и традициями, не смог вписаться в иную культурную среду, оказавшись в эмиграции. Композитор, который говорил и думал на русском языке, в эмигрантскую пору скитаний признаваясь, что даже чужая речь для него болезненна и невыносима, неоднократно повторял, что его Родина – Россия. Свой русско-европейский стилевой синтез он выразил как в художественных произведениях, так и в работе «Муза и мода» (1935)[192 - См.: Метнер Н. К. Муза и мода: Защита основ музыкального искусства. Paris: YMCA-Press, 1935.], изложив взгляды на язык музыки, ее эстетическую и технологическую природу в виде своеобразного творческого манифеста против модернистских проявлений в ней.
Особая эстетическая позиция Метнера заключается в опоре на классико-романтическое наследие, в избегании неоправданных эффектных художественных средств, по мнению композитора, разрушающих музыкальный смысл. В этом можно видеть характерную для переходного постклассического периода русской культуры черту художественного мышления. Как отмечает российский философ культуры А. Л. Доброхотов, постклассика в своем самосознании «выступает обычно как период рационального использования достижений эпохи и смягчения культурных конфликтов, хотя на деле мы видим, что для этой стадии характерно расслоение элементов, интегрированных классикой»[193 - Доброхотов А. Л. Телеология культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2016. С. 114.].
Авторизация классического комплекса музыкального языка и стилистики с последующим изменением средств художественной выразительности и драматургической логики музыкального произведения связано у Метнера с созданием оригинального жанра сказки, где непосредственная целостность восприятия национальной и европейской традиции с ее мифопоэтическими архетипами опосредствована в образно-композиционной структуре фортепианной миниатюры.
Понеже гордый и величавый бывает в посмех,
Последи же зле потребляется
И душею своею во ад низпосылается[169 - Там же.].
Иной аспект обличения и уничижения греха гордости – сатирический, возникает в русской литературе в начале XVIII века в творчестве Иосифа Туробойского, знаменитого воспитанника Киево-Могилянской академии, ставшего впоследствии ее профессором, а затем и префектом Московской славяно-греко-латинской академии. Полтавская победа русского оружия над шведами в 1709 году послужила сюжетом для школьной пьесы. «Божие уничижителей гордых ‹…› уничижение» – сокращенный пересказ настоящей пьесы, в которой обыгрывается библейский сюжет о Самсоне, победителе филистимлян. Некогда богатырской мощью своею Самсон расправился со львом, разодрав ему пасть. Со времени первых успехов России в Северной войне образ Самсона связывался с образом Петра I и России, а поверженный лев выступал аллегорией Швеции, наказанной за свою гордость и политические притязания на европейское господство. «Прегордая» Швеция, многих уничижавшая, постыжена и посрамлена, как лев, усмиренный Самсоном, о чем повествует заключительная часть пьесы:
«Является на престоле началная Смерть, имущая под ногами Гордость и Поношение, Орлом убиенныя, пред нею же меншия Смерти пляшут, хромому Лву увенчанну насмевающеся; и насмеян доволно, убеже со гласом с небес: “Бежи, несытая душе, и весма смирися!”
Надпись Лва: “смирихся до зела”»[170 - Сатира XI–XVII веков. С. 66.].
Российская империя, созданная Петром I и его преемниками, изменила социально-политическое и культурное положение Православной Церкви, но святоотеческая традиция, дав плоды творчества в Духе и Истине, была преемственно воспринята и обогощена духовным опытом русских подвижников. Так, в XIX веке богословская мысль представлена трудами святителя Феофана Затворника, неоднократно обращавшегося к проблеме греха и его искоренения на пути стяжания христианских добродетелей.
Свт. Феофан Затворник определяет грех гордыни как самочинное волеизъявление. По выражению святителя, такой человек превращается в раба страстей. Его мнимая свобода оборачивается тяжким и мучительным пленом: «Творить волю плоти и помышлений значит – что пришло на мысль, то и делать, что захотелось, к тому и стремиться. Пришел гнев – браниться; пришла похоть – удовлетворять ей; представился случай к неправой прибыли – сейчас воспользоваться им; захотелось стать повыше – решиться на все кривые пути к тому. Кто таков, тот очень походит на вьючное животное. Как мула, навьючив, ведут куда хотят и еще бьют, так и на человека наложив бремя страстей, враг связывает его ими и ведет куда хочет, тиранствуя и издеваясь над ним»[171 - Святитель Феофан Затворник. Созерцание и размышление. С. 439.]. Стоит ли упорствовать в своих страстях, самоутверждаясь под ярмом греха? Этот вопрос и задает христианину св. Феофан Затворник: «А это что ж за жизнь? Что тут человеческого? Человеческое тут все замерло, а действует только все самостное, страстное, сатанинское, принося плод смерти, а не жизни»[172 - Там же. С. 440.].
По слову святителя, отпав от Бога, человек перестал подчиняться Духу – всеблагой и премудрой силе, которая им водительствовала. Человек в своем понимании остановился на себе и поставил себя главной целью жизни. Это стало источником самолюбия. Так, говорит святитель, «из самолюбия развилась гордость, своекорыстие, сластолюбие, а от этих потом все полчища страстей. Все они в разных оттенках стали заправителями жизни человека. Дух замолк, и если подавал голос, его не слушали»[173 - Там же. С 560.]. Природа же человека такова, что он жив Духом Божьим. У него есть и свой дух – та богоподобная сила, которая вдунута в него от Бога, и которая призвана вводить его в духовную жизнь. Слово, проповедованное Спасителем, принесло на землю благодать Всесвятого Духа. Когда благодать Духа Божьего воздействует на дух человеческий, то он встает и оживляет страх Божий, стремление угождать Богу, воспламеняет надежду на лучшую жизнь – на спасение. Тот, кто покоряется этим требованиям Духа, по мысли Феофана Затворник, тот «отказывается от себя, попирает самолюбие со всем полчищем страстей и начинает всеусердно работать Господу наперекор всем земным видам. С этого момента начинается у него жизнь в духе, или Духом, с попранием самолюбия и всех страстей»[174 - Там же. С 561.].
В борьбе со страстями человеку нужно быть исключительно внимательным к себе и следить за своими помыслами. Об этом говорят все подвижники, опираясь на тысячелетний опыт духовной жизни в лоне Церкви Христовой и на собственные наблюдения и опыт богопознания и богообщения. Призыв к духовной бдительности – это призыв к совести человеческой, которая памятует о Божественных установлениях и страшится греха. Этот нравственный призыв постоянно сопровождал книжную (литературную, философскую, богословскую) традицию русской культуры, взращенную этической установкой церковного сознания. Вплетаясь в ткань устной фольклорной культуры, христианский этос придал творческий импульс развития и народной мудрости. Литературное и устное слово сохранили в истории русской культуры живые традиции религиозности, стремление к духовному совершенствованию, в многообразии духовно-творческого опыта удерживая основные нравственные аксиомы и эстетические идеалы христианской цивилизации.
Глава 4. Эстетические идеалы русской культуры в творческом опыте композиторов
В четвертой главе в рамках общей задачи реконструкции и философской проблематизации истории русской культуры рассматриваются пути сложения и развития русской музыкальной культуры XIX–XX вв., которая, став содержанием и формой индивидуального творческого опыта, обретя профессиональный статус и традиции бытования в рамках светской культуры, сохранила преемственность с древнерусской духовной традицией. В исследовании мы обращаем внимание на сохранение взаимообусловленности религиозного и секулярного типа мироотношения в понимании этического смысла творчества с характерным для светской культуры мотивом служения (как инверсии религиозной идеи соработничества) и эстетическим идеалом красоты как образа совершенства, выражаемого целостностью Абсолюта, природы и духовного мира человека.
С нашей точки зрения, эстетическая интуиция русских композиторов демонстрирует опыт непосредственного переживания бытия с характерным для православного типа духовности стремлением к предельному образу Совершенства как цели и смысла творчества. В свою очередь в образно-интонационном строе русской музыкальной классики воссоздается культурно-природный ландшафт российской цивилизации, что в восприятии современника формирует целостный образ русской музыки как своеобразной путеводительницы по «национальному парку» культуры. Тем самым, образы-идеи культурной истории России, нашедшие воплощение в музыкальных произведениях, приобретают мемориальный характер, соединяя значение художественной ценности и памятника истории.
Специфичность анализа музыкальной культуры в контексте данного исследования состоит в том, что предметом рассмотрения здесь выступает не только художественное произведение, обращенное к аудитории и готовое вступить в ситуацию диалога смыслов понимания и предпонимания, но и творческий опыт композитора как событие культуры. Жизнь и творчество художника предстает произведением культуры. При этом нас интересует момент рецепции профессиональной традицией, складывающейся первоначально в опыте европейской культуры и усваиваемой на этапе классической культуры русскими композиторами, той неопределенной целостности искусства и религии, которая была исходным основанием формирующейся древнерусской культуры.
Структура взаимообусловленности религии и искусства складывается в профессиональной музыкальной традиции под влиянием нескольких факторов. Во-первых, источниками музыкального предания в истории русской культуры выступают как профессиональные, так и непрофессиональные типы традиционализма – композиторское и народное творчество; во-вторых, бытование музыки связаны с различными типами культуры – церковной, светской, народной; в-третьих, сама традиция профессионального композиторского творчества находится в ситуации активного сложения школы, что подразумевает появление эталонных текстов с соответствующими ему содержательно-стилистическими и композиционно-структурными особенностями, которые должны стать ее парадигмальным основанием; в-четвертых, в период формирования национальной композиторской школы названные выше источники музыкального предания не даны как синтез культурных традиций или обязательный образец творчества, а являются предметом изучения и освоения, что предполагает принципиальную свободу творческого самополагания в виде самостоятельно поставленных и решенных художественных задач. Подобную ситуацию мы наблюдаем в творчестве М. И. Глинки, который увидел саму возможность подобного синтеза-освоения образцов профессионального традиционализма западноевропейского музыкального искусства в соединении «узами законного брака» русской песенности и европейской фуги и определил линию развития русской музыкальной культуры в рамках профессиональной традиции.
С этой точки зрения история русской музыки в XIX веке предстает как путь сложения традиции, где различные источники письменной и устной музыкальной культуры сплавляются в новый синтез. Таким образом, груз культурной преемственности в музыкальном искусстве России возлагается не на ранее существовавшие канонические тексты в рамках профессионального традиционализма, которые требуется сохранить живыми в неуклонно растущей исторической дистанции, а на обращение к образцам музыкальных традиций, достаточно замкнутых внутри своей линии развития. Как нам представляется, феномен русской композиторской школы состоит в сложении традиции в процессе самообоснования музыкальных преданий, или типов профессионализма, главной задачей которого оказывается культурный синтез как творческое освоение духовно-исторического опыта одного общеевропейского культурного предания. С деятельностью «Могучей кучки» и творчеством П. И. Чайковского эта задача была в полной мере решена на предельно высоком художественном уровне.
Если композиторы-кучкисты, вдохновленные путем, открытым Глинкой, искали данный синтез в обращении к допрофессиональной традиции народного музыкального творчества, которая воспринималась ими как готовый, уже сложившийся культурный синтез русской истории в ее эпическом, драматическом, лирическом, сказочно-мифологическом и эсхатологическом выражении, то лирико-драматический симфонизм Чайковского более опосредовано связан с допрофессиональной народно-музыкальной традицией. Его музыкальное мышление определяется инструментальной природой европейской традиции, специфически преломляясь в лирически исповедальном типе высказывания, имеющем трагедийный оттенок и тематизированном характерным для позднего романтизма образом-идеей рока. Потому для решения исследовательской задачи, поставленной в работе, необходимо рассмотреть проблему преемственности творческого опыта в русской музыкальной классике в аспекте наследования традиции, предстающей уже как культурный синтез в рамках определяющих его эстетических и нравственных установок. Представляется возможным обратиться к наследию тех композиторов, чьи жизненные судьбы соединили собой традиции высокой музыкальной классики при переходе к радикальному изменению культурной парадигмы Российской цивилизации. Речь идет о художественно-эстетических идеях и концепциях музыкального творчества в России конца XIX – начала XX веков, которые раскрываются в ситуации развития традиции, при этом выявляется парадоксальная логика исторического движения: будущее становится возможным как рефлексия и актуализация прошлого.
Для нашего исследования важно показать способ преемственности творческого опыта, осуществленный в рамках музыкальной профессиональной традиции при переходе от поздней классики к постклассическому, неклассическому и, далее, к постнеклассическому модусу современной культуры. Он репрезентативен в анализе рассматриваемой нами линии взаимодействия религиозных и художественных интенций творчества. Русская композиторская школа выступила своеобразным связующим звеном между двумя историческими массивами культуры России – имперским и советским, выполняя функцию эстетического самообоснования культурной традиции в экзистенциальном опыте личности, в его ценностном измерении.
Классическое наследие и просветительский идеал музыкального искусства. Примером преемственности традиций русской композиторской школы на этапе достижений позднеклассической культуры является творчество Александра Константиновича Глазунова (1865–1936), которое послужило своеобразным мостиком между двумя школами – Петербургской и Московской. Младший в плеяде петербургских композиторов «Новой русской школы», Глазунов, общаясь с великими русскими музыкантами, был полностью погружен в творческую атмосферу музыкальной и театральной жизни. Его жизнь одновременно вобрала и заключила собою эпоху расцвета и всеобщего признания русской композиторской школы. Не случайно композитор и музыковед, академик Б. В. Асафьев сравнивал его музыку с творениями М. И. Глинки, со стилем и мироощущением эпохи золотого века русской культуры: «В характере музыки Глазунова есть черты, роднящие его с музыкой Глинки: светлый эпикуреизм и влюбленность в ясность и гармоничность»[175 - Асафьев Б. В. Избранные труды: в 5 т. М.: Издательство АН СССР, 1954. Т. 2. С. 266]. Для музыкантов поколения начала XX века он представлялся уже живым классиком. Это особенно подчеркивалось резким переломом в русской культуре, произошедшим после Октябрьской революции. А. К. Глазунов, находясь в должности Петербургской (Петроградской/Ленинградской) консерватории, олицетворял собой преемственность двух культур, являясь нравственным образцом служения музыки.
Творчество Глазунова, пользуясь определением Н. А. Римского-Корсакова, значимо прогрессивным развитием эстетических концепций и художественных открытий русской музыки. Композитора нельзя безоговорочно отнести к новаторам. Он мастер, очень тонко усвоивший заветы своих учителей и старших друзей. По своим эстетическим взглядам и композиторской технике Глазунов ближе эпохе 80-х годов XIX столетья. Не случайно Н. А. Римский-Корсаков противопоставил кружок Балакирева и кружок Беляева, к которому вместе с Римским-Корсаковым и Лядовым принадлежал Глазунов, как революционный и прогрессивный. Именно воплощение идеи прогресса как поступательного неуклонного развития традиции находили друзья композитора и современные ему критики в технически безукоризненных, грамотных, образно ярких произведениях, где музыкальная мысль выражалась ясно и находила точное композиционно-драматургическое выражение. Все это позволяет говорить о Глазунове как о композиторе классико-роман тического стиля, вдохновляемого идеалами реалистического искусства.
Композитор, который воспитывался в духе кучкистских народно-просветительских представлений о целях и содержании музыкального искусства, в русле идеологии о самобытности русской музыкальной школы и роли в оформлении профессиональной традиции народной музыки, в некоторых вопросах заметно расходился с ведущим представителем Московской школы, П. И. Чайковским. Однако именно Глазунову выпала роль объединить в своем творчестве эпическую и лирико-драматическую линию русской музыки. Полнее всего это выразилось в симфонических произведениях композитора, стиль которых характеризовала отмечаемая всеми ясность, гармоничность и стройная логика целого. Конструктивное начало его произведений служило мастерским основанием художественного замысла. Как отмечает Ю. В. Келдыш, «Начиная с ‹…› Первой симфонии ‹…› он определяется как симфонист монументального плана, склонный к мышлению крупными синтетическими образами, к широким масштабам музыкального письма при ясности соотношений и стройной логической завершенности целого»[176 - Цит. по: Крюков А. Н. Александр Константинович Глазунов. М.: Музыка, 1984. С. 24.]. Еще более выпукло особенности композиторского почерка А. К. Глазунова определил В. В. Стасов: «Главный характер всех сочинений Глазунова до сих пор – неимоверный широкий размах, сила, вдохновение, светлость могучего настроения, чудесная красота, роскошная фантазия, иногда юмор, элегичность, страстность, и всегда – изумительная ясность и свобода формы»[177 - Там же. С. 24.].
Середина и конец 1890-х – пора расцвета художественных сил композитора. Две своеобразные трилогии – симфоническая и балетная: Четвертая, Пятая, Шестая симфонии, а затем в три года один за другим написанные балеты «Раймонда», «Барышня-служанка, или Испытание Дамиса», «Времена года» принесли ему заслуженную мировую славу. В лучших своих творениях он достиг той четкости и точности композиционной техники, позволявшей музыкальные идеи сделать рельефными, придать им фантазийно-вдохновенный оттенок. Жанрово-эпический симфонизм «могучей кучки» и лирико-драматическая традиция симфонизма Чайковского соединились в «общей идее» национальной музыки, что воплощает собой высокую ступень культурного синтеза собственно профессиональной традиции – школы и народной самобытности. И хотя начало XX века в России – пора интенсивных художественных поисков, культурфилософский проект символизма, русского модерна, тем более, русского авангарда находился вне эстетического кругозора Глазунова. Радикальные опыты новейших композиторов он считал деградацией музыкального языка, а их самих называл «выродками». Однако именно Глазунов самым высоким образом отметил талант юного Шостаковича и предрек ему место гениального продолжателя традиций русской музыки, ее славное будущее. Уходящее поколение, к которому принадлежал и Глазунов, оставаясь преданным идее музыкального просвещения народа, сохраняло гармоническую целостность идеального образа красоты и добра как непосредственного выражения достигнутого культурного синтеза народно-церковного и индивидульно-творческого образа искусства.
А. К. Глазунов составил неотъемлемое единое целое с историей русской музыки. Особенно это положение и значение Глазунова укрепилось на посту Петербургской консерватории, которую он возглавлял почти двадцать три года. Его человеческий и художнический масштаб как-то сразу стал очевидным. По выражению Римского-Корсакова, Глазунов для студентов сделался и отцом, и наставником, и нянькой. Его чуткая забота о педагогах и учащихся снискала подлинную любовь и даже преклонение перед композитором. Уходящее поколение, к которому принадлежал Глазунов, явило пример цельности и нравственной высоты личности, оставаясь преданными идее просвещения народа, служа человеку тем, что считали самым совершенным плодом культуры – музыкальным искусством.
Служение творчеством. В судьбе Василия Сергеевича Калинникова (1866–1900) притяжение творчества оказалось столь сильным, а цена его столь высокой, что приходится говорить о подлинном воплощении идеала жертвенного служения музыке как высшему искусству в православно-аскетическом его понимании. В. С. Калинников – талантливый русский композитор – не столь знаем и почитаем, не столь любим биографами и историками музыки в ряду творческих имен блистательного XIX века, богатого художественными гениями. Фигура композитора остается в тени великих музыкантов и их монументальных шедевров. Между тем, как отмечает Б. В. Асафьев, «Калинников был бы самым талантливым из московских композиторов лирико-эпического направления, родившихся в период 1860–70-х годов, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Именно Калинников, – отмечает исследователь, – мог писать лирично без банальностей и сентиментальности, потому что, как ни у кого из композиторов его поколения, упомянутые качества – сердечность и непосредственность – были ему действительно вполне присущи. Это – Кольцов русской музыки, с той разницей, что родиной его была не Воронежская, а Орловская губерния»[178 - Асафьев Б. В. Избранные труды: Т. 2. С. 354.].
Жизнь Калинникова представляет собой беспримерный путь борьбы за творчество. Это была борьба духа и воли с тяжелейшими обстоятельствами – крайней нуждой и неизлечимой болезнью. Сам композитор прекрасно понимал, что вступает в мир, где ценности творчества, планка эстетических требований к художнику очень велика, и ему придется «состязаться» с композиторами, чьи имена окружены ореолом европейской и всемирной известности. Но жажда к творчеству оказалась столь сильной, что Калинников решает проделать этот путь от провинциальной, тихой, ничем не примечательной и совершенно обыденной жизни к жизни артистической, не гарантирующей успех, но бесконечно привлекательной своими художественными возможностями.
В письме к своему другу и учителю С. Кругликову Калинников признавался, что тяга к творчеству – неодолимая сила, которая ради нескольких мгновений неземного наслаждения заставляет переносить постоянные муки. Это излияние сокровенных мыслей в полной мере раскрывает внутреннюю интуицию творческих стремлений автора письма, обнажает «болевой нерв» его души. Музыка здесь названа страшной силой, и это действительно верно – верно в судьбе композитора, который, стремясь к своей цели – быть художником, – подорвал здоровье, и пора наивысшего взлета его творчества пришлась уже на момент серьезной болезни. Все лучшее, созданное Калинниковым, – это результат упорного противостояния тяжким и удручающим обстоятельствам жизни. Нужно было обладать исключительным духовным здоровьем, противостоя болезни и бедности, чтобы жизненные коллизии не вторглись в светлый, обаятельно лиричный мир музыки. При этом требования, предъявляемые к себе как к художнику, всегда были очень высокими.
Калинников боялся быть «нотописателем». Достичь желаемого художественного уровня он мог только систематическим трудом. Трудовая этика Калинникова – пример поучительный во всех отношениях. Воля, дисциплина, пиетет к знанию и ценностям образования, труд – качества, которые помогли Калинникову в освоении музыкального наследия прошлого и которые принесли ему композиторские успехи. Это счастливое сочетание качеств культивировалось и взращивалось с детства, в семье, где отец и мать композитора, происходившие из духовной среды, придавали воспитанию и обучению детей большое значение.
После обучения в семинарии начинается московский период жизни композитора. В студенческие годы Калинников из-за неблагоприятных условий жизни, постоянных лишений заболел тяжелой болезнью, приведшей его к ранней смерти. Приходилось переносить ему немало и моральных обид. Всегда находясь в зависимом положении, будучи «стипендиатом», он терпел иногда незаслуженные замалчивания его творчества, когда произведения по непонятным причинам вычеркивались из программ Филармонических концертов. Однако в 1889 году состоялся успешный дебют молодого композитора. Симфоническая картина «Нимфы», а затем прекрасно принятое оркестровое «Скерцо» определили инструментальное направление в творчестве Калинникова. Оркестровую сюиту, исполненную как конкурсное произведение, одобрил П. И. Чайковский.
Наибольший успех при жизни композитора имела Первая симфония. Публика принимала творение Калинникова прекрасно. Очень скоро она сделалась одним из самых популярных номеров концертных программ. Взыскательный композитор желал видеть оценку и со стороны маститых критиков и музыкантов, всячески стараясь сблизиться с художественной элитой Москвы и Петербурга. Особый вес в глазах Калинникова имело суждение Н. А. Римского-Корсакова. Римский-Корсаков мог ввести Калинникова в среду участников беляевского кружка. Но мнение мэтра крайне разочаровало композитора. Прозорливый педагог и гениальный композитор не разглядел в Калинникове самобытного музыкального дарования, отметив технические просчеты и некоторую простоту идей его симфонии. «Многое обещали лирические симфонии рано угасшего талантливого В. Калинникова… В них намечалась возможность дальнейшего преломления влияний Бородина и Чайковского. Прелесть Первой симфонии Калинникова – в ее задушевной и изобильной мелодике. Вторая симфония обнаруживает большой размах, но уже ощущается недохватка широкого и глубокого дыхания – диапазон замысла превосходит наличные силы, и симфония теряет в свежести и естественности (в сравнении с первой)…», – справедливо заметит Б. В. Асафьев[179 - Там же. С. 354.].
Первая, в меньшей степени Вторая симфония, а также симфоническая картина «Кедр и пальма» снискали заслуженную любовь к творческому дарованию Василия Сергеевича Калинникова. Его композиторский опыт тем более ценен, что представляет собой тернистый путь талантливого провинциала к вершинам музыкального искусства. Трагическая рамка жизни композитора придает еще больше оттенков для восприятия и понимания его музыки. Дар песни, лирики и мелоса, в широком значении этого слова, проистекают от песенного и мелодического изобилия русской культуры – источника музыкальных идей и образов в творчестве композиторов русской школы, линию лирического симфонизма которой продолжил В. С. Калинников.
Этико-эстетический идеал творчества. В этот аксиологический горизонт вписывается и творчество Сергея Ивановича Танеева (1856–1915) с его трудовой этикой, основанной на воле и дисциплине, и достижением однажды сформулированного для себя идеала творческого мастерства. «Без преувеличения можно сказать, что в нравственном отношении эта личность есть безусловное совершенство. И превосходнейшие качества его тем более трудно оценить большинству людей, что он их не старался выказать, и только близкие ему люди знают, сколько бесконечной доброты, какой-то идеальной честности и, можно сказать, душевной красоты в этом невзрачном на вид, скромном человеке. Я не знаю ни одного случая за многие годы моего знакомства с ним, который бы указал на что-нибудь вроде эгоизма, тщеславия, желания выставить себя напоказ с выгодной стороны, словом, ни один из тех маленьких недостатков, которые свойственны огромному большинству людей, хотя бы и очень хороших», – характеризует композитора П. И. Чайковский в письме к Н. Ф. фон Мекк от 26 июня 1887 г.[180 - Чайковский П. И. Переписка с Н.Ф. фон Мекк: в 3 кн. Кн. 3. 1882–90. М.: Захаров, 2004. С. 1861.]
Скромное танеевское житие, как и его музыка, лишенная внешних эффектов, без манифестирующего новаторства, – всё это не сразу позволило современникам разглядеть в композиторе одну из ключевых фигур русского музыкального искусства рубежа XIX–XX вв. Искусство Танеева продолжает традиции русской композиторской школы, являясь связующим звеном между западноевропейской и русской культурой. Творчество Танеева затмевала слава, с одной стороны, его учителя П. И. Чайковского, с другой – гениальных учеников А. Н. Скрябина и С. В. Рахманинова. В Танееве всегда видели замечательного педагога, первого русского учёного с мировым именем в области теории и истории музыки. Композиторское же дарование его несколько затеняло признание Сергея Ивановича как выдающегося музыкально-общественного деятеля. Однако то, что казалось в музыкальном наследии Танеева слишком учёным и «классичным» на фоне художественных поисков и эстетических установок XX века, воспринимается как пророческое ви?дение путей развития музыкального искусства.
Взяв на себя миссию говорить о музыке языком науки, Танеев увидел в ней наилучший способ трансляции культурного опыта, своего рода, философско-теоретическую квинтэссенцию искусства, возвращаясь, тем самым, к способу бытования музыки в античной и средневековой культуре, где она выполняла функцию не только общей теории искусства, но и являлась частью метафизики. Ограничив проблему изучения музыки, её природы и закономерностей исследованиями в области полифонии, он утверждал универсальный характер полифонического способа изложения и развития музыкального материала. Потому и особый «учёный» стиль его музыки потребовал вдумчивого, подготовленного слушателя. Увлекаясь исследованиями контрапункта, композитор иногда перегружал музыкальную ткань произведений полифоническими построениями, что придавало его сочинениям рационалистический оттенок. Однако главная его интуиция – синтез различных музыкально-стилистических направлений на основе использования общих элементов, универсальных «строительных» единиц музыкальной ткани – в свете будущих тенденций развития музыкального языка и композиторской техники в XX веке оказалась верной.
Танеев остался в памяти современников и музыкальной культуры как выдающаяся личность, о чем свидетельствовали и П. И. Чайковский, и С. В. Рахманинов. «Своим личным примером он учил нас, как жить, как мыслить, как работать, даже как говорить… И смотрели мы на него как-то снизу вверх!.. Его советами, указаниями дорожили все. Дорожили потому, что верили. Верили же потому, что, верный себе, он и советы давал только хорошие. Представлялся он мне всегда той правдой на земле, которую когда-то отвергал пушкинский Сальери», – напишет о своём высокочтимом Учителе в некрологе С. В. Рахманинов[181 - Рахманинов С. В. С. И. Танеев // Рахманинов С. В. Литературное наследие: в 3 т. Т. 1. Воспоминания. Статьи. М.: Советский композитор, 1978. С. 68.]. «Танеев был велик и гениален своей нравственной личностью и своим исключительно священным отношением к искусству», – подчеркнет Л. Л. Сабанеев[182 - Цит. по: Савенко С. И. Сергей Иванович Танеев. М.: Музыка, 1984. С. 167.]. Но, пожалуй, ярче всего о Танееве-человеке говорит ещё один эпизод: крестьяне Дюдькова на руках несли гроб композитора до Звенигорода и, стоя на коленях, прощались с Танеевым, которого почитали за праведника.
В творческом облике Танеева отношение к искусству как к священной обязанности служения приобретает значение идеала – той эталонной вершины, которая была определена исторической памятью русской музыкальной культуры в ее секулярном опыте.
Рассудительность и самоуглублённость как свойства личности, проявившиеся уже в раннем возрасте, создали особый стиль его жизни, которая представляется цельным опытом с четкой программой самосовершенствования, которую Танеев, в соответствии со своим представлением об идеале творчества, понимал как постоянное приобретение знаний в овладении вершинами мастерства. В двадцать лет, поставив себе цель, быть пианистом, композитором и образованным человеком, он понимал ее гораздо шире: «Это, в то же время, цель моей жизни, хотя слово “цель” тут совсем не у места. Действительно, слово “цель” предполагает нечто такое, на чём можно остановиться, какой-то предел, тогда как искусство и наука этого предела не имеют…»[183 - Там же. С. 34.]. Беспредельность танеевской цели – это не просто профессиональная «сверхзадача», а искомый идеал творчества, в котором образ совершенства присутствует как непосредственная трансцендирующая возможность разума выходить за положенные самим собой пределы, каждый раз при встрече с новым знанием изменять достигнутое прежним опытом понимание.
Рациональный принцип обоснования иррационального идеала творчества – характерная черта Танеева. Свое творческое кредо композитор сформулирует в атмосфере празднования открытия в Москве памятника А. С. Пушкину, по случаю которого Танеев напишет кантату «Памятник», на первые восемь строк пушкинского стихотворения. Знаменитая речь Ф. М. Достоевского о мировом значении русского поэта, по-видимому, подтолкнет композитора к размышлениям о судьбах русского искусства, о его месте в общеевропейском культурном предании. Призывая отмежёвываться от «хорошенького» и «пикантного», которое, по мнению Танеева, стало целью в искусстве, он приглашает учиться у классиков, беря эталонные образцы профессиональной музыкальной традиции за основание интеллектуально-творческой работы современных композиторов. Главная же эстетическая концепция заключается в «приложении» мысли к истокам русской музыки – народной песне и церковным напевам, что должно, в конечном итоге, способствовать созиданию национального музыкального искусства, так как в музыкально-богослужебной и народно-песенной традиции композитор видит не только интонационный источник, но и выражение единства эстетического и этического смысла творчества. «Начать с элементарных контрапунктических форм, переходить к более сложным, выработать форму русской фуги, а тогда до сложных инструментальных форм один шаг. Европейцам на это понадобилось несколько столетий, нам время значительно сократится»[184 - Там же. С. 52.]. В этой идее «догоняющего развития» русской культуры по отношению к европейской на самом деле заключалось положение о необходимости оформления русской композиторской школы как самобытного феномена мировой культуры. И первым успехом на этом пути стала кантата «Иоанн Дамаскин», посвящённая памяти Н. Г. Рубинштейна, на текст поэмы А. К. Толстого. Не являясь произведением церковным, она вобрала в себя традиции западноевропейской и русской духовной музыки, раскрыв в Танееве музыкального мыслителя-гуманиста.
Две кантаты «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» на стихи А. С. Хомякова создают своеобразную арку в творчестве композитора. Обращаясь к библейским образам, Танеев, который не обладал глубоким церковным мироощущением, трактует религиозную тему в духе высоких философско-этических размышлений о ценностях жизни человека. В настоящих произведениях он утверждает объективный положительный смысл человеческого бытия, тяготея к идее соборности как выражения соборного опыта самой культурной истории человечества, что говорит о духовной зрелости музыканта, обладающего универсальным культурным мышлением. В то же время творчество Танеева выражает и классическую зрелость русской музыкальной культуры, осознающей себя наследницей европейской и национально-музыкальной традиции. Не случайно именно на вершине этого культурного синтеза появление композитора, творчество которого имеет глубокие национальные корни и, прорастая в пласты народной традиции, всегда остается ярко индивидуальным и личностно окрашенным.
Тематизация музыкальной традиции: «русский стиль как эстетическая категория». Имя Сергея Васильевича Рахма нинова (1873–1943) композитора, пианиста, дирижёра, овеянное легендой, стоит в ряду величайших имён в истории мировой музыкальной культуры. «Русский талант» – так можно было бы точнее всего охарактеризовать этого столь щедро одарённого человека. Творчество Рахманинова имеет глубокие национальные корни, прорастая в пласты народной традиции, всегда оставаясь ярко индивидуальным и личностно окрашенным. Для Рахманинова, неразрывно связанного нитями своей души с русской культурой, тема Родины и Художника – певца её, страдающего и любящего, – определяются рано и становятся главным стержнем творческого пути.
С именем Рахманинова связаны два взаимодополняющих философско-эстетических и культурологических концепта, которые по своему происхождению имеют метафорическую природу – «русский стиль» и «русский талант», синонимом которых выступает выражение «русская душа». Именно так можно было бы точнее всего охарактеризовать музыкальный гений Рахманинова. Композитор «безгранично любил все русское: русский народ, русский язык, русскую природу, русское искусство. У него была большая русская душа, полная глубоких и благородных чувств», – пишет в воспоминаниях о Рахманинове Л. Д. Ростовцова[185 - Воспоминания о Рахманинове: в 2 т. Т. 1. М.: Музыка, 1988. С. 250.]. Впечатления детства остались самыми сильными в жизни композитора, связав образ Родины, мира ее природы и культуры с красотой и эстетическим совершенством православного богослужения, что во многом определило содержание его творчества как опыт любящего и созерцающего сердца. В этом смысле характеристика, данная философом И. А. Ильиным русской культуре как культуре созерцающего сердца – непосредственного переживания целостности жизни как звучащего бытия в его предельном трансцендентном измерении – в полной мере раскрывает сущность рахманиновского творчества.
В контексте рассматриваемого нами принципа взаимообусловленности художественного и религиозного опыта показательна история возникновения Прелюдии до-диез минор. Этот сюжет в творческой биографии Рахманинова демонстрирует опыт непосредственного возникновения произведения уже в завершенной (данной) целостности музыкального образа. В полной мере здесь проявляется особенность музыкального дарования композитора, обладавшего не только феноменальным слухом и памятью, но и способностью слышания, интегрирующей разнородные музыкальные впечатления в целостную логико-композиционную структуру. Композитор признавался, что «в один прекрасный день прелюдия просто пришла сама собой, и я её записал. Она явилась с такой силой, что я не мог от неё отделаться, несмотря на все мои усилия»[186 - Цит. по: Соколова О. И. Сергей Васильевич Рахманинов. М.: Музыка, 1987. с. 30; См. также: Рахманинов С. В. Литературное наследие: в 3 т. Т. 1. Воспоминания. Статьи. М.: Советский композитор, 1978. 668 с.].
В небольшой трёхчастной пьесе в свёрнутом, концентрированном виде отражена образно-интонационная природа музыки Рахманинова, где основной эпико-драматический образ колокольного звучания получает сквозное развитие. Скрытая программность произведения заставляла слушателей придумывать сюжеты и задавать вопросы по этому поводу Рахманинову, на что они получали ответ, что композитор написал просто музыку. В этом ответе подчеркнута способность слышания как интегрирующую способность мышления композитора, при которой слышимое переводится в смысл – усваивается как осмысленная интонация-образ, обладающая своей семантикой. Подобное можно сказать и о других творениях Рахманинова, которые, возможно, и содержат внутреннюю сюжетную линию, но литературная основа никогда не довлеет над музыкальной образностью. Обратим внимание: колокольность и мелодика знаменного распева – постоянно присутствующие смысловые единицы музыкальной речи Рахманинова – сами по себе представляют результат длительного исторического опосредствования интонационно-семантической системы музыкального языка. Однако в художественном опыте композитора они являются образом непосредственной целостности восприятия музыкальной традиции, которая усваивается как экзистенциальный опыт, своего рода, способ вхождения в культуру в особой форме жизнепроживания ее событий, имеющих личностный смысл.
Не случайно такой синтез непосредственного и опосредствованного в структуре художественного образа как выражение предельной целостности религиозно-экзистенциального и художественного опыта остается не достижимой вершиной, поскольку в нем ясно различима не только интуиция совершенства, но и воплощение его в идеальном образе Прекрасного, примером чему может служить Второй фортепианный концерт, с его завораживающей красотой звучания, вызвавшей слезы восхищения у С. И. Танеева. Эта особенность, заключающаяся в прямом типе высказывания, отсылает восприятие человека к знакомому ему слуховому опыту и способствует созданию лейттем, центральной из которой в творчестве Рахманинова является тема Родины, создаваемая как эпический, лирический и драматический образ. Так, во Втором концерте она обретает монументальное звучание. Характеризуя ее, Н. К. Метнер напишет: «Каждый раз с первого же колокольного удара чувствуется, как во весь рост поднимается Россия». Основная тема Третьего концерта становится знаковой для всего творчества композитора. В ней соединяется мелодика знаменных распевов и народных лирических протяжных песен. Эта тема словно вырастает из глубин русской культуры и русской души, поётся солистом, а звучит в неслышном хоре соборных голосов, как будто взор скользит по бескрайним просторам и встречает белокаменные храмы, парящие на фоне голубого неба в окружении зелени берёз, прозрачных рек и озёр. В ней нет нарочитой картинности – она есть пейзаж души. Прорыв к Свету – так можно было бы определить драматургическую концепцию Третьего концерта. И Второй, и Третий концерты своим стремлением к торжествующему, победному финалу приближаются к всепобеждающему ликованию – к образу совершенной радости, который связан в самосознании русской культуры с Пасхальным празднеством.
В наследии композитора с точки зрения интересующей проблемы культурного синтеза как основания преемственности творческого опыта необходимо выделить хоровые циклы «Литургия Иоанна Златоуста» (1910) и «Всенощное бдение» (1915). Напевно-полифонический стиль «Литургии» и «Всенощной», явившийся развитием традиций П. И. Чайковского, С. И. Танеева, А. Т. Гречанинова, А. Д. Кастальского, С. В. Смоленского, в строгом смысле слова нельзя назвать церковным. Духовные произведения Рахманинова – это обобщённо-музыкальные полотна, объединённые композиторским замыслом, в которых создаётся образ Света как идеала красоты и добра в трансцендентном значении святости – смыслопорождающего образа для древнерусской традиции. Рахманинов как бы возводит ей памятник – мемориальный храм за пределами древнего исторического предания, во времени вечности культуры, наследующей духовную традицию, видение и слышание которой открывается созерцающему сердцу композитора.
Трагическая потеря Родины обостряет интонации печали и тоски в произведениях последнего периода – «лебединой» трилогии – с характерной для нее темой «Dies irae». В 1934 году появляется Рапсодия на тему Паганини, в 1936 – Третья симфония. В 1940 году Рахманинов завершает работу над «Симфоническими танцами». Эти произведения в полной мере раскрывают философию творчества композитора, погружая слушателя в глубоко сокровенный мир его переживаний и размышлений, окрашенный в трагедийные тона. С точки зрения стилистических экспериментов XX века последние опусы композитора многими современниками воспринимались как традиционалистские. Однако в них Рахманинов проявляет себя человеком культуры XX века с ее трагедией человеческой судьбы как экзистенциа льным опытом самой культуры, балансирующей на грани бытия и небытия. Его чуткий нравственный слух и дарование художника позволяют очень точно проинтонировать содержание эпохи, в которой личной духовной и экзистенциальной катастрофой гениального музыканта стала утрата Родины.
Философский модус русской музыки: эстетический универсализм постклассики. Осознанием трагического разрыва с национальной культурой отмечено и творчество Николая Карловича Метнера (1879–1951), демонстрирующее ретроспективистскую тенденцию, которую можно было бы определить как охранительное новаторство. Его имя уступает по популярности Скрябину и Рахманинову, как и композиторам младшего поколения – Стравинскому и Прокофьеву. Отчасти это объясняется известной камерностью его творчества и некоторым инструментальным «монотематизмом» – из достаточно обширного наследия Метнера произведения для фортепиано составляют две трети написанного им. Объясняется это также и тем, что Николай Метнер, рано сложившийся как композитор, придерживался своего собственного пути в музыке. Он остался вне каких-либо определенных эстетических течений и направлений в музыкальном искусстве, сознательно избегая художественной однозначности своей творческой позиции. В то же время его убеждения отличались устойчивостью и последовательностью. Композитор признавался, что его рождение было несвоевременным, подчеркивая тем самым отличие своего духовного опыта от общих веяний и умонастроений эпохи. «Если мое искусство “интимно”, как ты часто говоришь, то этому так и быть надо! Искусство рождается всегда интимно, и если ему суждено возродиться, то оно должно снова стать интимным… Напоминать об этом людям я и считаю своей обязанностью. И в этом я тверд и железен, как и полагается быть сыну века…», – писал в своем письме брату композитор[187 - Метнер Н. К. Письма. М.: Музыка, 1973. С. 200.].
«Несвоевременность» рождения – это психологическая характеристика экзистенциально проживаемого времени культуры, данная Метнером, и позволяющая зафиксировать важный этап в развитии художественной ситуации в русской культуре, связанный с постклассической культурой. Не случайно И. А. Ильин в своих лекциях о русской культуре поставил творчество Николая Метнера в один ряд с Пушкиным, Достоевским и Толстым, признав законное право называть его классиком, в то же время назвав его и провидцем. Ильин тем самым пытался показать присущий творчеству Метнера принцип новизны как открытия нового горизонта искусства. Стоит прислушаться к оценкам творчества Метнера его современников, признававших в нем талант первой величины. Это сделает образ композитора более понятным и значимым в философско-культурологической перспективе рассматриваемой нами линии преемственности творческого опыта во взаимодействии искусства и религии в истории культуры России. Почему С. В. Рахманинов упорно пропагандировал музыку Метнера, называя его «самым гениальным из всех современных музыкантов», неизменно подчеркивая, что «произведения этого действительно великого композитора… изумительно свежи и современны»[188 - Цит. по: Долинская Е. Николай Метнер. М.: Музыка, 1966. С. 37.]? Очевидно, наследие Метнера требует особой чуткости слухового восприятия, изначально нацеленного на постижение исходной целостности музыкального образа, который, по словам самого композитора, рождается интимно, как экзистенциальный опыт проживания музыкальной идеи. Соответственно, сочинения Метнера предполагают слушателя высокой музыкальной и, шире, художественно-философской культуры. Не случайно Рахманинов заметит, что Метнер – один из «тех редких людей, – как музыкант и человек, – которые выигрывают, тем более чем ближе к ним подходишь. Удел немногих!»[189 - Там же. С. 37.]. Подобное можно сказать и о стиле Метнера-пианиста, кото рый в первую очередь отличался глубоким проникновением в замысел произведения, что создавало впечатление непосредственного рождения музыки. Обладая высокой стилевой культурой, прекрасно владея инструментом, Метнер принадлежал, скорее, не к пианистам-виртуозам, а к «исполнит елям-творцам».
Музыке Метнера нередко отказывали в общительности, теплоте и непосредственности выражения (А. Б. Гольденвейзер). Однако если признать в философско-обобщенном характере многих произведений композитора образ музыкальных созерцаний, то становится понятной интимно-личностная тональность его творчества. Созерцательность – это индивидуальное проявление свойств личности, ее особого общения с миром, целостность которого воспринимается в непосредственной данности образа. Как верно заметит И. А. Ильин, «Своеобразие Метнера состоит, прежде всего в том, что он в своем музыкальном творчестве следует своему внутреннему духовному опыту, полностью доверяясь ему во всем»[190 - Ильин И. А. Собрание сочинений. Т. 6, кн.3; С. 501.]. Пытаясь раскрыть феномен творчества Метнера, философ говорит, что своим внутренним слухом, силою своего субъективного восприятия и переживания мира, композитор «улавливает» объективный характер и содержание внемузыкальный событий: «… содержания этого опыта, являющиеся ему в качестве музыкальных тем, имеют объективную природу, что они щедро наделены своим собственным законом и судьбой, а композитору остается лишь серьезно и внимательно прислушиваться к ним. Его вдохновение есть как раз созерцающее прислушивание, определенное творческое повиновение теме к ее развитию»[191 - Там же. С. 501.].
Упомянутое Ильиным «созерцающее прислушивание» свойственно религиозному типу восприятия мира как целостности Абсолюта в непосредственном опыте его обнаружения. Индивидуальной особенностью творческого опыта Метнера является то, что оно направлено не только в глубины своего духовного мира, но и во вне – к музыкальной традиции как длительной исторической системе опосредствований языка и художественного мышления. Хотя композитор и старался не допускать в свою душу разрушительных «диссонансов» времени, но его музыка удивительным образом передает общую культурную атмосферу, в которой переплетаются и жесткие интонации совсем не идиллической эпохи, и эстетические изыски русской постклассической культуры в смешении модернизма, символизма, позднего романтизма и реализма. Показательно и то, что выросший в культурной атмосфере России композитор, живший ее духом и традициями, не смог вписаться в иную культурную среду, оказавшись в эмиграции. Композитор, который говорил и думал на русском языке, в эмигрантскую пору скитаний признаваясь, что даже чужая речь для него болезненна и невыносима, неоднократно повторял, что его Родина – Россия. Свой русско-европейский стилевой синтез он выразил как в художественных произведениях, так и в работе «Муза и мода» (1935)[192 - См.: Метнер Н. К. Муза и мода: Защита основ музыкального искусства. Paris: YMCA-Press, 1935.], изложив взгляды на язык музыки, ее эстетическую и технологическую природу в виде своеобразного творческого манифеста против модернистских проявлений в ней.
Особая эстетическая позиция Метнера заключается в опоре на классико-романтическое наследие, в избегании неоправданных эффектных художественных средств, по мнению композитора, разрушающих музыкальный смысл. В этом можно видеть характерную для переходного постклассического периода русской культуры черту художественного мышления. Как отмечает российский философ культуры А. Л. Доброхотов, постклассика в своем самосознании «выступает обычно как период рационального использования достижений эпохи и смягчения культурных конфликтов, хотя на деле мы видим, что для этой стадии характерно расслоение элементов, интегрированных классикой»[193 - Доброхотов А. Л. Телеология культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2016. С. 114.].
Авторизация классического комплекса музыкального языка и стилистики с последующим изменением средств художественной выразительности и драматургической логики музыкального произведения связано у Метнера с созданием оригинального жанра сказки, где непосредственная целостность восприятия национальной и европейской традиции с ее мифопоэтическими архетипами опосредствована в образно-композиционной структуре фортепианной миниатюры.