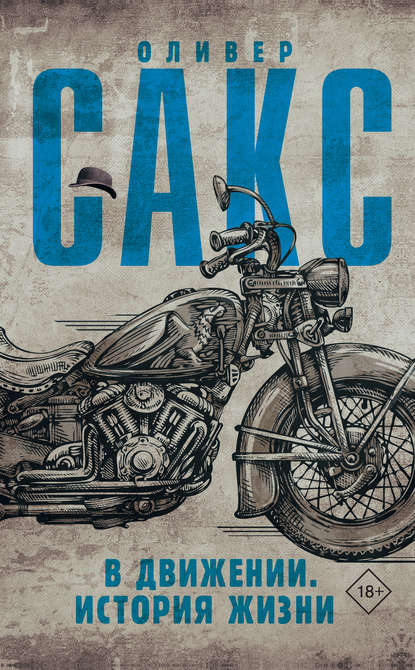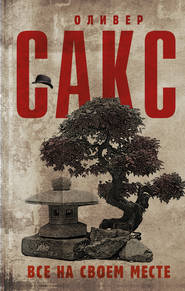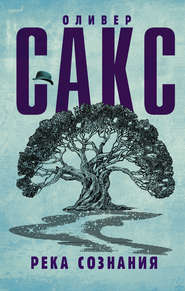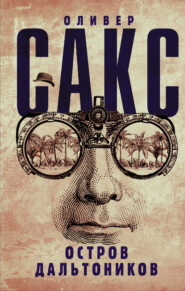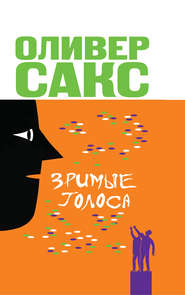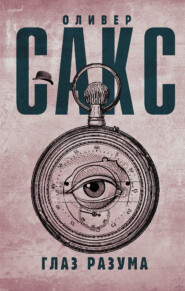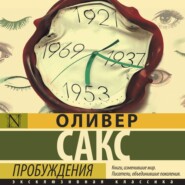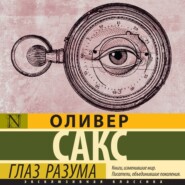По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В движении. История жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У Кремера и Джиллиатта были разные подходы к осмотру больных. Джиллиатт заставлял нас методично, в установленном порядке, не отклоняясь ни на йоту, пройти через все уровни: черепно-мозговые нервы (ни один не должен был остаться без внимания), моторная система, сенсорная система. Ни в коем случае нельзя было перепрыгивать через промежуточные стадии, прицепившись к бросающемуся в глаза симптому, будь то увеличенный зрачок, фасцикуляция или отсутствие брюшного рефлекса[6 - Валентин Лоуг, их коллега из отделения этажом выше, обычно спрашивал молодых врачей, не замечают ли они чего-нибудь странного в его лице, и только со временем мы поняли, что у него проблема с глазами: один из зрачков размерами превосходил другой. Мы постоянно размышляли над причинами этой диспропорции, но Лоуг на этот счет нас так и не просветил.]. Диагностика для Джиллиатта была процессом, следующим точному алгоритму.
Джиллиатт был прежде всего ученым, нейрофизиологом по образованию и темпераменту. Похоже, ему было жаль тратить время на больных (и интернов), хотя, как я позже узнал, он был совершенно другим человеком – доброжелательным и благосклонным – со студентами, которые под его руководством занимались научными исследованиями. Истинные его интересы, которым он следовал со страстью настоящего ученого, лежали в сфере исследования расстройств периферической нервной системы и механизмов мускульной иннервации – в этой области ему со временем было суждено стать мировой величиной.
Кремер, напротив, был радикальным интуитивистом. Я помню, как однажды он поставил диагноз вновь поступившему больному, едва мы вошли в палату. Заметив пациента, который находился от нас на расстоянии тридцати ярдов, он возбужденно схватил меня за руку и прошептал на ухо:
– Синдром яремного отверстия.
Это – чрезвычайно редкое расстройство, и я был поражен, как Кремеру удалось диагностировать его с первого взгляда, да еще на значительном расстоянии.
Когда я смотрел на Кремера и Джиллиатта, я вспоминал отмеченное Паскалем в начале «Мыслей» различие между интуицией и рациональным анализом. Кремер уповал преимущественно на интуицию, он все видел с первого взгляда, и видел иногда гораздо больше, чем мог оформить словами. Джиллиатт был в основном аналитиком, он рассматривал явления последовательно, одно за другим, но видел и предпосылки, и последствия каждого из них до самых потаенных глубин.
Кремер обладал поразительной особенностью к сопереживанию и состраданию. Казалось, что он проникает в самое сознание своих пациентов, постигая интуитивно их страхи и надежды. Наблюдая за их движениями и позами, Кремер напоминал театрального режиссера, который, не сводя глаз с актеров, управляет их игрой. Одна из его работ – моя любимая – называлась «Больной сидит, больной стоит, больной идет». Этот труд показывает, как много он видел и понимал в больном еще до начала неврологического осмотра, до того, как больной открывал рот и начинал говорить.
Принимая по пятницам амбулаторных больных, Кремер мог за день пропустить до тридцати пациентов, но каждому из них было гарантировано его полное внимание, понимание и сочувствие. Пациенты души в нем не чаяли и часто говорили о его доброте и о том, что само его присутствие оказывает целебный эффект.
Даже когда его интерны, после завершения курса, отправлялись на новые места работы, Кремер сохранял к ним интерес и участвовал в их жизни и карьере. Мне он посоветовал поехать в Америку, дал кое-какие наставления, а спустя двадцать пять лет, прочитав мою книжку «Нога как точка опоры», написал мне умное, содержательное письмо[7 - Кремер писал: «Меня попросили посмотреть загадочного пациента в кардиологическом отделении. У него была фибрилляция предсердия, после чего в результате эмболии развился паралич левой половины тела. Меня попросили его посмотреть, потому что каждую ночь он падал с кровати, чему кардиологи не могли найти объяснения. Когда я спросил больного, что с ним происходит ночью, он совершенно открыто объяснил мне следующее: стоит ему проснуться среди ночи, как он сразу же обнаруживает рядом с собой в постели чью-то мертвую, холодную, волосатую ногу; смириться с этим он не может, а потому, используя оставшиеся здоровыми конечности, выбрасывает эту ногу из постели; правда, за этой ногой почему-то следует и все остальное, что лежит на кровати. Этот пациент явил собой прекрасный пример того, как парализованный больной теряет ощущение, что пострадавший член принадлежит именно ему, но, что интересно, мне не удалось узнать у него, принадлежит ли ему правая нога, потому что он был слишком озабочен левой, чужой, как он полагал». Я процитировал этот фрагмент письма Кремера, когда мне довелось описывать сходный случай (глава «Человек, который падал с кровати») в книге «Человек, который принял жену за шляпу».].
Контактов с Джиллиаттом у меня было меньше – я думаю, мы в равной мере оба страдали от застенчивости, – но он написал мне, когда в 1973 году вышли мои «Пробуждения», и пригласил меня посетить его на Куинз-сквер. Теперь он не казался таким страшным, и в нем появились интеллектуальная и эмоциональная теплота, о наличии которых я и не подозревал. На следующий год он вновь пригласил меня, чтобы показать документальный фильм про моих пациентов из «Пробуждений». Я расстроился, когда Джиллиатт умер от рака, – ведь он был так молод и столь продуктивен как ученый! Тяжело я воспринял и несчастье, случившееся с Кремером, когда у этого общительного человека, который так любил поболтать и продолжал видеться со своими больными, уже будучи «в отставке», после удара развилась афазия. Оба они оказали на меня влияние – несомненно, положительное, но в разном ключе: Кремер научил меня наблюдательности и искусству интуиции, Джиллиатт – всегда думать о вовлеченных в процесс болезни физиологических механизмах. Сейчас, по прошествии пятидесяти лет, я вспоминаю их с любовью и благодарностью.
Мои занятия на подготовительном отделении в Оксфорде, где я изучал анатомию и физиологию, нисколько не подготовили меня к реальной медицине. Для меня оказалось совершенно новым то, что делают настоящие врачи: наблюдают пациентов, слушают их, пытаются проникнуть в их прошлый опыт (или по крайней мере представить его) и будущее, чувствуют озабоченность их судьбой, несут за них ответственность. Больные были реальными, иногда несдержанными индивидами с невымышленными проблемами. Часто больные стояли перед проблемой выбора, причем очень серьезного. И дело необязательно касалось диагноза и лечения, перед ними возникали и более существенные вопросы: стоит ли, например, жить в существующих обстоятельствах, при доступном им качестве жизни?
Все это обрушилось на меня, когда я был интерном в Мидлсексе и к нам в терапевтическое отделение со странными болями в ногах был доставлен молодой человек по имени Джошуа, спортсмен и пловец. На основе анализа крови был поставлен предварительный диагноз, но, пока ожидались прочие результаты, молодого человека на выходные отпустили домой. Вечером в субботу он был на вечеринке с толпой молодежи, среди которой были и студенты-медики, и один из них спросил, почему Джошуа положили в больницу. Тот ответил, что не знает причины, и, сказав, что ему дали пить таблетки, показал их спросившему. Тот, увидев этикетку с надписью «6-М» (6-меркатопурин), выпалил:
– Господи, да у тебя лейкемия!
Когда в понедельник Джошуа вернулся в больницу, он был почти в отчаянии. Молодой человек принялся спрашивать, насколько определенным был его диагноз, может ли помочь лечение и что вообще его ждет. Был сделан анализ костного мозга, и диагноз подтвердился. Прием медикаментов, сказали Джошуа, даст ему некое дополнительное время, но и в этом случае болезнь будет быстро прогрессировать, так что в течение года, а то и раньше он умрет.
Днем я увидел, как Джошуа карабкается на перила балкона – палата была на третьем этаже. Я бросился к нему и стащил его с перил, бормоча что-то по поводу того, что и в таких условиях нужно уметь жить. Нехотя – решимость его прошла – Джошуа вернулся в палату.
Странные боли становились все сильнее, и теперь от них страдали не только ноги, но также руки и все туловище. Становилось ясно, что боль вызывают лейкемические инфильтраты в тех местах, где афферентные нервы подходят к спинному мозгу. Обезболивающие не помогали, хотя Джошуа прописали сильнейшие опиаты – и в инъекциях, и перорально, – а потом и героин. От боли он начал кричать и днем, и ночью, и на этом этапе единственным спасением была только закись азота. Но когда Джошуа отходил от анестезии, он вновь принимался кричать.
– Не нужно вам было тогда меня останавливать, – сказал он мне. – Хотя, наверное, у вас не было выхода.
По-прежнему мучаясь от невыносимой боли, Джошуа через несколько дней умер.
Непросто приходилось гомосексуалистам в Лондоне 1950-х годов. Такого рода занятия, если человека поймают, могли привести к тяжелым наказаниям – тюремному заключению или, как в случае с Аланом Тьюрингом, принудительной химической кастрации (ему ввели эстроген). Отношение к гомосексуалистам в обществе было таким же жестоким, как и отношение к ним законодателей. Геям было трудно встречаться; существовало несколько особых клубов и баров, но эти заведения находились под постоянным присмотром полиции. Везде шныряли агенты-провокаторы, особенно в общественных парках и туалетах; этих людей специально учили, как соблазнять доверчивых или неосторожных, а потом прижимать их с помощью закона к ногтю.
Хотя я по мере возможности и посещал такие «открытые» города, как Амстердам, но искать сексуального партнера в Лондоне не пытался, тем более что жил дома, под неусыпным присмотром родителей.
Но в 1959 году, когда я проходил интернатуру в Мидлсексе, я был относительно свободен. Мне нужно было только спуститься по Шарлотт-стрит и пересечь Оксфорд-стрит, чтобы оказаться в Сохо. Немного дальше по Фрит-стрит, и я оказывался на Олд-Комптон-стрит, где можно было снять или купить все что угодно. Здесь, у Колмана, я покупал свои любимые гаванские сигары: «торпеда» – марки, названной в честь Симона Боливара, – могла дымить целый вечер, и по особым случаям я себя этим баловал. Был здесь и магазинчик деликатесов, где продавался маковый торт – такой приторно-сладкий, такой сочный, какого я в жизни не пробовал. А рядом располагалась маленькая кондитерская, где на полках лежали газеты, а на оконном стекле размещались объявления сексуального характера. Объявления были осторожно двусмысленными (иное было бы слишком опасно), но от понимающего человека основной смысл не ускользал.
Одно такое было от молодого человека, который писал, что любит мотоциклы и всякие байкерские аксессуары. Он дал свое первое имя, Бад, и оставил телефонный номер. Я не осмелился задержаться около объявления, тем более записать телефон, но фотографическая память, которой я тогда располагал, мгновенно его зафиксировала. Раньше я никогда не отзывался на подобные объявления и даже в мыслях такого не держал, но теперь, после годичного воздержания (в Амстердаме я был в декабре прошлого года), я решился позвонить этому загадочному Баду.
С максимальной осторожностью мы поболтали по телефону – в основном о мотоциклах. У Бада была «Золотая звезда» от Бирмингемской оружейной компании, большой одноцилиндровый мотоцикл с двигателем в пятьсот кубов и скошенным вниз рулем, а у меня – мой шестисоткубовый «нортон-доминатор». Мы решили встретиться в байкерском кафе и вместе покататься. Узнаем же мы друг друга по мотоциклам и нарядам: кожаные куртки, кожаные брюки, кожаные ботинки и перчатки.
Мы встретились, пожали руки, полюбовались мотоциклами, а затем отправились на прогулку вокруг Южного Лондона. Родившийся и выросший в Северном Лондоне, я плохо знал южную часть города, но Бад уверенно вел меня по незнакомой местности. Мне кажется, я выглядел живописно: рыцарь дорог, верхом на своем мотоскакуне, облаченный в черное.
Потом мы отправились к нему домой, в Патни, обедать. У него была довольно пустая квартирка; книг было мало, зато повсюду лежали мотоциклетные журналы и всякий байкерский хлам. По стенам висели фотографии мотоциклов и мотоциклистов, а также (чего я никак не ожидал) замечательные подводные фотографии, которые он сделал сам, – помимо мотоциклов, он обожал плавание с аквалангом. Я же начал увлекаться аквалангом еще в 1956 году, когда был на Красном море; таким образом, оказалось, что мы с Бадом разделяем еще одно увлечение (в 1950-е годы довольно экзотическое). У него были и разнообразные аксессуары для плавания; это были годы, когда никто еще не слышал про «мокрые» гидрокостюмы и неопрен, а все пользовались «сухими» костюмами из тяжелой резины.
Мы пили пиво, и вдруг, совершенно неожиданно, Бад сказал:
– Пойдем в постель.
Мы даже не попытались узнать друг друга получше. Я ничего не знал о Баде, его работе, не знал даже его полного имени; обо мне он знал так же мало. Но нам было хорошо известно (на интуитивном уровне и безошибочно точно), чего мы хотели друг от друга, как мы могли бы доставить удовольствие и себе, и другому.
После произошедшего не было нужды говорить, как нам все понравилось и как мы оба захотели увидеться вновь. Правда, я на шесть месяцев уезжал в Бирмингем, в интернатуру по хирургии, но справиться с этой проблемой было просто. В субботу я должен был возвращаться в Лондон, чтобы переночевать с родителями, но приезжал-то я утром и день проводил с Бадом, а на следующий день мы обычно до обеда катались на мотоциклах.
Мне нравились эти поездки – хрустящим воскресным утром, оставив свой мотоцикл на стоянке, я садился позади Бада на заднее сиденье, и, прижавшись друг к другу, мы мчались по дороге, чувствуя себя единым кожаным зверем.
В эту пору мною владело чувство неопределенности: интернатура в июне 1960-го должна была закончиться, и меня должны были призвать в армию (отсрочка была на время учебы в университете и интернатуры).
Свои размышления на этот счет я от Бада скрыл, но в июне написал ему, что девятого июля, в день своего рождения, я уеду из Англии в Канаду и, вероятно, уже не вернусь. Я не думал, что это его сильно расстроит, ведь мы были просто приятелями – как на мотоциклах, так и в постели. О чувствах даже не говорили. Но Бад прислал мне страстный, полный боли ответ; оказывается, получив мое послание, он почувствовал себя настолько одиноким, что разрыдался. Я был озадачен: неужели Бад был влюблен в меня и, покинув его, я разбил его сердце?
Я покидаю гнездо
Еще ребенком, благодаря романам Фенимора Купера и фильмам про ковбоев, я составил романтическое представление об Америке и Канаде. Суровые открытые пространства американского Запада, изображенные в книгах Джона Мьюра и смотревшие на меня с фотографий Энсела Адамса, казалось, обещали свободу, простоту и ясность, которых в Англии, еще не успевшей оправиться после войны, попросту не было.
Когда я учился в Англии на медицинском факультете, мне была предоставлена отсрочка от военной службы, но, как только я покончил с учебой и интернатурой, я обязан был явиться и предстать перед военными властями. Мне не очень нравилась перспектива тянуть армейскую лямку (в отличие от моего брата Марка, которому знание арабского помогло побывать в Тунисе, Киренаике и Северной Африке), а потому я выбрал альтернативу, более для меня привлекательную – трехлетний срок в качестве врача Колониальной службы, с пребыванием в Новой Гвинее. Но сама Колониальная служба «усыхала», и, как раз перед тем, как мне закончить медицинское отделение, ее медицинская составляющая приказала долго жить. К тому же обязательную службу в армии собирались упразднить уже в течение нескольких месяцев после моего призыва.
Потеря привлекательной возможности получить столь экзотический пост в Колониальной службе и одновременно перспектива оказаться одним из последних призывников в армию буквально взбесили меня и стали еще одной причиной того, что я решил уехать из Англии. И вместе с тем я чувствовал, что у меня есть моральное обязательство отслужить в армии. Эти конфликтующие друг с другом мотивы и заставили меня, когда я приехал в Канаду, добровольно поступить на службу в Военно-воздушные силы Канады (меня к тому же буквально гипнотизировала строка Одена о «кожаном смехе» летчика из его «Азбуки пилота»). Служба в Канаде, одной из стран Содружества, могла быть воспринята как эквивалент военной службе на родине – важное обстоятельство, если бы мне пришлось когда-нибудь вернуться в Англию.
Для отъезда имелись и другие причины, как в свое время у моего брата Марка, который за десять лет до этого отправился жить в Австралию. Огромное количество высококвалифицированных мужчин и женщин покинули страну в 1950-е годы (так называемая утечка мозгов), потому что и рабочие места, и университеты в Англии были буквально переполнены (я видел это во время своей интернатуры в Лондоне), а умные и отлично образованные люди годами прозябали на второстепенных ролях, где не могли ни реализовать свою профессиональную свободу, ни принимать ответственные решения. Я надеялся, что в Америке, с ее гораздо более широкими возможностями и менее инертной системой здравоохранения, для меня найдется и место, и интересная работа. Еще одной причиной отъезда для меня, как и для Марка, было ощущение, что в Лондоне скопилось слишком много врачей по фамилии Сакс: моя мать, мой отец, старший брат Дэвид, дядя и три двоюродных брата – все мы боролись за место в уже переполненном специалистами медицинском мире Лондона.
Я прилетел в Монреаль девятого июля, в свой двадцатисемилетний день рождения. Несколько дней я провел у родственников, побывав в Монреальском неврологическом институте и установив контакты с Королевскими ВВС Канады. Там я сказал, что хотел бы быть летчиком, но после того, как я прошел тесты и собеседование, мне сообщили, что мои знания в области физиологии пригодятся в исследовательском подразделении. Высокопоставленный офицер, некий доктор Тейлор, долго со мной беседовал, после чего пригласил меня более тесно пообщаться на выходных, чтобы совместно решить, что мне нужно и на что я могу быть годен. По окончании уикенда доктор Тейлор, отметив некую двусмысленность моей мотивации, заявил:
– У вас несомненные таланты, и мы были бы рады, если бы вы поступили на службу. Но я не уверен в ваших намерениях. Почему бы вам месяца три не попутешествовать, подумать обо всем? Если ваше желание поступить к нам останется неизменным, свяжитесь со мной.
Какое облегчение! Я неожиданно обрел свободу и с легким сердцем решил извлечь из трехмесячного отпуска максимальную пользу. Путь мой лежал через всю Канаду, и, как это обычно со мной бывало, во время путешествия я вел дневник. Домой, родителям в Англию, я писал только короткие письма, а более-менее длинный отчет о своих странствиях сумел написать и отослать только тогда, когда достиг острова Ванкувер. В нем я детальнейшим образом рассказал о том, где побывал и что видел. Пытаясь нарисовать для родителей картину Калгари, что на Диком Западе, я дал волю воображению и теперь сомневаюсь, что реальный Калгари выглядел таким экзотическим местом, как я его изобразил:
«В Калгари только что закончился ежегодный конноспортивный фестиваль, и на его улицах полно ковбоев в джинсах, лосинах и шляпах, низко сдвинутых на лоб. Но в Калгари есть и своих триста тысяч жителей. Город переживает нашествие. Найденная нефть привлекла сюда целые толпы геологов, инвесторов, инженеров. Тихая жизнь Старого Запада была разрушена строительством нефтеперерабатывающих заводов и фабрик, а также офисных зданий и небоскребов… Здесь же и огромные запасы урановой руды, золота, серебра и прочих металлов. В тавернах можно наблюдать, как из рук в руки переходят мешочки с золотым песком, и увидеть местных золотых королей с загорелыми лицами, в грязных комбинезонах».
Затем я возвращался к удовольствиям жизни путешественника:
«В Банф я отправился поездом Канадской тихоокеанской железной дороги, усевшись в обзорном вагоне. Проехав через безграничные ровные прерии, мы добрались до покрытых хвойными породами низких холмов у подножия Скалистых гор, все время поднимаясь вверх. Постепенно воздух становился прохладнее, а горизонтальные линии в картине окружавших нас пейзажей переходили в вертикальные. Холмики становились холмами, холмы – горами, с каждой новой милей все более высокими и зазубренными. Наш поезд, втиснувшийся в долину, казался тщедушным созданием по сравнению со снежными вершинами, окружавшими дорогу. Воздух был столь чист и прозрачен, что можно было видеть находящиеся на расстоянии сотен миль горные пики, в то время как стоящие рядом горы словно парили у нас над головами».
Из Банфа я отправился в самое сердце канадских Скалистых гор. Во время поездки я вел детальный журнал, записи которого позже переработал в очерк, названный мной «Канада: остановка, 1960».
Канада: остановка, 1960
«Вот это скорость! Меньше чем за две недели я проехал расстояние почти в три тысячи миль.
Теперь вокруг меня покой и тишина – такая тишина, какой я в своей жизни еще не слышал. Скоро я снова отправлюсь в путь, и, наверное, мне уже не остановиться.
Я лежу посреди высокогорного альпийского луга, на высоте более восьми тысяч футов над уровнем моря. Вчера я бродил вокруг нашего жилища в компании трех дам-ботаников. Все три худые и крепкотелые, как амазонки, и от них я узнал названия многих цветов.
Здесь среди цветов преобладают дриады, которые уже готовы сбросить семена; подобные гигантским одуванчикам, они словно плывут по воздуху в свете утреннего солнца. Индейская кастиллея, то нежно-кремового, то кроваво-красного цвета. Горный лютик, купальница, валериана, камнеломка; вся как бы изломанная вшивица и блошница дизентерийная (два последних цветка самые красивые, несмотря на имена), редко дающие ягоды арктические малина и земляника; в центре трехлистника земляники – сверкающая капля росы. Похожие на сердечки листья бараньей травы, орхидеи калипсо, лапчатка и водосбор. Ледниковые лилии и альпийская вероника. Некоторые камни покрыты сверкающими лишайниками, которые на расстоянии выглядят как скопления драгоценных камней. Другие же заросли сочной заячьей капустой, и она сладострастно лопается, если на нее надавить пальцем.
Зона высоких деревьев осталась далеко внизу. Зато много кустарников: верба и можжевельник, черника и буйволова ягода; из деревьев же, забравшихся выше зоны лесов, – только лиственница с ее девственно-белым стволом и нежной пушистой листвой.
Джиллиатт был прежде всего ученым, нейрофизиологом по образованию и темпераменту. Похоже, ему было жаль тратить время на больных (и интернов), хотя, как я позже узнал, он был совершенно другим человеком – доброжелательным и благосклонным – со студентами, которые под его руководством занимались научными исследованиями. Истинные его интересы, которым он следовал со страстью настоящего ученого, лежали в сфере исследования расстройств периферической нервной системы и механизмов мускульной иннервации – в этой области ему со временем было суждено стать мировой величиной.
Кремер, напротив, был радикальным интуитивистом. Я помню, как однажды он поставил диагноз вновь поступившему больному, едва мы вошли в палату. Заметив пациента, который находился от нас на расстоянии тридцати ярдов, он возбужденно схватил меня за руку и прошептал на ухо:
– Синдром яремного отверстия.
Это – чрезвычайно редкое расстройство, и я был поражен, как Кремеру удалось диагностировать его с первого взгляда, да еще на значительном расстоянии.
Когда я смотрел на Кремера и Джиллиатта, я вспоминал отмеченное Паскалем в начале «Мыслей» различие между интуицией и рациональным анализом. Кремер уповал преимущественно на интуицию, он все видел с первого взгляда, и видел иногда гораздо больше, чем мог оформить словами. Джиллиатт был в основном аналитиком, он рассматривал явления последовательно, одно за другим, но видел и предпосылки, и последствия каждого из них до самых потаенных глубин.
Кремер обладал поразительной особенностью к сопереживанию и состраданию. Казалось, что он проникает в самое сознание своих пациентов, постигая интуитивно их страхи и надежды. Наблюдая за их движениями и позами, Кремер напоминал театрального режиссера, который, не сводя глаз с актеров, управляет их игрой. Одна из его работ – моя любимая – называлась «Больной сидит, больной стоит, больной идет». Этот труд показывает, как много он видел и понимал в больном еще до начала неврологического осмотра, до того, как больной открывал рот и начинал говорить.
Принимая по пятницам амбулаторных больных, Кремер мог за день пропустить до тридцати пациентов, но каждому из них было гарантировано его полное внимание, понимание и сочувствие. Пациенты души в нем не чаяли и часто говорили о его доброте и о том, что само его присутствие оказывает целебный эффект.
Даже когда его интерны, после завершения курса, отправлялись на новые места работы, Кремер сохранял к ним интерес и участвовал в их жизни и карьере. Мне он посоветовал поехать в Америку, дал кое-какие наставления, а спустя двадцать пять лет, прочитав мою книжку «Нога как точка опоры», написал мне умное, содержательное письмо[7 - Кремер писал: «Меня попросили посмотреть загадочного пациента в кардиологическом отделении. У него была фибрилляция предсердия, после чего в результате эмболии развился паралич левой половины тела. Меня попросили его посмотреть, потому что каждую ночь он падал с кровати, чему кардиологи не могли найти объяснения. Когда я спросил больного, что с ним происходит ночью, он совершенно открыто объяснил мне следующее: стоит ему проснуться среди ночи, как он сразу же обнаруживает рядом с собой в постели чью-то мертвую, холодную, волосатую ногу; смириться с этим он не может, а потому, используя оставшиеся здоровыми конечности, выбрасывает эту ногу из постели; правда, за этой ногой почему-то следует и все остальное, что лежит на кровати. Этот пациент явил собой прекрасный пример того, как парализованный больной теряет ощущение, что пострадавший член принадлежит именно ему, но, что интересно, мне не удалось узнать у него, принадлежит ли ему правая нога, потому что он был слишком озабочен левой, чужой, как он полагал». Я процитировал этот фрагмент письма Кремера, когда мне довелось описывать сходный случай (глава «Человек, который падал с кровати») в книге «Человек, который принял жену за шляпу».].
Контактов с Джиллиаттом у меня было меньше – я думаю, мы в равной мере оба страдали от застенчивости, – но он написал мне, когда в 1973 году вышли мои «Пробуждения», и пригласил меня посетить его на Куинз-сквер. Теперь он не казался таким страшным, и в нем появились интеллектуальная и эмоциональная теплота, о наличии которых я и не подозревал. На следующий год он вновь пригласил меня, чтобы показать документальный фильм про моих пациентов из «Пробуждений». Я расстроился, когда Джиллиатт умер от рака, – ведь он был так молод и столь продуктивен как ученый! Тяжело я воспринял и несчастье, случившееся с Кремером, когда у этого общительного человека, который так любил поболтать и продолжал видеться со своими больными, уже будучи «в отставке», после удара развилась афазия. Оба они оказали на меня влияние – несомненно, положительное, но в разном ключе: Кремер научил меня наблюдательности и искусству интуиции, Джиллиатт – всегда думать о вовлеченных в процесс болезни физиологических механизмах. Сейчас, по прошествии пятидесяти лет, я вспоминаю их с любовью и благодарностью.
Мои занятия на подготовительном отделении в Оксфорде, где я изучал анатомию и физиологию, нисколько не подготовили меня к реальной медицине. Для меня оказалось совершенно новым то, что делают настоящие врачи: наблюдают пациентов, слушают их, пытаются проникнуть в их прошлый опыт (или по крайней мере представить его) и будущее, чувствуют озабоченность их судьбой, несут за них ответственность. Больные были реальными, иногда несдержанными индивидами с невымышленными проблемами. Часто больные стояли перед проблемой выбора, причем очень серьезного. И дело необязательно касалось диагноза и лечения, перед ними возникали и более существенные вопросы: стоит ли, например, жить в существующих обстоятельствах, при доступном им качестве жизни?
Все это обрушилось на меня, когда я был интерном в Мидлсексе и к нам в терапевтическое отделение со странными болями в ногах был доставлен молодой человек по имени Джошуа, спортсмен и пловец. На основе анализа крови был поставлен предварительный диагноз, но, пока ожидались прочие результаты, молодого человека на выходные отпустили домой. Вечером в субботу он был на вечеринке с толпой молодежи, среди которой были и студенты-медики, и один из них спросил, почему Джошуа положили в больницу. Тот ответил, что не знает причины, и, сказав, что ему дали пить таблетки, показал их спросившему. Тот, увидев этикетку с надписью «6-М» (6-меркатопурин), выпалил:
– Господи, да у тебя лейкемия!
Когда в понедельник Джошуа вернулся в больницу, он был почти в отчаянии. Молодой человек принялся спрашивать, насколько определенным был его диагноз, может ли помочь лечение и что вообще его ждет. Был сделан анализ костного мозга, и диагноз подтвердился. Прием медикаментов, сказали Джошуа, даст ему некое дополнительное время, но и в этом случае болезнь будет быстро прогрессировать, так что в течение года, а то и раньше он умрет.
Днем я увидел, как Джошуа карабкается на перила балкона – палата была на третьем этаже. Я бросился к нему и стащил его с перил, бормоча что-то по поводу того, что и в таких условиях нужно уметь жить. Нехотя – решимость его прошла – Джошуа вернулся в палату.
Странные боли становились все сильнее, и теперь от них страдали не только ноги, но также руки и все туловище. Становилось ясно, что боль вызывают лейкемические инфильтраты в тех местах, где афферентные нервы подходят к спинному мозгу. Обезболивающие не помогали, хотя Джошуа прописали сильнейшие опиаты – и в инъекциях, и перорально, – а потом и героин. От боли он начал кричать и днем, и ночью, и на этом этапе единственным спасением была только закись азота. Но когда Джошуа отходил от анестезии, он вновь принимался кричать.
– Не нужно вам было тогда меня останавливать, – сказал он мне. – Хотя, наверное, у вас не было выхода.
По-прежнему мучаясь от невыносимой боли, Джошуа через несколько дней умер.
Непросто приходилось гомосексуалистам в Лондоне 1950-х годов. Такого рода занятия, если человека поймают, могли привести к тяжелым наказаниям – тюремному заключению или, как в случае с Аланом Тьюрингом, принудительной химической кастрации (ему ввели эстроген). Отношение к гомосексуалистам в обществе было таким же жестоким, как и отношение к ним законодателей. Геям было трудно встречаться; существовало несколько особых клубов и баров, но эти заведения находились под постоянным присмотром полиции. Везде шныряли агенты-провокаторы, особенно в общественных парках и туалетах; этих людей специально учили, как соблазнять доверчивых или неосторожных, а потом прижимать их с помощью закона к ногтю.
Хотя я по мере возможности и посещал такие «открытые» города, как Амстердам, но искать сексуального партнера в Лондоне не пытался, тем более что жил дома, под неусыпным присмотром родителей.
Но в 1959 году, когда я проходил интернатуру в Мидлсексе, я был относительно свободен. Мне нужно было только спуститься по Шарлотт-стрит и пересечь Оксфорд-стрит, чтобы оказаться в Сохо. Немного дальше по Фрит-стрит, и я оказывался на Олд-Комптон-стрит, где можно было снять или купить все что угодно. Здесь, у Колмана, я покупал свои любимые гаванские сигары: «торпеда» – марки, названной в честь Симона Боливара, – могла дымить целый вечер, и по особым случаям я себя этим баловал. Был здесь и магазинчик деликатесов, где продавался маковый торт – такой приторно-сладкий, такой сочный, какого я в жизни не пробовал. А рядом располагалась маленькая кондитерская, где на полках лежали газеты, а на оконном стекле размещались объявления сексуального характера. Объявления были осторожно двусмысленными (иное было бы слишком опасно), но от понимающего человека основной смысл не ускользал.
Одно такое было от молодого человека, который писал, что любит мотоциклы и всякие байкерские аксессуары. Он дал свое первое имя, Бад, и оставил телефонный номер. Я не осмелился задержаться около объявления, тем более записать телефон, но фотографическая память, которой я тогда располагал, мгновенно его зафиксировала. Раньше я никогда не отзывался на подобные объявления и даже в мыслях такого не держал, но теперь, после годичного воздержания (в Амстердаме я был в декабре прошлого года), я решился позвонить этому загадочному Баду.
С максимальной осторожностью мы поболтали по телефону – в основном о мотоциклах. У Бада была «Золотая звезда» от Бирмингемской оружейной компании, большой одноцилиндровый мотоцикл с двигателем в пятьсот кубов и скошенным вниз рулем, а у меня – мой шестисоткубовый «нортон-доминатор». Мы решили встретиться в байкерском кафе и вместе покататься. Узнаем же мы друг друга по мотоциклам и нарядам: кожаные куртки, кожаные брюки, кожаные ботинки и перчатки.
Мы встретились, пожали руки, полюбовались мотоциклами, а затем отправились на прогулку вокруг Южного Лондона. Родившийся и выросший в Северном Лондоне, я плохо знал южную часть города, но Бад уверенно вел меня по незнакомой местности. Мне кажется, я выглядел живописно: рыцарь дорог, верхом на своем мотоскакуне, облаченный в черное.
Потом мы отправились к нему домой, в Патни, обедать. У него была довольно пустая квартирка; книг было мало, зато повсюду лежали мотоциклетные журналы и всякий байкерский хлам. По стенам висели фотографии мотоциклов и мотоциклистов, а также (чего я никак не ожидал) замечательные подводные фотографии, которые он сделал сам, – помимо мотоциклов, он обожал плавание с аквалангом. Я же начал увлекаться аквалангом еще в 1956 году, когда был на Красном море; таким образом, оказалось, что мы с Бадом разделяем еще одно увлечение (в 1950-е годы довольно экзотическое). У него были и разнообразные аксессуары для плавания; это были годы, когда никто еще не слышал про «мокрые» гидрокостюмы и неопрен, а все пользовались «сухими» костюмами из тяжелой резины.
Мы пили пиво, и вдруг, совершенно неожиданно, Бад сказал:
– Пойдем в постель.
Мы даже не попытались узнать друг друга получше. Я ничего не знал о Баде, его работе, не знал даже его полного имени; обо мне он знал так же мало. Но нам было хорошо известно (на интуитивном уровне и безошибочно точно), чего мы хотели друг от друга, как мы могли бы доставить удовольствие и себе, и другому.
После произошедшего не было нужды говорить, как нам все понравилось и как мы оба захотели увидеться вновь. Правда, я на шесть месяцев уезжал в Бирмингем, в интернатуру по хирургии, но справиться с этой проблемой было просто. В субботу я должен был возвращаться в Лондон, чтобы переночевать с родителями, но приезжал-то я утром и день проводил с Бадом, а на следующий день мы обычно до обеда катались на мотоциклах.
Мне нравились эти поездки – хрустящим воскресным утром, оставив свой мотоцикл на стоянке, я садился позади Бада на заднее сиденье, и, прижавшись друг к другу, мы мчались по дороге, чувствуя себя единым кожаным зверем.
В эту пору мною владело чувство неопределенности: интернатура в июне 1960-го должна была закончиться, и меня должны были призвать в армию (отсрочка была на время учебы в университете и интернатуры).
Свои размышления на этот счет я от Бада скрыл, но в июне написал ему, что девятого июля, в день своего рождения, я уеду из Англии в Канаду и, вероятно, уже не вернусь. Я не думал, что это его сильно расстроит, ведь мы были просто приятелями – как на мотоциклах, так и в постели. О чувствах даже не говорили. Но Бад прислал мне страстный, полный боли ответ; оказывается, получив мое послание, он почувствовал себя настолько одиноким, что разрыдался. Я был озадачен: неужели Бад был влюблен в меня и, покинув его, я разбил его сердце?
Я покидаю гнездо
Еще ребенком, благодаря романам Фенимора Купера и фильмам про ковбоев, я составил романтическое представление об Америке и Канаде. Суровые открытые пространства американского Запада, изображенные в книгах Джона Мьюра и смотревшие на меня с фотографий Энсела Адамса, казалось, обещали свободу, простоту и ясность, которых в Англии, еще не успевшей оправиться после войны, попросту не было.
Когда я учился в Англии на медицинском факультете, мне была предоставлена отсрочка от военной службы, но, как только я покончил с учебой и интернатурой, я обязан был явиться и предстать перед военными властями. Мне не очень нравилась перспектива тянуть армейскую лямку (в отличие от моего брата Марка, которому знание арабского помогло побывать в Тунисе, Киренаике и Северной Африке), а потому я выбрал альтернативу, более для меня привлекательную – трехлетний срок в качестве врача Колониальной службы, с пребыванием в Новой Гвинее. Но сама Колониальная служба «усыхала», и, как раз перед тем, как мне закончить медицинское отделение, ее медицинская составляющая приказала долго жить. К тому же обязательную службу в армии собирались упразднить уже в течение нескольких месяцев после моего призыва.
Потеря привлекательной возможности получить столь экзотический пост в Колониальной службе и одновременно перспектива оказаться одним из последних призывников в армию буквально взбесили меня и стали еще одной причиной того, что я решил уехать из Англии. И вместе с тем я чувствовал, что у меня есть моральное обязательство отслужить в армии. Эти конфликтующие друг с другом мотивы и заставили меня, когда я приехал в Канаду, добровольно поступить на службу в Военно-воздушные силы Канады (меня к тому же буквально гипнотизировала строка Одена о «кожаном смехе» летчика из его «Азбуки пилота»). Служба в Канаде, одной из стран Содружества, могла быть воспринята как эквивалент военной службе на родине – важное обстоятельство, если бы мне пришлось когда-нибудь вернуться в Англию.
Для отъезда имелись и другие причины, как в свое время у моего брата Марка, который за десять лет до этого отправился жить в Австралию. Огромное количество высококвалифицированных мужчин и женщин покинули страну в 1950-е годы (так называемая утечка мозгов), потому что и рабочие места, и университеты в Англии были буквально переполнены (я видел это во время своей интернатуры в Лондоне), а умные и отлично образованные люди годами прозябали на второстепенных ролях, где не могли ни реализовать свою профессиональную свободу, ни принимать ответственные решения. Я надеялся, что в Америке, с ее гораздо более широкими возможностями и менее инертной системой здравоохранения, для меня найдется и место, и интересная работа. Еще одной причиной отъезда для меня, как и для Марка, было ощущение, что в Лондоне скопилось слишком много врачей по фамилии Сакс: моя мать, мой отец, старший брат Дэвид, дядя и три двоюродных брата – все мы боролись за место в уже переполненном специалистами медицинском мире Лондона.
Я прилетел в Монреаль девятого июля, в свой двадцатисемилетний день рождения. Несколько дней я провел у родственников, побывав в Монреальском неврологическом институте и установив контакты с Королевскими ВВС Канады. Там я сказал, что хотел бы быть летчиком, но после того, как я прошел тесты и собеседование, мне сообщили, что мои знания в области физиологии пригодятся в исследовательском подразделении. Высокопоставленный офицер, некий доктор Тейлор, долго со мной беседовал, после чего пригласил меня более тесно пообщаться на выходных, чтобы совместно решить, что мне нужно и на что я могу быть годен. По окончании уикенда доктор Тейлор, отметив некую двусмысленность моей мотивации, заявил:
– У вас несомненные таланты, и мы были бы рады, если бы вы поступили на службу. Но я не уверен в ваших намерениях. Почему бы вам месяца три не попутешествовать, подумать обо всем? Если ваше желание поступить к нам останется неизменным, свяжитесь со мной.
Какое облегчение! Я неожиданно обрел свободу и с легким сердцем решил извлечь из трехмесячного отпуска максимальную пользу. Путь мой лежал через всю Канаду, и, как это обычно со мной бывало, во время путешествия я вел дневник. Домой, родителям в Англию, я писал только короткие письма, а более-менее длинный отчет о своих странствиях сумел написать и отослать только тогда, когда достиг острова Ванкувер. В нем я детальнейшим образом рассказал о том, где побывал и что видел. Пытаясь нарисовать для родителей картину Калгари, что на Диком Западе, я дал волю воображению и теперь сомневаюсь, что реальный Калгари выглядел таким экзотическим местом, как я его изобразил:
«В Калгари только что закончился ежегодный конноспортивный фестиваль, и на его улицах полно ковбоев в джинсах, лосинах и шляпах, низко сдвинутых на лоб. Но в Калгари есть и своих триста тысяч жителей. Город переживает нашествие. Найденная нефть привлекла сюда целые толпы геологов, инвесторов, инженеров. Тихая жизнь Старого Запада была разрушена строительством нефтеперерабатывающих заводов и фабрик, а также офисных зданий и небоскребов… Здесь же и огромные запасы урановой руды, золота, серебра и прочих металлов. В тавернах можно наблюдать, как из рук в руки переходят мешочки с золотым песком, и увидеть местных золотых королей с загорелыми лицами, в грязных комбинезонах».
Затем я возвращался к удовольствиям жизни путешественника:
«В Банф я отправился поездом Канадской тихоокеанской железной дороги, усевшись в обзорном вагоне. Проехав через безграничные ровные прерии, мы добрались до покрытых хвойными породами низких холмов у подножия Скалистых гор, все время поднимаясь вверх. Постепенно воздух становился прохладнее, а горизонтальные линии в картине окружавших нас пейзажей переходили в вертикальные. Холмики становились холмами, холмы – горами, с каждой новой милей все более высокими и зазубренными. Наш поезд, втиснувшийся в долину, казался тщедушным созданием по сравнению со снежными вершинами, окружавшими дорогу. Воздух был столь чист и прозрачен, что можно было видеть находящиеся на расстоянии сотен миль горные пики, в то время как стоящие рядом горы словно парили у нас над головами».
Из Банфа я отправился в самое сердце канадских Скалистых гор. Во время поездки я вел детальный журнал, записи которого позже переработал в очерк, названный мной «Канада: остановка, 1960».
Канада: остановка, 1960
«Вот это скорость! Меньше чем за две недели я проехал расстояние почти в три тысячи миль.
Теперь вокруг меня покой и тишина – такая тишина, какой я в своей жизни еще не слышал. Скоро я снова отправлюсь в путь, и, наверное, мне уже не остановиться.
Я лежу посреди высокогорного альпийского луга, на высоте более восьми тысяч футов над уровнем моря. Вчера я бродил вокруг нашего жилища в компании трех дам-ботаников. Все три худые и крепкотелые, как амазонки, и от них я узнал названия многих цветов.
Здесь среди цветов преобладают дриады, которые уже готовы сбросить семена; подобные гигантским одуванчикам, они словно плывут по воздуху в свете утреннего солнца. Индейская кастиллея, то нежно-кремового, то кроваво-красного цвета. Горный лютик, купальница, валериана, камнеломка; вся как бы изломанная вшивица и блошница дизентерийная (два последних цветка самые красивые, несмотря на имена), редко дающие ягоды арктические малина и земляника; в центре трехлистника земляники – сверкающая капля росы. Похожие на сердечки листья бараньей травы, орхидеи калипсо, лапчатка и водосбор. Ледниковые лилии и альпийская вероника. Некоторые камни покрыты сверкающими лишайниками, которые на расстоянии выглядят как скопления драгоценных камней. Другие же заросли сочной заячьей капустой, и она сладострастно лопается, если на нее надавить пальцем.
Зона высоких деревьев осталась далеко внизу. Зато много кустарников: верба и можжевельник, черника и буйволова ягода; из деревьев же, забравшихся выше зоны лесов, – только лиственница с ее девственно-белым стволом и нежной пушистой листвой.
Другие электронные книги автора Оливер Сакс
Зримые голоса




 4.67
4.67
Глаз разума




 4.67
4.67