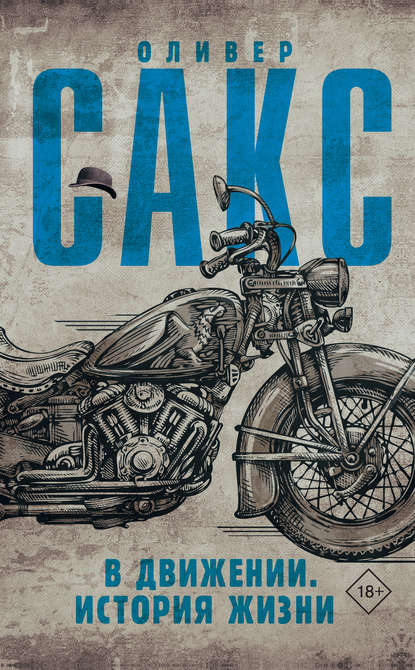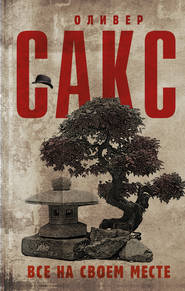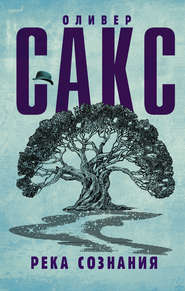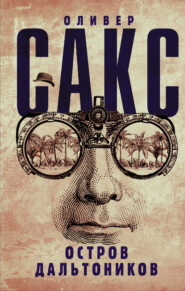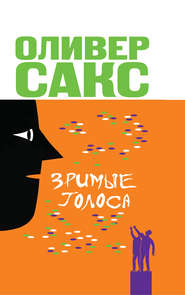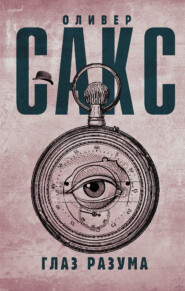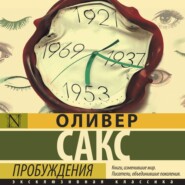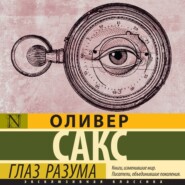По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В движении. История жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В движении. История жизни
Оливер Сакс
Шляпа Оливера Сакса
Оливер Сакс – известный британский невролог, автор ряда популярных книг, переведенных на двадцать языков, две из которых – «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе» – стали международными бестселлерами.
Оливер Сакс рассказал читателям множество удивительных историй своих пациентов, а под конец жизни решился поведать историю собственной жизни, которая поражает воображение ничуть не меньше, чем история человека, который принял жену за шляпу.
История жизни Оливера Сакса – это история трудного взросления неординарного мальчика в удушливой провинциальной британской атмосфере середины прошлого века.
История молодого невролога, не делавшего разницы между понятиями «жизнь» и «наука».
История человека, который смело шел на конфронтацию с научным сообществом, выдвигал смелые теории и ставил на себе рискованные, если не сказать эксцентричные, эксперименты.
История одного из самых известных неврологов и нейропсихологов нашего времени – бесстрашного подвижника науки, незаурядной личности и убежденного гуманиста.
Оливер Сакс
В движении. История жизни
Oliver Sacks
On the Move: Autobiographical Work
© Oliver Sacks, 2015
© Перевод. В. Миловидов, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *
Посвящается Билли
«Жить нужно, гладя вперед, но понять жизнь можно, только оглянувшись назад».
Кьеркегор
Вечное движение
Во время войны, когда я был совсем маленьким мальчиком, меня заточили в частной школе, итак, лишенный возможности наслаждаться хоть малой толикой независимости, я мечтал о свободе и власти, о сверхсвободе и супервласти. Я чувствовал себя свободным лишь по ночам, когда мне снилось, что я летаю и во время конных прогулок по соседней деревне. Мне полюбились гибкая красота и мощь моей лошади; я до сих пор помню, какая радостная легкость сквозила во всех ее движениях, ощущаю ее тепло и исходящий от нее тонкий запах сена.
Но больше всего я любил мотоциклы. До войны у моего отца был мотоцикл от фирмы Альфреда Скотта под названием «белка-летяга» – большой двигатель с водяным охлаждением и резким, пронзительным выхлопом. Мне тоже хотелось иметь мощный мотоцикл! В моем воображении сливались воедино образы мотоциклов, лошадей и самолетов, равно как и образы мотоциклистов, ковбоев и пилотов – эти парни уверенно справлялись со своими обязанностями, ежесекундно рискуя, но торжествуя над опасностью. Моя детская фантазия питалась вестернами и кинофильмами о героических воздушных боях, где, невзирая на опасность, сражались на «харрикейнах» и «спитфайрах» бесстрашные летчики, защищенные от пуль только своими толстыми летными куртками – как защищали себя от опасности кожаными куртками и шлемами храбрые мотоциклисты.
Когда в 1943 году десятилетним подростком я вернулся в Лондон, любимым моим местом стало окно, возле которого я сидел, пытаясь опознать проносящиеся по улице мотоциклы (после войны с бензином уже не было проблем, и мотоцикл стал обычным средством передвижения). Я мог уже различать с дюжину, а то и больше марок: «эй-джей-эс», «триумф», «би-эс-эй», «нортон», «мэтчлесс», «винсент», «велосетт», «ариэль» и «санбим», а также редкие иноземные машины, такие как «БМВ» и «индианс».
В компании двоюродного брата, моего единомышленника, я регулярно наведывался в «Кристал-Палас», посмотреть мотогонки. Часто на попутках я отправлялся на север Уэльса, в Сноудонию, чтобы полазать по скалам, или в Озерный край, поплавать. Иногда меня подхватывал мотоциклист, и тогда, устроившись на заднем сиденье, я с восторгом представлял, как однажды подо мной окажется собственный сияющий, мощный мотоцикл.
Когда мне исполнилось восемнадцать, у меня появился первый мотоцикл – подержанный «бэнтам» Бирмингемской оружейной компании, с маленьким двухтактным двигателем и, как потом оказалось, неисправными тормозами. В первую поездку я отправился на дорожки Риджентс-парка, и мне там решительно повезло (может быть, только чудом я и остался жив): я дал полный газ, и у меня тут же заклинило дроссель, а тормоза оказались настолько никудышными, что не смогли ни остановить, ни хотя бы замедлить движение мотоцикла. Вокруг Риджентс-парка идет кольцевая дорога, и вот я, верхом на мотоцикле, принялся гонять по ней по кругу, неспособный остановиться. Я кричал пешеходам, чтобы предупредить их о своем приближении, и, после того как сделал два или три полных круга, все уже заранее уступали мне дорогу и, когда я вновь проносился мимо, кричали слова одобрения и поддержки. Я знал, что в конце концов, когда кончится горючее, мотоцикл остановится. После дюжины кругов, сделанных мною вокруг парка, это и произошло: двигатель вдруг зафыркал, коротко всхлипнул и заглох.
Конечно, первым и главным противником того, чтобы я ездил на мотоцикле, была моя мать. Я был готов к этому, но больше всего меня удивило то, что против моего увлечения выступил и отец, который раньше сам гонял на мотоцикле. Поначалу они попытались отвлечь меня от мотоциклов, купив мне маленькую машину «стандард» 1934 года, которая едва делала сорок миль в час. Я быстро возненавидел малышку и однажды, поддавшись импульсу, продал, использовав вырученные деньги на покупку «бэнтама». Теперь я мог объяснить родителям, что хилый автомобиль или мотоцикл вполне могут угробить владельца, поскольку у них не хватит мощности, чтобы вытащить его из беды, и что гораздо безопаснее иметь большую мощную машину. Родители с неохотой, но согласились и субсидировали меня на покупку «нортона».
На своем первом «нортоне», машине с двигателем в двести пятьдесят кубиков, я дважды едва не попал в аварию. В первый раз случилось так, что я подлетел к светофору слишком быстро и, понимая, что ни затормозить, ни свернуть я уже не смогу, рванул наперерез двум движущимся навстречу друг другу потокам машин, каким-то чудом проскользнул, а потом, проехав по инерции еще квартал, припарковался в первом же переулке и потерял сознание.
Второй случай произошел ночью, в дождь, на извилистой сельской дороге. Мчавшаяся навстречу машина, не включившая ближний свет, ослепила меня. Я думал, что лобового столкновения не избежать, но в последний момент успел соскочить с мотоцикла (выражение, слишком вялое для описания потенциально фатального маневра, который тем не менее спас мне жизнь). Мотоцикл полетел в одну сторону (он избежал столкновения с машиной, но был полностью разбит), а я – в другую. К счастью, на мне были шлем, тяжелые башмаки и перчатки, а также кожаная куртка и брюки, так что, хотя меня и протащило ярдов двадцать по поливаемой дождем дороге, я был так хорошо защищен одеждой, что не получил ни царапины.
Родители были шокированы, хотя и рады, что я остался цел, а потому не сильно препятствовали моей покупке еще более мощного мотоцикла – «нортон-доминатора» с движком на шестьсот кубиков. К этому времени я уже закончил Оксфорд и должен был переехать в Бирмингем, чтобы первые шесть месяцев 1960 года работать там в качестве хирурга-практиканта. Совсем недавно было открыто шоссе М1 между Бирмингемом и Лондоном, и я заявил, что с новым мощным мотоциклом смогу каждый уикенд приезжать домой. Ограничения скорости на шоссе не было, и весь маршрут занял бы у меня чуть больше часа.
В Бирмингеме я свел дружбу с группой мотоциклистов и вкусил радость принадлежности обществу единомышленников-энтузиастов; до этого я был гонщиком-одиночкой. Места вокруг Бирмингема были девственно-чисты, и особым удовольствием было для меня проехаться до Стрэтфорда-на-Эйвоне и посмотреть какую-нибудь из идущих там пьес Шекспира.
В июне 1960 года я отправился на остров Мэн, посмотреть ежегодные мотогонки «Турист-Трофи», или, как их еще называют, мотогонки «ТТ». Мне удалось раздобыть нарукавную повязку «Скорой помощи», и, проникнув под ее прикрытием в зону для гонщиков, я смог потереться возле них, послушать разговоры и разглядеть многие детали их спортивного быта. Все это я аккуратно записывал, намереваясь сочинить роман о мотогонщиках, участвующих в состязаниях на острове Мэн. Материала я набрал много, но роман с места так и не сдвинулся[1 - В записной книжке, которую я в то время вел, я зафиксировал планы написания пяти романов (включая один про мотоциклистов), а также воспоминаний о своем «химическом отрочестве». Романов я так и не написал, но спустя сорок пять лет сочинил мемуары о дядюшке Вольфраме.].
В пятидесятые годы на лондонской Северной кольцевой дороге также не было ограничений по скорости, что было крайне заманчиво для тех, кто любит быструю езду. Там же располагалось знаменитое кафе «Туз», настоящий дом родной для мотоциклистов, владельцев мощных машин. «Сделать тонну», то есть сотню миль в час, было минимальной планкой для тех, кто хотел стать членом клуба «Парни-с-тонной-на-спидаке», этого «закрытого» клуба для избранных.
В ту пору довольно большое количество мотоциклов было способно «сделать тонну», особенно если машины были прокачаны, освобождены от лишнего веса (включая выхлопную трубу) и заправлены высокооктановым горючим. Не менее захватывающим делом были гонки на скорость по второстепенным магистралям, и ты запросто мог получить вызов от кого угодно, едва переступив порог кафе. Правда, излишний риск и демонстрация особой храбрости не поощрялись, поскольку на Северной кольцевой и в те времена было более чем оживленное движение.
Я никогда особо не рисковал, но обожал гонки на маленьких дорогах. У моего «домми» с цилиндрами объемом шестьсот кубиков был слегка форсированный двигатель, но и в таком виде он не мог соперничать с тысячекубовым «винсентом», основной машиной членов «закрытого» клуба в кафе «Туз». Однажды я попробовал на нем проехаться, но мне он показался слишком неустойчивым, особенно на малых скоростях, и в этом отношении не шел ни в какое сравнение с моим «нортоном», у которого рама была что «пух» и который на любых скоростях демонстрировал чудеса устойчивости. (Мне было интересно: а нельзя ли к «нортону» подвесить движок от «винсента», и через несколько лет я узнал, что такая модель появилась – «норвинс».) Когда были введены ограничения скорости, «делать тонну» было уже нельзя, мы лишились нашего главного удовольствия, и кафе «Туз» утратило для нас свою прелесть.
Когда мне было двенадцать, мой проницательный классный руководитель написал в своем отчете: «Сакс пойдет далеко, если не уйдет слишком далеко». И в этом-то было все дело. Мальчиком иногда я слишком далеко заходил в своих химических экспериментах, наполняя весь дом ядовитыми газами. К счастью, сжечь дом мне не удалось.
Я любил лыжи, и, когда мне исполнилось шестнадцать, мы с одноклассниками отправились в Австрию покататься с гор. На следующий год я в одиночку поехал в Норвегию, в Телемарк, заняться лыжным кроссом. С лыжами все обошлось лучшим образом, но перед тем, как сесть на паром, идущий в Англию, в магазине дьюти-фри я купил пару литров скандинавской тминной водки, а потом пошел через норвежский пункт пограничного контроля. Что касается норвежских правил, то вывезти я мог сколько угодно бутылок, но ввезти в Англию (так мне сказали норвежские таможенники) я мог только одну, и вторую английская таможня была обязана конфисковать. Сжав в руках бутылки, я поднялся на корабль и отправился на верхнюю палубу. Стоял удивительно ясный и очень холодный день, но холод меня не страшил, поскольку на мне был теплый лыжный костюм. Все пассажиры укрылись внутри парома, я же в гордом одиночестве расположился на верхней палубе.
У меня была книга – я медленно, со вкусом, читал «Улисса» – и моя тминная водка; ничто так не согревает изнутри, как алкоголь. Убаюкиваемый нежно-гипнотическим подрагиванием корабля, я сидел на палубе, погрузившись в книгу и время от времени потягивая спиртное, и через некоторое время с удивлением обнаружил, что выпил небольшими порциями почти полбутылки. Эффекта я не заметил, а потому продолжал читать и потягивать из уже более чем наполовину опустошенной бутылки. Удивлению моему не было предела, когда я почувствовал, что паром причаливает; оказывается, я был так поглощен «Улиссом», что не заметил течения времени. Бутылка была уже пуста, результата я по-прежнему не ощущал. Наверняка, думал я, водка оказалась слабее, чем должна быть, хотя на этикетке было указано содержание спирта – 50 градусов. Ничего странного я не почувствовал, пока не встал на ноги и тут же упал лицом вниз. Меня это страшно удивило! Неужели корабль неожиданно сделал резкий маневр? Я снова встал и снова растянулся.
Теперь до меня стало доходить, что я пьян, пьян в стельку, хотя алкоголь, вероятнее всего, поразил только мозжечок. Когда на палубу поднялся матрос, проверить, все ли пассажиры покинули паром, он столкнулся со мной: я отчаянно пытался передвигаться, помогая себе лыжными палками. Позвав на помощь другого матроса, мой спаситель проводил меня к выходу. Хотя я и с трудом стоял на ногах, привлекая всеобщее (главным образом, добродушно-оживленное) внимание, но ощущал гордость: я победил систему, покинув Норвегию с двумя бутылками водки, а в Англию приехав с одной. Я обманул таможню Соединенного Королевства ровно на одну бутылку, которую, уверен, английские таможенники с удовольствием употребили бы сами.
1951 год был полон событий, причем достаточно печальных. В марте умерла тетушка Бёрди, которая была постоянной спутницей моего существования с самого рождения; и мы все ее любили беззаветно. Бёрди была хрупкой женщиной, довольно скромных умственных способностей, чем отличалась от прочих братьев и сестер матери. Говорили, что в детстве тетушка получила травму, которая сказалась на функции ее щитовидной железы. Но все это не имело никакого значения – Бёрди была просто Бёрди, неотъемлемой частью нашей семьи. Смерть ее произвела на меня неизгладимое впечатление, и, вероятно, я только тогда понял, как тесно жизнь тетушки была связана с моей, с жизнью каждого из нас. Когда за несколько месяцев до печального события я получил из Оксфорда известие, что выиграл стипендию, именно тетушка Бёрди передала мне телеграмму, обняла и поздравила, одновременно всплакнув – она понимала, что мне, младшему из ее племянников, предстоит вскоре покинуть родной дом.
В Оксфорд мне предстояло отправиться в конце лета. Мне только исполнилось восемнадцать, и отец решил, что настало время ему серьезно поговорить со мной, как отцу с сыном. Мы поговорили о том, сколько он мне будет высылать, но с этим разобрались быстро, поскольку я был достаточно бережлив и единственной моей страстью были книги, на которые я денег не жалел. Потом отец перешел к теме, которая его действительно волновала.
– У тебя не так уж много подружек, сынок, – вопросительно посмотрев на меня, сказал он. – Ты плохо относишься к девушкам? Они тебе не нравятся?
– Да почему? Нормально отношусь, – ответил я, желая, чтобы разговор прекратился как можно скорее.
– Может быть, ты предпочитаешь мальчиков? – настаивал отец.
– Да, это так, – признался я. И поспешно добавил, со страхом: – Но только в душе. Ничего такого я не делал… И не говори маме, пожалуйста, она не поймет.
Но отец рассказал ей, и на следующее утро мать спустилась в гостиную с лицом, предвещавшим бурю, какого я у нее не видел никогда.
– Ты омерзителен, – произнесла она. – Напрасно я тебя родила.
Потом она ушла и не разговаривала со мной несколько дней. Когда наконец она прервала молчание, то уже не напоминала об этом (не возвращалась она к разговору и потом), но что-то в наших отношениях изменилось. Моя мать, такая открытая, готовая помочь и утешить в прочих случаях жизни, в отношении моих симпатий была жесткой и неумолимой. Любившая, как и отец, читать Библию, она обожала псалмы и стихи Соломоновой «Песни песней»; но помнила она и ужасные строки из книги Левит:
«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость».
Родители мои, будучи оба врачами, имели в своей библиотеке много медицинских книг, в том числе и по сексопатологии. К двенадцати годам я уже проштудировал книги Крафт-Эбинга, Хиршфельда, Хэвлока Эллиса. Но мне трудно было признать, что моя жизнь может быть сведена к некоему «состоянию», а личность – к имени или диагнозу. В школе друзья знали, что я «отличаюсь» от них – хотя бы потому, что я избегал вечеринок, которые заканчивались тем, что парни начинали лапать девчонок и нежничать с ними.
Зарывшись в книги по химии, а потом и биологии, я не очень замечал то, что происходило вокруг или внутри меня. В школе я так ни с кем и не «закрутил» (хотя и испытал сильнейшее возбуждение, когда на лестничной площадке впервые увидел полномасштабную копию знаменитой скульптуры обнаженного Лаокоона, мускулистого троянца, который пытается спасти сыновей от змей, посланных Афиной). Я знал, что у некоторых людей сама идея возможности гомосексуальных отношений вызывает ужас. Подозреваю, что именно так дело обстояло с моей матерью, почему я и попросил отца ничего ей не говорить. Наверное, мне не стоило посвящать в это и отца, поскольку я полагаю, что моя сексуальность – всецело моя забота. Она ни для кого не является секретом, зачем же о ней трепаться попусту? Мои ближайшие друзья, Эрик и Джонатан, знают о моей особенности, но мы никогда не обсуждали этот вопрос. А Джонатан вообще говорит, что считает меня «асексуальным».
Оливер Сакс
Шляпа Оливера Сакса
Оливер Сакс – известный британский невролог, автор ряда популярных книг, переведенных на двадцать языков, две из которых – «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе» – стали международными бестселлерами.
Оливер Сакс рассказал читателям множество удивительных историй своих пациентов, а под конец жизни решился поведать историю собственной жизни, которая поражает воображение ничуть не меньше, чем история человека, который принял жену за шляпу.
История жизни Оливера Сакса – это история трудного взросления неординарного мальчика в удушливой провинциальной британской атмосфере середины прошлого века.
История молодого невролога, не делавшего разницы между понятиями «жизнь» и «наука».
История человека, который смело шел на конфронтацию с научным сообществом, выдвигал смелые теории и ставил на себе рискованные, если не сказать эксцентричные, эксперименты.
История одного из самых известных неврологов и нейропсихологов нашего времени – бесстрашного подвижника науки, незаурядной личности и убежденного гуманиста.
Оливер Сакс
В движении. История жизни
Oliver Sacks
On the Move: Autobiographical Work
© Oliver Sacks, 2015
© Перевод. В. Миловидов, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *
Посвящается Билли
«Жить нужно, гладя вперед, но понять жизнь можно, только оглянувшись назад».
Кьеркегор
Вечное движение
Во время войны, когда я был совсем маленьким мальчиком, меня заточили в частной школе, итак, лишенный возможности наслаждаться хоть малой толикой независимости, я мечтал о свободе и власти, о сверхсвободе и супервласти. Я чувствовал себя свободным лишь по ночам, когда мне снилось, что я летаю и во время конных прогулок по соседней деревне. Мне полюбились гибкая красота и мощь моей лошади; я до сих пор помню, какая радостная легкость сквозила во всех ее движениях, ощущаю ее тепло и исходящий от нее тонкий запах сена.
Но больше всего я любил мотоциклы. До войны у моего отца был мотоцикл от фирмы Альфреда Скотта под названием «белка-летяга» – большой двигатель с водяным охлаждением и резким, пронзительным выхлопом. Мне тоже хотелось иметь мощный мотоцикл! В моем воображении сливались воедино образы мотоциклов, лошадей и самолетов, равно как и образы мотоциклистов, ковбоев и пилотов – эти парни уверенно справлялись со своими обязанностями, ежесекундно рискуя, но торжествуя над опасностью. Моя детская фантазия питалась вестернами и кинофильмами о героических воздушных боях, где, невзирая на опасность, сражались на «харрикейнах» и «спитфайрах» бесстрашные летчики, защищенные от пуль только своими толстыми летными куртками – как защищали себя от опасности кожаными куртками и шлемами храбрые мотоциклисты.
Когда в 1943 году десятилетним подростком я вернулся в Лондон, любимым моим местом стало окно, возле которого я сидел, пытаясь опознать проносящиеся по улице мотоциклы (после войны с бензином уже не было проблем, и мотоцикл стал обычным средством передвижения). Я мог уже различать с дюжину, а то и больше марок: «эй-джей-эс», «триумф», «би-эс-эй», «нортон», «мэтчлесс», «винсент», «велосетт», «ариэль» и «санбим», а также редкие иноземные машины, такие как «БМВ» и «индианс».
В компании двоюродного брата, моего единомышленника, я регулярно наведывался в «Кристал-Палас», посмотреть мотогонки. Часто на попутках я отправлялся на север Уэльса, в Сноудонию, чтобы полазать по скалам, или в Озерный край, поплавать. Иногда меня подхватывал мотоциклист, и тогда, устроившись на заднем сиденье, я с восторгом представлял, как однажды подо мной окажется собственный сияющий, мощный мотоцикл.
Когда мне исполнилось восемнадцать, у меня появился первый мотоцикл – подержанный «бэнтам» Бирмингемской оружейной компании, с маленьким двухтактным двигателем и, как потом оказалось, неисправными тормозами. В первую поездку я отправился на дорожки Риджентс-парка, и мне там решительно повезло (может быть, только чудом я и остался жив): я дал полный газ, и у меня тут же заклинило дроссель, а тормоза оказались настолько никудышными, что не смогли ни остановить, ни хотя бы замедлить движение мотоцикла. Вокруг Риджентс-парка идет кольцевая дорога, и вот я, верхом на мотоцикле, принялся гонять по ней по кругу, неспособный остановиться. Я кричал пешеходам, чтобы предупредить их о своем приближении, и, после того как сделал два или три полных круга, все уже заранее уступали мне дорогу и, когда я вновь проносился мимо, кричали слова одобрения и поддержки. Я знал, что в конце концов, когда кончится горючее, мотоцикл остановится. После дюжины кругов, сделанных мною вокруг парка, это и произошло: двигатель вдруг зафыркал, коротко всхлипнул и заглох.
Конечно, первым и главным противником того, чтобы я ездил на мотоцикле, была моя мать. Я был готов к этому, но больше всего меня удивило то, что против моего увлечения выступил и отец, который раньше сам гонял на мотоцикле. Поначалу они попытались отвлечь меня от мотоциклов, купив мне маленькую машину «стандард» 1934 года, которая едва делала сорок миль в час. Я быстро возненавидел малышку и однажды, поддавшись импульсу, продал, использовав вырученные деньги на покупку «бэнтама». Теперь я мог объяснить родителям, что хилый автомобиль или мотоцикл вполне могут угробить владельца, поскольку у них не хватит мощности, чтобы вытащить его из беды, и что гораздо безопаснее иметь большую мощную машину. Родители с неохотой, но согласились и субсидировали меня на покупку «нортона».
На своем первом «нортоне», машине с двигателем в двести пятьдесят кубиков, я дважды едва не попал в аварию. В первый раз случилось так, что я подлетел к светофору слишком быстро и, понимая, что ни затормозить, ни свернуть я уже не смогу, рванул наперерез двум движущимся навстречу друг другу потокам машин, каким-то чудом проскользнул, а потом, проехав по инерции еще квартал, припарковался в первом же переулке и потерял сознание.
Второй случай произошел ночью, в дождь, на извилистой сельской дороге. Мчавшаяся навстречу машина, не включившая ближний свет, ослепила меня. Я думал, что лобового столкновения не избежать, но в последний момент успел соскочить с мотоцикла (выражение, слишком вялое для описания потенциально фатального маневра, который тем не менее спас мне жизнь). Мотоцикл полетел в одну сторону (он избежал столкновения с машиной, но был полностью разбит), а я – в другую. К счастью, на мне были шлем, тяжелые башмаки и перчатки, а также кожаная куртка и брюки, так что, хотя меня и протащило ярдов двадцать по поливаемой дождем дороге, я был так хорошо защищен одеждой, что не получил ни царапины.
Родители были шокированы, хотя и рады, что я остался цел, а потому не сильно препятствовали моей покупке еще более мощного мотоцикла – «нортон-доминатора» с движком на шестьсот кубиков. К этому времени я уже закончил Оксфорд и должен был переехать в Бирмингем, чтобы первые шесть месяцев 1960 года работать там в качестве хирурга-практиканта. Совсем недавно было открыто шоссе М1 между Бирмингемом и Лондоном, и я заявил, что с новым мощным мотоциклом смогу каждый уикенд приезжать домой. Ограничения скорости на шоссе не было, и весь маршрут занял бы у меня чуть больше часа.
В Бирмингеме я свел дружбу с группой мотоциклистов и вкусил радость принадлежности обществу единомышленников-энтузиастов; до этого я был гонщиком-одиночкой. Места вокруг Бирмингема были девственно-чисты, и особым удовольствием было для меня проехаться до Стрэтфорда-на-Эйвоне и посмотреть какую-нибудь из идущих там пьес Шекспира.
В июне 1960 года я отправился на остров Мэн, посмотреть ежегодные мотогонки «Турист-Трофи», или, как их еще называют, мотогонки «ТТ». Мне удалось раздобыть нарукавную повязку «Скорой помощи», и, проникнув под ее прикрытием в зону для гонщиков, я смог потереться возле них, послушать разговоры и разглядеть многие детали их спортивного быта. Все это я аккуратно записывал, намереваясь сочинить роман о мотогонщиках, участвующих в состязаниях на острове Мэн. Материала я набрал много, но роман с места так и не сдвинулся[1 - В записной книжке, которую я в то время вел, я зафиксировал планы написания пяти романов (включая один про мотоциклистов), а также воспоминаний о своем «химическом отрочестве». Романов я так и не написал, но спустя сорок пять лет сочинил мемуары о дядюшке Вольфраме.].
В пятидесятые годы на лондонской Северной кольцевой дороге также не было ограничений по скорости, что было крайне заманчиво для тех, кто любит быструю езду. Там же располагалось знаменитое кафе «Туз», настоящий дом родной для мотоциклистов, владельцев мощных машин. «Сделать тонну», то есть сотню миль в час, было минимальной планкой для тех, кто хотел стать членом клуба «Парни-с-тонной-на-спидаке», этого «закрытого» клуба для избранных.
В ту пору довольно большое количество мотоциклов было способно «сделать тонну», особенно если машины были прокачаны, освобождены от лишнего веса (включая выхлопную трубу) и заправлены высокооктановым горючим. Не менее захватывающим делом были гонки на скорость по второстепенным магистралям, и ты запросто мог получить вызов от кого угодно, едва переступив порог кафе. Правда, излишний риск и демонстрация особой храбрости не поощрялись, поскольку на Северной кольцевой и в те времена было более чем оживленное движение.
Я никогда особо не рисковал, но обожал гонки на маленьких дорогах. У моего «домми» с цилиндрами объемом шестьсот кубиков был слегка форсированный двигатель, но и в таком виде он не мог соперничать с тысячекубовым «винсентом», основной машиной членов «закрытого» клуба в кафе «Туз». Однажды я попробовал на нем проехаться, но мне он показался слишком неустойчивым, особенно на малых скоростях, и в этом отношении не шел ни в какое сравнение с моим «нортоном», у которого рама была что «пух» и который на любых скоростях демонстрировал чудеса устойчивости. (Мне было интересно: а нельзя ли к «нортону» подвесить движок от «винсента», и через несколько лет я узнал, что такая модель появилась – «норвинс».) Когда были введены ограничения скорости, «делать тонну» было уже нельзя, мы лишились нашего главного удовольствия, и кафе «Туз» утратило для нас свою прелесть.
Когда мне было двенадцать, мой проницательный классный руководитель написал в своем отчете: «Сакс пойдет далеко, если не уйдет слишком далеко». И в этом-то было все дело. Мальчиком иногда я слишком далеко заходил в своих химических экспериментах, наполняя весь дом ядовитыми газами. К счастью, сжечь дом мне не удалось.
Я любил лыжи, и, когда мне исполнилось шестнадцать, мы с одноклассниками отправились в Австрию покататься с гор. На следующий год я в одиночку поехал в Норвегию, в Телемарк, заняться лыжным кроссом. С лыжами все обошлось лучшим образом, но перед тем, как сесть на паром, идущий в Англию, в магазине дьюти-фри я купил пару литров скандинавской тминной водки, а потом пошел через норвежский пункт пограничного контроля. Что касается норвежских правил, то вывезти я мог сколько угодно бутылок, но ввезти в Англию (так мне сказали норвежские таможенники) я мог только одну, и вторую английская таможня была обязана конфисковать. Сжав в руках бутылки, я поднялся на корабль и отправился на верхнюю палубу. Стоял удивительно ясный и очень холодный день, но холод меня не страшил, поскольку на мне был теплый лыжный костюм. Все пассажиры укрылись внутри парома, я же в гордом одиночестве расположился на верхней палубе.
У меня была книга – я медленно, со вкусом, читал «Улисса» – и моя тминная водка; ничто так не согревает изнутри, как алкоголь. Убаюкиваемый нежно-гипнотическим подрагиванием корабля, я сидел на палубе, погрузившись в книгу и время от времени потягивая спиртное, и через некоторое время с удивлением обнаружил, что выпил небольшими порциями почти полбутылки. Эффекта я не заметил, а потому продолжал читать и потягивать из уже более чем наполовину опустошенной бутылки. Удивлению моему не было предела, когда я почувствовал, что паром причаливает; оказывается, я был так поглощен «Улиссом», что не заметил течения времени. Бутылка была уже пуста, результата я по-прежнему не ощущал. Наверняка, думал я, водка оказалась слабее, чем должна быть, хотя на этикетке было указано содержание спирта – 50 градусов. Ничего странного я не почувствовал, пока не встал на ноги и тут же упал лицом вниз. Меня это страшно удивило! Неужели корабль неожиданно сделал резкий маневр? Я снова встал и снова растянулся.
Теперь до меня стало доходить, что я пьян, пьян в стельку, хотя алкоголь, вероятнее всего, поразил только мозжечок. Когда на палубу поднялся матрос, проверить, все ли пассажиры покинули паром, он столкнулся со мной: я отчаянно пытался передвигаться, помогая себе лыжными палками. Позвав на помощь другого матроса, мой спаситель проводил меня к выходу. Хотя я и с трудом стоял на ногах, привлекая всеобщее (главным образом, добродушно-оживленное) внимание, но ощущал гордость: я победил систему, покинув Норвегию с двумя бутылками водки, а в Англию приехав с одной. Я обманул таможню Соединенного Королевства ровно на одну бутылку, которую, уверен, английские таможенники с удовольствием употребили бы сами.
1951 год был полон событий, причем достаточно печальных. В марте умерла тетушка Бёрди, которая была постоянной спутницей моего существования с самого рождения; и мы все ее любили беззаветно. Бёрди была хрупкой женщиной, довольно скромных умственных способностей, чем отличалась от прочих братьев и сестер матери. Говорили, что в детстве тетушка получила травму, которая сказалась на функции ее щитовидной железы. Но все это не имело никакого значения – Бёрди была просто Бёрди, неотъемлемой частью нашей семьи. Смерть ее произвела на меня неизгладимое впечатление, и, вероятно, я только тогда понял, как тесно жизнь тетушки была связана с моей, с жизнью каждого из нас. Когда за несколько месяцев до печального события я получил из Оксфорда известие, что выиграл стипендию, именно тетушка Бёрди передала мне телеграмму, обняла и поздравила, одновременно всплакнув – она понимала, что мне, младшему из ее племянников, предстоит вскоре покинуть родной дом.
В Оксфорд мне предстояло отправиться в конце лета. Мне только исполнилось восемнадцать, и отец решил, что настало время ему серьезно поговорить со мной, как отцу с сыном. Мы поговорили о том, сколько он мне будет высылать, но с этим разобрались быстро, поскольку я был достаточно бережлив и единственной моей страстью были книги, на которые я денег не жалел. Потом отец перешел к теме, которая его действительно волновала.
– У тебя не так уж много подружек, сынок, – вопросительно посмотрев на меня, сказал он. – Ты плохо относишься к девушкам? Они тебе не нравятся?
– Да почему? Нормально отношусь, – ответил я, желая, чтобы разговор прекратился как можно скорее.
– Может быть, ты предпочитаешь мальчиков? – настаивал отец.
– Да, это так, – признался я. И поспешно добавил, со страхом: – Но только в душе. Ничего такого я не делал… И не говори маме, пожалуйста, она не поймет.
Но отец рассказал ей, и на следующее утро мать спустилась в гостиную с лицом, предвещавшим бурю, какого я у нее не видел никогда.
– Ты омерзителен, – произнесла она. – Напрасно я тебя родила.
Потом она ушла и не разговаривала со мной несколько дней. Когда наконец она прервала молчание, то уже не напоминала об этом (не возвращалась она к разговору и потом), но что-то в наших отношениях изменилось. Моя мать, такая открытая, готовая помочь и утешить в прочих случаях жизни, в отношении моих симпатий была жесткой и неумолимой. Любившая, как и отец, читать Библию, она обожала псалмы и стихи Соломоновой «Песни песней»; но помнила она и ужасные строки из книги Левит:
«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость».
Родители мои, будучи оба врачами, имели в своей библиотеке много медицинских книг, в том числе и по сексопатологии. К двенадцати годам я уже проштудировал книги Крафт-Эбинга, Хиршфельда, Хэвлока Эллиса. Но мне трудно было признать, что моя жизнь может быть сведена к некоему «состоянию», а личность – к имени или диагнозу. В школе друзья знали, что я «отличаюсь» от них – хотя бы потому, что я избегал вечеринок, которые заканчивались тем, что парни начинали лапать девчонок и нежничать с ними.
Зарывшись в книги по химии, а потом и биологии, я не очень замечал то, что происходило вокруг или внутри меня. В школе я так ни с кем и не «закрутил» (хотя и испытал сильнейшее возбуждение, когда на лестничной площадке впервые увидел полномасштабную копию знаменитой скульптуры обнаженного Лаокоона, мускулистого троянца, который пытается спасти сыновей от змей, посланных Афиной). Я знал, что у некоторых людей сама идея возможности гомосексуальных отношений вызывает ужас. Подозреваю, что именно так дело обстояло с моей матерью, почему я и попросил отца ничего ей не говорить. Наверное, мне не стоило посвящать в это и отца, поскольку я полагаю, что моя сексуальность – всецело моя забота. Она ни для кого не является секретом, зачем же о ней трепаться попусту? Мои ближайшие друзья, Эрик и Джонатан, знают о моей особенности, но мы никогда не обсуждали этот вопрос. А Джонатан вообще говорит, что считает меня «асексуальным».
Другие электронные книги автора Оливер Сакс
Зримые голоса




 4.67
4.67
Глаз разума




 4.67
4.67