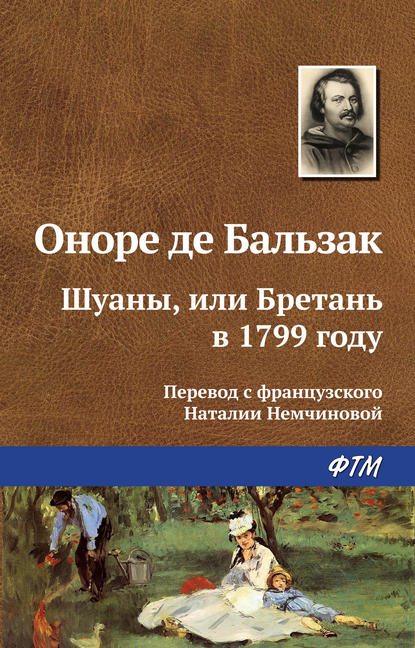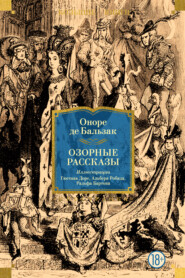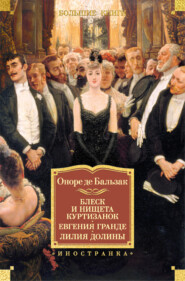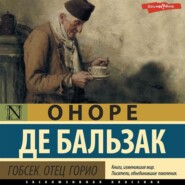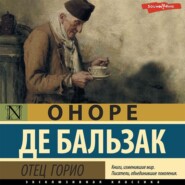По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шуаны, или Бретань в 1799 году
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шуаны, или Бретань в 1799 году
Оноре де Бальзак
Действие «Шуанов» происходит в конце 1799 года. То были последние месяцы правления так называемой Директории и первые недели Консульства, возглавлявшегося Наполеоном Бонапартом. Власть в стране находилась в это время в руках крупной буржуазии, которая воспользовалась в своих интересах победой буржуазной революции во Франции.
В основе романа лежит один из эпизодов борьбы республиканских войск с шуанами, во главе которых стояли дворяне-роялисты и католические священники. Восстание шуанов 1799 года в западных провинциях страны – Бретани и Вандее – было последней серьезной вспышкой роялистского мятежа, который охватил в 1793 году всю северо-западную Францию. Мятеж этот вдохновлялся из-за рубежа – из Англии, снабжавшей восставших оружием и деньгами.
Оноре де Бальзак
Шуаны, или Бретань в 1799 году
Господину Теодору Даблену, негоцианту. Первому другу – первое произведение.
Де Бальзак
Часть первая
Засада
В один из первых дней VIII года, в начале вандемьера[1 - «В один из первых дней VIII года, в начале вандемьера…» – Вандемьер – «месяц сбора винограда» – первый месяц французского революционного календаря. Первым днем нового летосчисления считалось 22 сентября 1792 г., день провозглашения Первой Французской республики. По этому календарю год делился на 12 месяцев, в каждом месяце было 30 дней, что составляло 360 дней; оставшиеся вне месяца дни назывались «дополнительные дни» такого-то года. Вторым месяцем был упоминаемый в тексте романа брюмер («месяц туманов»). Названный там мессидор («месяц жатвы») был десятым месяцем нового календаря. В 1806 г. республиканский календарь был упразднен.], или, по обычному календарю, в конце сентября 1799 года, человек сто крестьян и довольно большое число горожан шли утром из Фужера в Майенну и уже поднимались на гору Пелерину, на полпути от Фужера до Эрне, маленького городка, где путешественники обычно останавливаются на отдых. Этот отряд, разделенный на группы, не одинаковые по своей численности, представлял собою соединение столь странных костюмов и столь необычное сборище людей разных профессий и уроженцев разных местностей, что нелишним будет привести их отличительные черты, дабы придать нашему повествованию те яркие краски, которые теперь так ценят, хотя, по мнению иных критиков, они мешают изображению чувств.
Крестьяне в большинстве своем шли босиком, одетые только в длинный козий мех, прикрывавший их от шеи до колен, да в штаны из очень грубого белого холста, – толстая и неровная его пряжа изобличала слабое развитие промыслов в этом крае. Длинные космы прямых волос так естественно переплетались с шерстью и так плотно закрывали лица, склоненные к земле, что легко можно было счесть козий мех, облекавший эти жалкие существа, за их собственный и принять их за тех животных, чьи шкуры служили им одеждой. Однако, присмотревшись, вы увидели бы, как сквозь волосы блестят глаза, словно капли росы в густой листве, но взгляд этих глаз, хотя в них и отражался человеческий разум, несомненно, скорее отпугивал, чем привлекал. На голове у каждого была грязная шапка из красной шерсти, похожая на фригийский колпак, который Республика в ту пору избрала эмблемой свободы. Каждый нес на плече крепкую дубовую палку, и на конце этой суковатой дубинки висел длинный, но тощий холщовый мешок.
У некоторых поверх колпака была надета грубая войлочная шляпа с широкими полями, украшенная чем-то вроде синели – пестрым шерстяным шнурком, обвивавшим тулью; вся одежда была у них сшита из такого же холста, как штаны и мешки их спутников, и в ней едва были заметны признаки современной цивилизации. Длинные их волосы ниспадали на воротник куртки с круглыми полами, доходившими до бедер, и с боковыми квадратными кармашками, – одежда, весьма обычная у крестьян Западной Франции. Под курткой, открытой на груди, виднелся холщовый жилет с большими пуговицами. Одни из этих крестьян были обуты в деревянные сабо, другие бережно несли в руках кожаные башмаки. Их одежда, заношенная, грязная, потемневшая от пота и пыли и менее своеобразная, нежели описанная нами выше, имела свою историческую ценность, являясь как бы переходной ступенью к почти нарядному одеянию нескольких человек, рассеянных в толпе и блиставших в ней подобно цветам. В самом деле, их синие холщовые шаровары, красные или желтые жилеты, украшенные двумя параллельными рядами медных пуговиц и похожие на квадратные латы, выступали среди белых и меховых одежд яркими пятнами, как васильки и маки в поле пшеницы. У иных на ногах были сабо, которые бретонские крестьяне сами превосходно умеют делать, но у большинства – очень грубые башмаки с железными подковками, а платье, сшитое из толстого сукна, весьма напоминало старинные французские кафтаны, ибо и до наших дней крестьяне все еще свято хранят этот покрой. Воротник рубашки застегивался серебряной запонкой, изображавшей сердце или якорь. Котомки были у них набиты плотнее, чем у других, а многие добавили к своему дорожному снаряжению флягу, несомненно с водкой, и держали ее на бечевке, надетой через голову.
Несколько горожан выделялись среди этих полудикарей приметами самой последней местной моды: они носили круглые шляпы, треуголки или фуражки, сапоги с отворотами или башмаками и гетры, но так же, как и у крестьян, в их костюмах не было однообразия. Человек десять были одеты в короткие куртки, известные при Республике под именем карманьолы. Другие, судя по всему богатые ремесленники, с головы до ног облеклись в одноцветное сукно. Самые щеголеватые отличались более или менее потертыми фраками или сюртуками из синего или зеленого сукна; эти горожане, несомненно именитые особы, были обуты в сапоги различных фасонов и шли, бодро помахивая толстой тростью, как люди, примирившиеся со своей участью. Тщательно напудренные головы и довольно искусно заплетенные косицы свидетельствовали даже о некоторой изысканности, какую прививают начатки богатства или воспитания. Всех этих людей, казалось, удивленных тем, что их как бы случайно собрали из разных мест, можно было счесть за толпу удрученных погорельцев, изгнанных пожаром из родных гнезд. Но время и место такого сборища придавали ему совсем иное значение. Отряд почти целиком состоял из людей, которые четыре года тому назад воевали против Республики, и наблюдатель, посвященный в тайны гражданских распрей, волновавших в те годы Францию, легко распознал бы тут немногих граждан, на чью верность страна могла рассчитывать. Одна довольно резкая черта не оставляла никакого сомнения в том, что этих соединенных вместе людей разделяла разница в убеждениях. Только республиканцы шли весело. Остальные, хотя и заметно отличались друг от друга одеждой, все же сохраняли нечто общее в выражении лица, в позах и в движениях, равно отмеченных несчастьем: и на горожанах, и на крестьянах лежал отпечаток глубокого уныния. В их молчании была угрюмая скорбь; казалось, они сгибались под бременем одной и той же мысли, вероятно, зловещей, но тщательно сокрытой, ибо лица их были непроницаемы, и только необычная медлительность шагов могла выдать какие-то тайные замыслы этих людей. У некоторых из них висели на груди четки, несмотря на опасность выставлять напоказ символы религии, скорее отмененной, чем уничтоженной; время от времени они встряхивали волосами, осторожно поднимали голову, украдкой разглядывали лес, тропинки, скалы, обступившие дорогу, и всем своим видом напоминали тогда охотничью собаку, которая держит нос по ветру, стараясь учуять дичь; не слыша ничего, кроме однообразного звука шагов своих безмолвных спутников, они вновь опускали голову, и вновь возвращалось к ним выражение безнадежности, словно у преступников, которых гонят на каторгу, где им суждено жить и умереть.
Движение отряда на Майенну, разнородный его состав и различные чувства этих людей довольно просто объяснились присутствием другого отряда: в голове колонны шло около ста пятидесяти вооруженных солдат в походном снаряжении, под командой начальника полубригады. Для тех, кто не был свидетелем драматических событий революции, нелишним будет указать, что такое наименование заменило чин полковника, упраздненный патриотами как слишком аристократический. Солдаты принадлежали к пехотной полубригаде, стоявшей гарнизоном в Майенне. В те времена раздоров жители Западной Франции называли всех солдат Республики синими. Такое прозвище связано с первым республиканским мундиром, синим с красной выпушкой, и воспоминание о нем еще настолько свежо, что описывать этот мундир излишне. Итак, отряд синих служил конвоем целого сборища людей, которые почти все испытывали глубокое недовольство оттого, что их направляли в Майенну, где военная дисциплина должна была быстро придать им единообразие духа, одежды и выправку, пока совершенно у них отсутствовавшую.
Колонна эта представляла собою контингент ополченцев, с трудом собранный в Фужерском округе по закону от 10 мессидора о массовом наборе, принятому Исполнительной директорией Французской республики. Правительство потребовало сто миллионов деньгами и сто тысяч солдат, желая спешно послать подкрепление французским армиям, ибо в ту пору их разбили австрийцы в Италии, пруссаки в Германии, а в Швейцарии угрожали им русские, которым Суворов внушил надежду победить Францию. Западные департаменты, известные под именем Вандеи, Бретань и часть Нижней Нормандии, за три года до того усмиренные после четырехлетней войны стараниями генерала Гоша, видимо, воспользовались моментом и возобновили борьбу. Пред лицом стольких врагов Республика вновь обрела свою первоначальную энергию. Прежде всего она приняла меры для защиты департаментов, подвергшихся нападению, и одной из статей закона от 10 мессидора поручила заботу об этом местным патриотам. На деле же правительство, не имея ни денег, ни войск для борьбы с внутренним врагом, вышло из затруднения законодательным фанфаронством: оно не могло ничего послать в восставшие департаменты, зато оказало им доверие. Может быть, оно надеялось, что эта мера, вооружив одних граждан против других, подавит мятеж в самом его зародыше. Статья закона, источник кровавых раздоров, составлена была следующим образом: Сформировать в западных департаментах вольные дружины. Это недипломатичное мероприятие принято было на западе Франции столь враждебно, что Директория[2 - Директория – правительство Французской республики в составе пяти «директоров»; оно представляло интересы крупной буржуазии, разбогатевшей на спекуляциях. Директория просуществовала с конца 1795 г. по 9 ноября 1799 г. (18 брюмера), когда возвратившийся из египетского похода Наполеон совершил государственный переворот и установил режим военной диктатуры.] сразу потеряла надежду восторжествовать и в скором времени потребовала у двух национальных собраний[3 - «…потребовала у двух национальных собраний…» – точнее, у двух палат, из которых состоял Законодательный корпус в годы Директории: Совет Пятисот и Совет Старейшин.] особых мер в отношении тех небольших контингентов, которые следовало набрать в силу статьи закона о «вольных дружинах». Незадолго до начала событий, описываемых в этом повествовании, был обнародован новый закон, изданный в третий дополнительный день VII года, – он предписывал сводить эти слабые контингенты в легионы. Легионы должны были носить название департаментов Сарты, Орна, Майенны, Иля-и-Вилены, Морбигана, Нижней Луары, Мэна-и-Луары. Эти легионы, – гласил закон, – предназначенные исключительно для борьбы с шуанами, ни в коем случае не подлежат переводу на границы Франции. Такие скучные, но мало кому известные подробности нужны для того, чтобы понять и слабость Директории, и причину похода этого сборища людей под конвоем синих. Пожалуй, нелишним будет добавить также, что прекрасные и патриотические постановления Директории никогда не получали иного осуществления, кроме опубликования их в «Бюллетене законов». Декреты Республики уже не опирались на идеи, обладавшие великой моральной силой, на патриотизм или террор, которые когда-то заставляли выполнить их, – на бумаге создавались миллионы франков и сотни тысяч солдат, но ни деньги не поступали в казну, ни солдаты – в армию. Пружина революции ослабла в неумелых руках, и законы, вместо того чтобы подчинять себе обстоятельства, приспособлялись к ним.
В департаментах Иля-и-Вилены и Майенны командующим войсками был тогда старый офицер; увидев на месте, какие меры лучше всего принять, он решил попытаться вырвать рекрутов у Бретани и особенно у Фужера, одного из самых опасных очагов восстания шуанов. Он надеялся ослабить таким путем силы округов, угрожавших Республике. Преданный родине солдат воспользовался мнимой предусмотрительностью закона и объявил, что он тотчас же экипирует, вооружит рекрутов и готов выплатить месячное жалованье, обещанное правительством этим особым войсковым частям. Хотя Бретань в те годы отказывалась от всякого рода военной службы, призыв благодаря этим посулам прошел весьма удачно с такой быстротой, что командующий даже встревожился. Но старого вояку трудно было провести. Как только он увидел, что часть ополченцев немедленно явилась в округ, он заподозрил какую-то скрытую причину столь быстрого сбора и, пожалуй, верно угадал ее, предположив, что бретонцы хотят добыть себе оружие. Он решил тогда, не дожидаясь запоздавших, отойти на Алансон, ближе к покорным округам, хотя из-за восстания, разраставшегося в крае, успех этого плана был весьма гадательным. Повинуясь инструкции, он хранил в глубочайшей тайне неудачи французских армий и малоутешительные вести из Вандеи и в то утро, с которого начинается наш рассказ, сделал попытку достичь форсированным маршем Майенны, где он намеревался применить закон по-своему: пополнить новобранцами из Бретани состав полубригады. Слово «новобранец», впоследствии столь распространенное, впервые заменило в тексте законов название «рекрут», первоначально данное молодым солдатам республиканских войск. Прежде чем выступить из Фужера, командир полубригады отдал своим солдатам приказ тайно взять для всего отряда запас зарядов и хлеба, скрыв от новобранцев, что им предстоит долгий путь: он твердо решил не делать привала в Эрне, где его рекруты, оправившись от неожиданности, могли бы стакнуться с шуанами, без сомнения, рассеянными в окрестностях города. Мрачное безмолвие, царившее среди новобранцев, ошеломленных маневром старого республиканца, и медлительность, с которой они поднимались в гору, в высочайшей степени возбуждали подозрения начальника полубригады, носившего фамилию Юло. Характерные подробности, указанные в нашем описании, представляли для него жизненный интерес, и поэтому он шел в безмолвном раздумье среди пяти офицеров, которые почтительно молчали, видя его озабоченность. Но в ту минуту, когда Юло поднялся на вершину Пелерины, он вдруг, точно по инстинкту, обернулся, желая взглянуть на встревоженные лица новобранцев, и сам прервал молчание. Бретонцы шли все медленнее и уже отстали от конвоя шагов на двести. Юло возмутился и сделал свойственную ему одному гримасу.
– Какого дьявола! Что творится с этими неженками! – крикнул он зычным голосом. – Наши новобранцы, видно, не раскрывают, а закрывают свои циркули.
При этих словах сопровождавшие его офицеры разом обернулись, словно проснувшись от внезапного шума. Сержанты и капралы последовали их примеру, и рота остановилась, не дожидаясь желанной команды «стой!». Сначала офицеры бросили взгляд на колонну, поднимавшуюся по склону горы подобно длинной черепахе, но затем эти молодые люди, которых защита отчизны оторвала, как и многих других, от возвышенных умственных трудов и в которых война еще не угасила артистического чувства, поразились зрелищем, открывшимся перед ними, и оставили без ответа замечание Юло, не подозревая всей его важности. Они пришли из Фужера, откуда также видна картина, представшая их глазам, с тою лишь разницей, какую вносят в нее изменения перспективы, и все же они не могли отказаться от удовольствия в последний раз полюбоваться ею, подобно тому как dilettanti[4 - Любители искусства (ит.).] тем больше наслаждаются музыкальным произведением, чем лучше знают все его детали.
С вершины горы перед ними развернулась долина Куэнона, а на горизонте самая возвышенная точка занята была городом Фужером. Крепость его, построенная на высокой скале, господствует над четырьмя важного значения дорогами, и благодаря этой позиции он некогда был одним из ключей Бретани. С Пелерины офицеры увидели во всей его шири бассейн Куэнона, столь же замечательный необычайным плодородием почвы, как и разнообразием пейзажей. Со всех сторон поднимаются здесь амфитеатром сланцевые горы; красноватые их склоны одеты дубовыми лесами, и меж них таятся прохладные лощины. Скалы стоят широкой, с виду округлой, оградой, а внутри ее, будто английский парк, мягко раскинулся огромный луг. Множество живых изгородей вокруг наследственных неравных клочков земли, обсаженных деревьями, придают этому зеленому ковру облик, редкостный среди французских пейзажей, и тайна его очарования заключается в многообразии контрастов, которые могут поразить даже самую холодную душу. В эту минуту вся картина края была оживлена мимолетным блеском, каким природа любит порою усилить красоту своих нетленных творений. Пока отряд пересекал равнину, восходящее солнце постепенно рассеяло реявший над лугами белый легкий туман сентябрьского утра, и в тот миг, когда офицеры обернулись, словно чья-то незримая рука сняла с пейзажа последний из окутавших его покровов – дымку, тонкую, как пелена прозрачного газа, наброшенная на драгоценности, которые просвечивают сквозь нее, дразня любопытство. На всем широком горизонте не было в небе ни единого облачка, чья серебристая белизна могла бы убедить, что этот огромный голубой купол – действительно небосвод. Он казался скорее шелковым шатром, опиравшимся на неровные горные вершины и как будто воздвигнутым в воздухе для того, чтобы защитить от непогоды великолепное сочетание полей, лугов, ручьев и рощ. Офицеры не могли налюбоваться этим простором, где нежданно возникло перед ними столько сельских красот. Одни колебались, не зная, на какой рощице остановить свой взгляд, ибо каждая изумляла разнообразием окраски, казавшейся еще богаче от суровых бронзовых тонов пожелтевшей листвы на фоне изумрудной зелени неравномерно скошенных лугов. Других привлекали контрастами своих оттенков убранные нивы, чередование золотистых полос сжатой ржи и красноватых полей гречихи, где снопы стояли в конических копнах, словно ружья, составленные солдатами в козлы на биваке. То тут, то там виднелись темные шиферные кровли жилищ, и над ними поднимался белый дымок; но больше всего манили взор обманчивой оптической игрой и почему-то пробуждали в душе смутную мечтательность живые серебристые линии извилистых притоков Куэнона. Благоуханная свежесть осеннего ветра, мощные запахи лесов поднимались облаком фимиама, опьяняя наших зрителей, с восхищением созерцавших этот прекрасный край, его незнакомые цветы, буйную растительность и яркую зелень, которой он соперничает с Британией, своей одноименной соседкой. Небольшие стада оживляли эту сцену, уже столь захватывающую. Пели птицы, и над долиной в воздухе трепетала негромкая нежная мелодия. Если читатели пожелают призвать на помощь силу воображения и оно нарисует им роскошную игру света и тени, мглистый горный горизонт, фантастические дали, открывавшиеся там, где пространство не заслоняли деревья, где воды разливались плесами или бежали прихотливыми излучинами, если воспоминания, так сказать, раскрасят этот набросок, столь же беглый, как и то мгновенье, когда он возник, – люди, для которых такие картины не лишены прелести, все же получат несовершенное представление о волшебном зрелище, поразившем офицеров до глубины молодой впечатлительной души.
Они подумали тогда, что беднягам новобранцам тяжело покинуть родной край и дорогие им обычаи, – быть может, для того, чтобы умереть на чужбине; они поняли и невольно простили этим людям их медлительность, но с великодушием, свойственным солдату, скрыли свое снисходительное сочувствие, делая вид, что они просто желают изучить военные позиции этой живописной местности. Однако Юло – лучше называть его «командир», чтобы избежать неблагозвучного наименования «начальник полубригады», – был одним из тех солдат, которые пред лицом опасности не поддаются очарованию пейзажей, будь это даже рай земной. Он недовольно вскинул голову и насупил густые черные брови, придававшие его лицу суровое выражение.
– Какого дьявола они мешкают? Почему не идут? – вторично спросил он голосом, огрубевшим в походах. – Или в деревне нашлась какая-нибудь добрая Богоматерь, и они пожимают ей на прощание руку?
– Ты спрашиваешь – почему? – откликнулся чей-то голос.
Голос этот напоминал звук рога, которым крестьяне в долинах Бретани собирают свои стада; услышав его, командир резко обернулся, словно его кольнули шпагой, и в двух шагах от себя увидел существо, еще более странное, нежели новобранцы, которых вели в Майенну на службу Республике. У этого незнакомого человека, коренастого и плечистого, голова походила на бычью, и не только своей величиною; от широких мясистых ноздрей нос его казался короче, чем на самом деле; толстые губы, вздернутые над белоснежными зубами, черные круглые глаза и грозные брови, оттопыренные уши и рыжие волосы – все это менее соответствовало нашей прекрасной кавказской расе, чем роду травоядных. И, наконец, полное отсутствие признаков, свойственных человеку как существу общественному, делало эту обнаженную голову еще более примечательной. Лицо, бронзовое от загара, угловатыми своими контурами было сродни граниту, образующему подпочву в Бретани, и являлось единственной доступной взглядам частью тела этого необычайного существа, по самое горло закутанного в балахон из небеленого холста, еще более грубого, чем холст на шароварах самых бедных новобранцев. Балахон, в котором знатоки старины узнали бы «сей», или «сейон», древних галлов, доходил до пояса и пристегивался к штанам из козьей шкуры посредством кусочков дерева, грубо вырезанных и плохо очищенных от коры. Под этими меховыми чехлами, облегавшими бедра и ноги, нельзя было различить очертаний человеческого тела. Огромные сабо закрывали ступни. Длинные лоснящиеся волосы, почти не отличимые от козьей шерсти, окаймляли лицо двумя широкими прядями, как у средневековых статуй, еще встречающихся в старинных соборах. Вместо суковатой палки, которую несли на плече новобранцы, он прижимал к груди, точно ружье, искусно сплетенный из кожаных ремней кнут, вдвое длиннее обычных кнутов. Внезапное появление удивительного пришельца казалось легко объяснимым. Взглянув на него, офицеры предположили, что это новобранец, или рекрут (слова эти еще употреблялись одно вместо другого), и что он поджидает остановившуюся колонну. Однако появление его почему-то поразило командира. Юло отнюдь не казался испуганным, но все же на лицо его легла тень беспокойства, и, смерив незнакомца взглядом, он повторил машинально, словно был поглощен мрачными мыслями:
– Да, почему они не идут? Ты не знаешь?
Сумрачный его собеседник ответил с акцентом, доказывавшим, что ему довольно трудно говорить по-французски:
– Потому что там начинается Мэн и кончается Бретань, – сказал он, протянув большую грубую руку по направлению к Эрне.
И он с силой ударил тяжелым кнутовищем о землю у самых ног командира. Лаконическая отповедь незнакомца произвела на свидетелей этой сцены впечатление, подобное внезапному грохоту тамтама посреди плавных звуков музыкальной мелодии. Слово «отповедь» с трудом может передать ту ненависть и жажду мести, которые выразили высокомерный жест, отрывистая речь и весь облик незнакомца, носивший отпечаток свирепой и холодной энергии. Грубая, корявая оболочка этого человека, как будто вытесанная топором, черты лица, отмеченного тупым невежеством, придавали ему сходство с полубогом какого-то варварского культа. Он стоял в позе пророка, он появился словно дух самой Бретани, пробудившийся от трехлетнего сна для того, чтобы возобновить войну, где каждая победа неизменно влекла за собою двойной траур.
– Ну и образина! – тихо произнес Юло. – Очень похоже, что его подослали те молодчики, которые готовятся повести с нами переговоры ружейными выстрелами.
Пробормотав сквозь зубы эти слова, Юло перевел взгляд с незнакомца на пейзаж, с пейзажа на отряд, с отряда на крутые откосы дороги, поросшие вверху высокими кустами бретонского дрока, затем вновь обратил взор на незнакомца и наконец, как будто подвергнув его немому допросу, резко сказал:
– Ты откуда?
Он впился в пришельца пронизывающим взглядом, стараясь разгадать тайну этого непроницаемого лица, уже ставшего тупым и каменным, – обычная повадка отдыхающего крестьянина.
– С родины молодцов, – ответил незнакомец, не выказывая ни малейшего смущения.
– Как тебя зовут?
– Крадись-по-Земле.
– Почему ты носишь шуанскую кличку? Закон это запрещает.
Крадись-по-Земле, как назвал себя бретонец, посмотрел на Юло с неподдельно глупым недоумением, и старый воин подумал, что этот человек не понял его.
– Ты из фужерских новобранцев?
На этот вопрос Крадись-по-Земле ответил: «Не знаю» – с такой интонацией, которая может привести в отчаяние и делает беседу невозможной. Он спокойно присел у дороги, вытащил из-за пазухи несколько кусков тонкой темной лепешки из гречневой муки – национальное лакомство, убогая прелесть которого понятна только бретонцам, – и с тупым, безразличным видом принялся за еду. В эту минуту он казался существом, вовсе лишенным разума, и офицеры сравнивали его то с одним из тех животных, что щипали траву на тучных пастбищах долины, то с дикарями Америки, то с каким-нибудь обитателем мыса Доброй Надежды. Даже самого командира обманул его вид, и он перестал было тревожиться, но вдруг, бросив из осторожности последний взгляд на этого человека, в котором он подозревал вестника близкой резни, он увидел у него в волосах, на балахоне и козьих шкурах колючки, обрывки листьев, веточки деревьев и кустов, как будто шуан долго пробирался сквозь лесную чащу. Тогда Юло многозначительно посмотрел на своего адъютанта Жерара, стоявшего рядом с ним, и, крепко сжав его руку, сказал вполголоса:
– Пошли за шерстью, а вернемся стрижеными.
Удивленные офицеры молча переглянулись.
Здесь необходимо сделать отступление для того, чтобы опасения Юло стали понятны иным домоседам, привыкшим сомневаться во всем, ибо они ничего на своем веку не видели, и способным оспаривать самое существование Крадись-по-Земле и крестьян Западной Франции, чье поведение было в ту пору поразительным.
Слово gars, которое произносится как g? (га), является остатком кельтского языка. Из нижнебретонского оно перешло во французский, и в современном нашем языке с этим словом связано особенно много воспоминаний о старине. Gais было главным оружием гаэлов, или галлов, gaisde означало – «вооруженный», gais – «храбрость», a gas – «сила». Эти сопоставления доказывают родство слова gars с выражениями, существовавшими в языке наших предков. Здесь мы находим аналогию с латинским словом vir – «муж», корнем слова virtus – «сила, доблесть». Оправданием такого длинного рассуждения послужит национальное чувство, и, быть может, нам удастся реабилитировать в умах некоторых людей слова: gars, gar?on, gar?onette, garce, garcette, обычно изгоняемые из нашей речи, как слова грубые; происхождение этих слов весьма воинственное, и порою они будут появляться в нашем повествовании. Выражение «молодчина баба» – вот плохо понятая похвала, которую г-жа де Сталь получила в глухом вандейском кантоне, где она провела несколько дней, будучи в изгнании.
Из всех областей Франции в Бретани нравы древних галлов оставили наиболее сильный отпечаток. Та часть Бретани, где еще и поныне дикая жизнь и суеверный дух наших суровых предков, так сказать, сохранили свою свежесть, называется «край молодцов». Если в каком-нибудь кантоне живет значительное число дикарей, подобных герою описываемой нами сцены, местные жители говорят: «молодцы такого-то прихода». И это укоренившееся прозвище как бы служит наградой за их верность старине и традициям гаэльских нравов и гаэльского языка: вся их жизнь хранит глубокие следы верований и суеверных обрядов древних времен. Тут всё еще соблюдают феодальные обычаи. Тут любители старины находят в целости памятники друидов, а дух современной цивилизации страшится проникнуть сквозь дремучие, первобытные леса. Невероятная жестокость, дикое упрямство, но вместе с тем верность клятве; полное пренебрежение нашими законами, нашими нравами, нашей одеждой, нашей новой монетой, нашим языком и вместе с тем патриархальная простота и героическая доблесть – все способствует тому, что жители этих мест беднее мыслями, чем могикане и краснокожие Северной Америки, но столь же сильны духом, столь же хитры и выносливы, как они. Положение Бретани в центре Европы делает ее более любопытной для наблюдателя, нежели Канада. Она окружена светом цивилизации, но благодетельные лучи не достигают ее, и этот край подобен промерзшему куску угля, остающемуся совсем темным посреди сверкающего очага. Все усилия некоторых великих умов привлечь к общественной жизни и процветанию эту прекрасную область Франции, богатую неразведанными сокровищами, и даже все попытки правительства разбиваются о косность населения, преданного мертвящим обычаям седой старины. Эту беду довольно легко объясняет характер местности, изрезанной оврагами, потоками, озерами и болотами; вздыбленная повсюду щетина живых изгородей, своего рода земляные бастионы, превращающие каждое поле в крепость; отсутствие во всей области дорог и каналов, а также дух невежественного населения, его закоренелые и опасные предрассудки, как то покажут некоторые подробности нашей повести, и нежелание усвоить современные способы земледелия. Гористая поверхность края и суеверия его жителей мешали возникновению больших поселений, а следовательно, благодетельному воздействию общения и обмена идей. Здесь нет деревень. Непрочные постройки, именуемые здесь дворами, разбросаны в одиночку. Каждая семья живет в своем дворе, как среди пустыни. Единственные известные здесь сборища – сходки, созываемые в каждом приходе по воскресеньям и другим церковным праздникам. На этих молчаливых собраниях царит «ректор» – властитель этих грубых умов, и длятся они иногда несколько часов. Выслушав грозную речь священника, крестьянин на всю неделю возвращается в свое вредное для здоровья жилище, выходит из него утром на работу и возвращается на ночлег. Если кто и навещает его, то только ректор – душа края. Не удивительно, что по призыву священников тысячи людей ринулись против Республики и за пять лет до того времени, к которому относится наше повествование, эта часть Бретани доставила множество солдат для первого мятежа шуанов. Братья Котро[5 - Братья Котро. – Один из них Жан, прозванный Шуан (то есть Сова, по его характерному свисту-сигналу, отсюда – «шуаны»), был предводителем вандейских контрреволюционных банд. Он поднял мятеж против Республики в конце 1793 г. и был убит в 1794 г. Ко времени действия «Шуанов» в живых остался лишь один из братьев Котро.], смелые контрабандисты, которые дали название этой войне, занимались своим опасным ремеслом на всем пространстве от Лаваля до Фужера. Но в восстании этой провинции не было ничего благородного, и можно с уверенностью сказать, что если Вандея разбой превратила в войну, то Бретань войну превратила в разбой. Изгнание королевского дома и запрещение религии служили шуанам лишь поводом для грабежа, и события этой междоусобной войны отмечены дикой жестокостью, свойственной местным нравам. Когда подлинные защитники монархии явились в Бретань с целью набрать солдат среди ее невежественного и воинственного населения, они тщетно пытались придать при помощи белого знамени какое-то величие гнусным действиям мятежников. Шуаны показали памятный пример, насколько опасно поднимать нецивилизованные массы страны. Набросок первой долины Бретани, открывающейся путешественнику, описание людей, входивших в отряд новобранцев, портрет бретонца, появившегося на вершине Пелерины, дают вкратце верную картину этой провинции и характера ее жителей. Изощренное воображение может по этим деталям нарисовать театр и способы войны шуанов – тут были налицо все ее элементы. В живописных долинах, за цветущими изгородями прятались невидимые враги, готовые к нападению. Каждая нива была тут крепостью, каждое дерево прикрывало западню, каждый дуплистый ствол старой вербы таил какую-нибудь военную хитрость. Поле сражения было повсюду. Шуаны подстерегали синих на поворотах дорог, девушки улыбками завлекали их под огонь ружей, не видя в том предательства. Они ходили с отцами и братьями на богомолье просить деревянную, источенную червями Богоматерь наставить их в новых хитростях и отпустить им грехи. Религия, или, вернее, фетишизм, этих невежественных созданий избавлял убийцу от угрызения совести. И поэтому, едва началась такая война, все в этом краю стало опасным: шум и тишина, милость и террор, домашний очаг и большая дорога. В предательствах тут была убежденность. Эти дикари служили Богу и королю такими же способами, какими ведут войну могикане. Но для того чтобы дать правдивую и совершенно точную картину этой борьбы, историк должен добавить, что, лишь только был подписан мир, предложенный Гошем, весь край вновь стал веселым и дружественным. Семьи, еще накануне готовые растерзать друг друга, на следующий день спокойно ужинали под одной кровлей.
В ту минуту, когда Юло разгадал тайну вероломных замыслов, которую выдали ему козьи шкуры Крадись-по-Земле, он убедился, что благодетельный мир, каким Франция обязана была дарованиям Гоша, нарушен и сохранить этот мир невозможно. Итак, в результате трехлетнего бездействия правительства война возобновлялась, и, несомненно, более ужасная, чем прежде. Революция, смягчившаяся после 9 термидора[6 - «Революция, смягчившаяся после 9 термидора…» – то есть после 27 июля 1794 г., когда были свергнуты якобинцы. В действительности, смягчился террор против врагов Республики, якобинцы же подверглись жесточайшим преследованиям.], теперь, очевидно, должна была вновь прибегнуть к террору, который сделал ее ненавистной для благонамеренных умов. И как всегда, внутренние раздоры во Франции разжигало золото Англии. Республика, покинутая молодым Бонапартом[7 - «Республика, покинутая молодым Бонапартом…» – Бонапарт предпринял поход в Египет, но бросил армию и возвратился в октябре 1799 г. в Париж, когда узнал о создавшихся к концу 1799 г. благоприятных условиях для свержения Директории.], казавшимся ее гением-покровителем, видимо, была не в состоянии сопротивляться стольким врагам, а самый жестокий из них выступил последним. Гражданская война, возвещенная множеством отдельных мелких восстаний, явно принимала новый, небывало серьезный характер, раз шуаны задумали напасть на такой сильный конвой. Вот какие размышления, хотя и гораздо менее краткие, возникли в голове Юло, как только он увидел в появлении Крадись-по-Земле признак искусно подготовленной засады; но сначала лишь он один проник в тайну опасности.
Молчание, наступившее после пророческой фразы Юло, обращенной им к Жерару в конце предыдущей сцены, помогло командиру вновь обрести хладнокровие. Старый солдат едва не растерялся. Он не мог прогнать облако заботы, омрачившее его лоб, когда подумал о том, что его уже подстерегают ужасы войны, зверской жестокости которой устыдились бы и каннибалы. Его друзья, капитан Мерль и майор Жерар, пытались объяснить себе столь новое для них боязливое выражение на лице Юло: они смотрели на Крадись-по-Земле, который жевал лепешку, сидя у дороги, и оба не могли найти ни малейшей связи между этим подобием животного и тревогой их отважного командира. Но вскоре лицо его просветлело. Горюя о бедствиях Республики, Юло радовался случаю послужить ей в сражении и весело дал себе слово не попасть впросак и разгадать дьявольски хитрого лазутчика, которого подослали шуаны, оказав таким выбором честь неприятелю. Прежде чем принять решение, он принялся рассматривать позицию, где враги хотели напасть на него врасплох. Увидев, что дорога, на которой он остановился, проходит через овраг неглубокий, но окаймленный лесом и что к этому оврагу ведет несколько тропинок, он нахмурил густые черные брови и взволнованным голосом тихо сказал двум своим друзьям:
– Мы попали в осиное гнездо.
– Чего же вы боитесь? – спросил Жерар.
– Боюсь? – переспросил Юло. – Да, боюсь. Я всегда боялся, как бы меня, словно собаку, не пристрелили из лесу, даже не крикнув: «Берегись!»
Мерль засмеялся:
– Ну, «берегись» – это уж роскошь!
Оноре де Бальзак
Действие «Шуанов» происходит в конце 1799 года. То были последние месяцы правления так называемой Директории и первые недели Консульства, возглавлявшегося Наполеоном Бонапартом. Власть в стране находилась в это время в руках крупной буржуазии, которая воспользовалась в своих интересах победой буржуазной революции во Франции.
В основе романа лежит один из эпизодов борьбы республиканских войск с шуанами, во главе которых стояли дворяне-роялисты и католические священники. Восстание шуанов 1799 года в западных провинциях страны – Бретани и Вандее – было последней серьезной вспышкой роялистского мятежа, который охватил в 1793 году всю северо-западную Францию. Мятеж этот вдохновлялся из-за рубежа – из Англии, снабжавшей восставших оружием и деньгами.
Оноре де Бальзак
Шуаны, или Бретань в 1799 году
Господину Теодору Даблену, негоцианту. Первому другу – первое произведение.
Де Бальзак
Часть первая
Засада
В один из первых дней VIII года, в начале вандемьера[1 - «В один из первых дней VIII года, в начале вандемьера…» – Вандемьер – «месяц сбора винограда» – первый месяц французского революционного календаря. Первым днем нового летосчисления считалось 22 сентября 1792 г., день провозглашения Первой Французской республики. По этому календарю год делился на 12 месяцев, в каждом месяце было 30 дней, что составляло 360 дней; оставшиеся вне месяца дни назывались «дополнительные дни» такого-то года. Вторым месяцем был упоминаемый в тексте романа брюмер («месяц туманов»). Названный там мессидор («месяц жатвы») был десятым месяцем нового календаря. В 1806 г. республиканский календарь был упразднен.], или, по обычному календарю, в конце сентября 1799 года, человек сто крестьян и довольно большое число горожан шли утром из Фужера в Майенну и уже поднимались на гору Пелерину, на полпути от Фужера до Эрне, маленького городка, где путешественники обычно останавливаются на отдых. Этот отряд, разделенный на группы, не одинаковые по своей численности, представлял собою соединение столь странных костюмов и столь необычное сборище людей разных профессий и уроженцев разных местностей, что нелишним будет привести их отличительные черты, дабы придать нашему повествованию те яркие краски, которые теперь так ценят, хотя, по мнению иных критиков, они мешают изображению чувств.
Крестьяне в большинстве своем шли босиком, одетые только в длинный козий мех, прикрывавший их от шеи до колен, да в штаны из очень грубого белого холста, – толстая и неровная его пряжа изобличала слабое развитие промыслов в этом крае. Длинные космы прямых волос так естественно переплетались с шерстью и так плотно закрывали лица, склоненные к земле, что легко можно было счесть козий мех, облекавший эти жалкие существа, за их собственный и принять их за тех животных, чьи шкуры служили им одеждой. Однако, присмотревшись, вы увидели бы, как сквозь волосы блестят глаза, словно капли росы в густой листве, но взгляд этих глаз, хотя в них и отражался человеческий разум, несомненно, скорее отпугивал, чем привлекал. На голове у каждого была грязная шапка из красной шерсти, похожая на фригийский колпак, который Республика в ту пору избрала эмблемой свободы. Каждый нес на плече крепкую дубовую палку, и на конце этой суковатой дубинки висел длинный, но тощий холщовый мешок.
У некоторых поверх колпака была надета грубая войлочная шляпа с широкими полями, украшенная чем-то вроде синели – пестрым шерстяным шнурком, обвивавшим тулью; вся одежда была у них сшита из такого же холста, как штаны и мешки их спутников, и в ней едва были заметны признаки современной цивилизации. Длинные их волосы ниспадали на воротник куртки с круглыми полами, доходившими до бедер, и с боковыми квадратными кармашками, – одежда, весьма обычная у крестьян Западной Франции. Под курткой, открытой на груди, виднелся холщовый жилет с большими пуговицами. Одни из этих крестьян были обуты в деревянные сабо, другие бережно несли в руках кожаные башмаки. Их одежда, заношенная, грязная, потемневшая от пота и пыли и менее своеобразная, нежели описанная нами выше, имела свою историческую ценность, являясь как бы переходной ступенью к почти нарядному одеянию нескольких человек, рассеянных в толпе и блиставших в ней подобно цветам. В самом деле, их синие холщовые шаровары, красные или желтые жилеты, украшенные двумя параллельными рядами медных пуговиц и похожие на квадратные латы, выступали среди белых и меховых одежд яркими пятнами, как васильки и маки в поле пшеницы. У иных на ногах были сабо, которые бретонские крестьяне сами превосходно умеют делать, но у большинства – очень грубые башмаки с железными подковками, а платье, сшитое из толстого сукна, весьма напоминало старинные французские кафтаны, ибо и до наших дней крестьяне все еще свято хранят этот покрой. Воротник рубашки застегивался серебряной запонкой, изображавшей сердце или якорь. Котомки были у них набиты плотнее, чем у других, а многие добавили к своему дорожному снаряжению флягу, несомненно с водкой, и держали ее на бечевке, надетой через голову.
Несколько горожан выделялись среди этих полудикарей приметами самой последней местной моды: они носили круглые шляпы, треуголки или фуражки, сапоги с отворотами или башмаками и гетры, но так же, как и у крестьян, в их костюмах не было однообразия. Человек десять были одеты в короткие куртки, известные при Республике под именем карманьолы. Другие, судя по всему богатые ремесленники, с головы до ног облеклись в одноцветное сукно. Самые щеголеватые отличались более или менее потертыми фраками или сюртуками из синего или зеленого сукна; эти горожане, несомненно именитые особы, были обуты в сапоги различных фасонов и шли, бодро помахивая толстой тростью, как люди, примирившиеся со своей участью. Тщательно напудренные головы и довольно искусно заплетенные косицы свидетельствовали даже о некоторой изысканности, какую прививают начатки богатства или воспитания. Всех этих людей, казалось, удивленных тем, что их как бы случайно собрали из разных мест, можно было счесть за толпу удрученных погорельцев, изгнанных пожаром из родных гнезд. Но время и место такого сборища придавали ему совсем иное значение. Отряд почти целиком состоял из людей, которые четыре года тому назад воевали против Республики, и наблюдатель, посвященный в тайны гражданских распрей, волновавших в те годы Францию, легко распознал бы тут немногих граждан, на чью верность страна могла рассчитывать. Одна довольно резкая черта не оставляла никакого сомнения в том, что этих соединенных вместе людей разделяла разница в убеждениях. Только республиканцы шли весело. Остальные, хотя и заметно отличались друг от друга одеждой, все же сохраняли нечто общее в выражении лица, в позах и в движениях, равно отмеченных несчастьем: и на горожанах, и на крестьянах лежал отпечаток глубокого уныния. В их молчании была угрюмая скорбь; казалось, они сгибались под бременем одной и той же мысли, вероятно, зловещей, но тщательно сокрытой, ибо лица их были непроницаемы, и только необычная медлительность шагов могла выдать какие-то тайные замыслы этих людей. У некоторых из них висели на груди четки, несмотря на опасность выставлять напоказ символы религии, скорее отмененной, чем уничтоженной; время от времени они встряхивали волосами, осторожно поднимали голову, украдкой разглядывали лес, тропинки, скалы, обступившие дорогу, и всем своим видом напоминали тогда охотничью собаку, которая держит нос по ветру, стараясь учуять дичь; не слыша ничего, кроме однообразного звука шагов своих безмолвных спутников, они вновь опускали голову, и вновь возвращалось к ним выражение безнадежности, словно у преступников, которых гонят на каторгу, где им суждено жить и умереть.
Движение отряда на Майенну, разнородный его состав и различные чувства этих людей довольно просто объяснились присутствием другого отряда: в голове колонны шло около ста пятидесяти вооруженных солдат в походном снаряжении, под командой начальника полубригады. Для тех, кто не был свидетелем драматических событий революции, нелишним будет указать, что такое наименование заменило чин полковника, упраздненный патриотами как слишком аристократический. Солдаты принадлежали к пехотной полубригаде, стоявшей гарнизоном в Майенне. В те времена раздоров жители Западной Франции называли всех солдат Республики синими. Такое прозвище связано с первым республиканским мундиром, синим с красной выпушкой, и воспоминание о нем еще настолько свежо, что описывать этот мундир излишне. Итак, отряд синих служил конвоем целого сборища людей, которые почти все испытывали глубокое недовольство оттого, что их направляли в Майенну, где военная дисциплина должна была быстро придать им единообразие духа, одежды и выправку, пока совершенно у них отсутствовавшую.
Колонна эта представляла собою контингент ополченцев, с трудом собранный в Фужерском округе по закону от 10 мессидора о массовом наборе, принятому Исполнительной директорией Французской республики. Правительство потребовало сто миллионов деньгами и сто тысяч солдат, желая спешно послать подкрепление французским армиям, ибо в ту пору их разбили австрийцы в Италии, пруссаки в Германии, а в Швейцарии угрожали им русские, которым Суворов внушил надежду победить Францию. Западные департаменты, известные под именем Вандеи, Бретань и часть Нижней Нормандии, за три года до того усмиренные после четырехлетней войны стараниями генерала Гоша, видимо, воспользовались моментом и возобновили борьбу. Пред лицом стольких врагов Республика вновь обрела свою первоначальную энергию. Прежде всего она приняла меры для защиты департаментов, подвергшихся нападению, и одной из статей закона от 10 мессидора поручила заботу об этом местным патриотам. На деле же правительство, не имея ни денег, ни войск для борьбы с внутренним врагом, вышло из затруднения законодательным фанфаронством: оно не могло ничего послать в восставшие департаменты, зато оказало им доверие. Может быть, оно надеялось, что эта мера, вооружив одних граждан против других, подавит мятеж в самом его зародыше. Статья закона, источник кровавых раздоров, составлена была следующим образом: Сформировать в западных департаментах вольные дружины. Это недипломатичное мероприятие принято было на западе Франции столь враждебно, что Директория[2 - Директория – правительство Французской республики в составе пяти «директоров»; оно представляло интересы крупной буржуазии, разбогатевшей на спекуляциях. Директория просуществовала с конца 1795 г. по 9 ноября 1799 г. (18 брюмера), когда возвратившийся из египетского похода Наполеон совершил государственный переворот и установил режим военной диктатуры.] сразу потеряла надежду восторжествовать и в скором времени потребовала у двух национальных собраний[3 - «…потребовала у двух национальных собраний…» – точнее, у двух палат, из которых состоял Законодательный корпус в годы Директории: Совет Пятисот и Совет Старейшин.] особых мер в отношении тех небольших контингентов, которые следовало набрать в силу статьи закона о «вольных дружинах». Незадолго до начала событий, описываемых в этом повествовании, был обнародован новый закон, изданный в третий дополнительный день VII года, – он предписывал сводить эти слабые контингенты в легионы. Легионы должны были носить название департаментов Сарты, Орна, Майенны, Иля-и-Вилены, Морбигана, Нижней Луары, Мэна-и-Луары. Эти легионы, – гласил закон, – предназначенные исключительно для борьбы с шуанами, ни в коем случае не подлежат переводу на границы Франции. Такие скучные, но мало кому известные подробности нужны для того, чтобы понять и слабость Директории, и причину похода этого сборища людей под конвоем синих. Пожалуй, нелишним будет добавить также, что прекрасные и патриотические постановления Директории никогда не получали иного осуществления, кроме опубликования их в «Бюллетене законов». Декреты Республики уже не опирались на идеи, обладавшие великой моральной силой, на патриотизм или террор, которые когда-то заставляли выполнить их, – на бумаге создавались миллионы франков и сотни тысяч солдат, но ни деньги не поступали в казну, ни солдаты – в армию. Пружина революции ослабла в неумелых руках, и законы, вместо того чтобы подчинять себе обстоятельства, приспособлялись к ним.
В департаментах Иля-и-Вилены и Майенны командующим войсками был тогда старый офицер; увидев на месте, какие меры лучше всего принять, он решил попытаться вырвать рекрутов у Бретани и особенно у Фужера, одного из самых опасных очагов восстания шуанов. Он надеялся ослабить таким путем силы округов, угрожавших Республике. Преданный родине солдат воспользовался мнимой предусмотрительностью закона и объявил, что он тотчас же экипирует, вооружит рекрутов и готов выплатить месячное жалованье, обещанное правительством этим особым войсковым частям. Хотя Бретань в те годы отказывалась от всякого рода военной службы, призыв благодаря этим посулам прошел весьма удачно с такой быстротой, что командующий даже встревожился. Но старого вояку трудно было провести. Как только он увидел, что часть ополченцев немедленно явилась в округ, он заподозрил какую-то скрытую причину столь быстрого сбора и, пожалуй, верно угадал ее, предположив, что бретонцы хотят добыть себе оружие. Он решил тогда, не дожидаясь запоздавших, отойти на Алансон, ближе к покорным округам, хотя из-за восстания, разраставшегося в крае, успех этого плана был весьма гадательным. Повинуясь инструкции, он хранил в глубочайшей тайне неудачи французских армий и малоутешительные вести из Вандеи и в то утро, с которого начинается наш рассказ, сделал попытку достичь форсированным маршем Майенны, где он намеревался применить закон по-своему: пополнить новобранцами из Бретани состав полубригады. Слово «новобранец», впоследствии столь распространенное, впервые заменило в тексте законов название «рекрут», первоначально данное молодым солдатам республиканских войск. Прежде чем выступить из Фужера, командир полубригады отдал своим солдатам приказ тайно взять для всего отряда запас зарядов и хлеба, скрыв от новобранцев, что им предстоит долгий путь: он твердо решил не делать привала в Эрне, где его рекруты, оправившись от неожиданности, могли бы стакнуться с шуанами, без сомнения, рассеянными в окрестностях города. Мрачное безмолвие, царившее среди новобранцев, ошеломленных маневром старого республиканца, и медлительность, с которой они поднимались в гору, в высочайшей степени возбуждали подозрения начальника полубригады, носившего фамилию Юло. Характерные подробности, указанные в нашем описании, представляли для него жизненный интерес, и поэтому он шел в безмолвном раздумье среди пяти офицеров, которые почтительно молчали, видя его озабоченность. Но в ту минуту, когда Юло поднялся на вершину Пелерины, он вдруг, точно по инстинкту, обернулся, желая взглянуть на встревоженные лица новобранцев, и сам прервал молчание. Бретонцы шли все медленнее и уже отстали от конвоя шагов на двести. Юло возмутился и сделал свойственную ему одному гримасу.
– Какого дьявола! Что творится с этими неженками! – крикнул он зычным голосом. – Наши новобранцы, видно, не раскрывают, а закрывают свои циркули.
При этих словах сопровождавшие его офицеры разом обернулись, словно проснувшись от внезапного шума. Сержанты и капралы последовали их примеру, и рота остановилась, не дожидаясь желанной команды «стой!». Сначала офицеры бросили взгляд на колонну, поднимавшуюся по склону горы подобно длинной черепахе, но затем эти молодые люди, которых защита отчизны оторвала, как и многих других, от возвышенных умственных трудов и в которых война еще не угасила артистического чувства, поразились зрелищем, открывшимся перед ними, и оставили без ответа замечание Юло, не подозревая всей его важности. Они пришли из Фужера, откуда также видна картина, представшая их глазам, с тою лишь разницей, какую вносят в нее изменения перспективы, и все же они не могли отказаться от удовольствия в последний раз полюбоваться ею, подобно тому как dilettanti[4 - Любители искусства (ит.).] тем больше наслаждаются музыкальным произведением, чем лучше знают все его детали.
С вершины горы перед ними развернулась долина Куэнона, а на горизонте самая возвышенная точка занята была городом Фужером. Крепость его, построенная на высокой скале, господствует над четырьмя важного значения дорогами, и благодаря этой позиции он некогда был одним из ключей Бретани. С Пелерины офицеры увидели во всей его шири бассейн Куэнона, столь же замечательный необычайным плодородием почвы, как и разнообразием пейзажей. Со всех сторон поднимаются здесь амфитеатром сланцевые горы; красноватые их склоны одеты дубовыми лесами, и меж них таятся прохладные лощины. Скалы стоят широкой, с виду округлой, оградой, а внутри ее, будто английский парк, мягко раскинулся огромный луг. Множество живых изгородей вокруг наследственных неравных клочков земли, обсаженных деревьями, придают этому зеленому ковру облик, редкостный среди французских пейзажей, и тайна его очарования заключается в многообразии контрастов, которые могут поразить даже самую холодную душу. В эту минуту вся картина края была оживлена мимолетным блеском, каким природа любит порою усилить красоту своих нетленных творений. Пока отряд пересекал равнину, восходящее солнце постепенно рассеяло реявший над лугами белый легкий туман сентябрьского утра, и в тот миг, когда офицеры обернулись, словно чья-то незримая рука сняла с пейзажа последний из окутавших его покровов – дымку, тонкую, как пелена прозрачного газа, наброшенная на драгоценности, которые просвечивают сквозь нее, дразня любопытство. На всем широком горизонте не было в небе ни единого облачка, чья серебристая белизна могла бы убедить, что этот огромный голубой купол – действительно небосвод. Он казался скорее шелковым шатром, опиравшимся на неровные горные вершины и как будто воздвигнутым в воздухе для того, чтобы защитить от непогоды великолепное сочетание полей, лугов, ручьев и рощ. Офицеры не могли налюбоваться этим простором, где нежданно возникло перед ними столько сельских красот. Одни колебались, не зная, на какой рощице остановить свой взгляд, ибо каждая изумляла разнообразием окраски, казавшейся еще богаче от суровых бронзовых тонов пожелтевшей листвы на фоне изумрудной зелени неравномерно скошенных лугов. Других привлекали контрастами своих оттенков убранные нивы, чередование золотистых полос сжатой ржи и красноватых полей гречихи, где снопы стояли в конических копнах, словно ружья, составленные солдатами в козлы на биваке. То тут, то там виднелись темные шиферные кровли жилищ, и над ними поднимался белый дымок; но больше всего манили взор обманчивой оптической игрой и почему-то пробуждали в душе смутную мечтательность живые серебристые линии извилистых притоков Куэнона. Благоуханная свежесть осеннего ветра, мощные запахи лесов поднимались облаком фимиама, опьяняя наших зрителей, с восхищением созерцавших этот прекрасный край, его незнакомые цветы, буйную растительность и яркую зелень, которой он соперничает с Британией, своей одноименной соседкой. Небольшие стада оживляли эту сцену, уже столь захватывающую. Пели птицы, и над долиной в воздухе трепетала негромкая нежная мелодия. Если читатели пожелают призвать на помощь силу воображения и оно нарисует им роскошную игру света и тени, мглистый горный горизонт, фантастические дали, открывавшиеся там, где пространство не заслоняли деревья, где воды разливались плесами или бежали прихотливыми излучинами, если воспоминания, так сказать, раскрасят этот набросок, столь же беглый, как и то мгновенье, когда он возник, – люди, для которых такие картины не лишены прелести, все же получат несовершенное представление о волшебном зрелище, поразившем офицеров до глубины молодой впечатлительной души.
Они подумали тогда, что беднягам новобранцам тяжело покинуть родной край и дорогие им обычаи, – быть может, для того, чтобы умереть на чужбине; они поняли и невольно простили этим людям их медлительность, но с великодушием, свойственным солдату, скрыли свое снисходительное сочувствие, делая вид, что они просто желают изучить военные позиции этой живописной местности. Однако Юло – лучше называть его «командир», чтобы избежать неблагозвучного наименования «начальник полубригады», – был одним из тех солдат, которые пред лицом опасности не поддаются очарованию пейзажей, будь это даже рай земной. Он недовольно вскинул голову и насупил густые черные брови, придававшие его лицу суровое выражение.
– Какого дьявола они мешкают? Почему не идут? – вторично спросил он голосом, огрубевшим в походах. – Или в деревне нашлась какая-нибудь добрая Богоматерь, и они пожимают ей на прощание руку?
– Ты спрашиваешь – почему? – откликнулся чей-то голос.
Голос этот напоминал звук рога, которым крестьяне в долинах Бретани собирают свои стада; услышав его, командир резко обернулся, словно его кольнули шпагой, и в двух шагах от себя увидел существо, еще более странное, нежели новобранцы, которых вели в Майенну на службу Республике. У этого незнакомого человека, коренастого и плечистого, голова походила на бычью, и не только своей величиною; от широких мясистых ноздрей нос его казался короче, чем на самом деле; толстые губы, вздернутые над белоснежными зубами, черные круглые глаза и грозные брови, оттопыренные уши и рыжие волосы – все это менее соответствовало нашей прекрасной кавказской расе, чем роду травоядных. И, наконец, полное отсутствие признаков, свойственных человеку как существу общественному, делало эту обнаженную голову еще более примечательной. Лицо, бронзовое от загара, угловатыми своими контурами было сродни граниту, образующему подпочву в Бретани, и являлось единственной доступной взглядам частью тела этого необычайного существа, по самое горло закутанного в балахон из небеленого холста, еще более грубого, чем холст на шароварах самых бедных новобранцев. Балахон, в котором знатоки старины узнали бы «сей», или «сейон», древних галлов, доходил до пояса и пристегивался к штанам из козьей шкуры посредством кусочков дерева, грубо вырезанных и плохо очищенных от коры. Под этими меховыми чехлами, облегавшими бедра и ноги, нельзя было различить очертаний человеческого тела. Огромные сабо закрывали ступни. Длинные лоснящиеся волосы, почти не отличимые от козьей шерсти, окаймляли лицо двумя широкими прядями, как у средневековых статуй, еще встречающихся в старинных соборах. Вместо суковатой палки, которую несли на плече новобранцы, он прижимал к груди, точно ружье, искусно сплетенный из кожаных ремней кнут, вдвое длиннее обычных кнутов. Внезапное появление удивительного пришельца казалось легко объяснимым. Взглянув на него, офицеры предположили, что это новобранец, или рекрут (слова эти еще употреблялись одно вместо другого), и что он поджидает остановившуюся колонну. Однако появление его почему-то поразило командира. Юло отнюдь не казался испуганным, но все же на лицо его легла тень беспокойства, и, смерив незнакомца взглядом, он повторил машинально, словно был поглощен мрачными мыслями:
– Да, почему они не идут? Ты не знаешь?
Сумрачный его собеседник ответил с акцентом, доказывавшим, что ему довольно трудно говорить по-французски:
– Потому что там начинается Мэн и кончается Бретань, – сказал он, протянув большую грубую руку по направлению к Эрне.
И он с силой ударил тяжелым кнутовищем о землю у самых ног командира. Лаконическая отповедь незнакомца произвела на свидетелей этой сцены впечатление, подобное внезапному грохоту тамтама посреди плавных звуков музыкальной мелодии. Слово «отповедь» с трудом может передать ту ненависть и жажду мести, которые выразили высокомерный жест, отрывистая речь и весь облик незнакомца, носивший отпечаток свирепой и холодной энергии. Грубая, корявая оболочка этого человека, как будто вытесанная топором, черты лица, отмеченного тупым невежеством, придавали ему сходство с полубогом какого-то варварского культа. Он стоял в позе пророка, он появился словно дух самой Бретани, пробудившийся от трехлетнего сна для того, чтобы возобновить войну, где каждая победа неизменно влекла за собою двойной траур.
– Ну и образина! – тихо произнес Юло. – Очень похоже, что его подослали те молодчики, которые готовятся повести с нами переговоры ружейными выстрелами.
Пробормотав сквозь зубы эти слова, Юло перевел взгляд с незнакомца на пейзаж, с пейзажа на отряд, с отряда на крутые откосы дороги, поросшие вверху высокими кустами бретонского дрока, затем вновь обратил взор на незнакомца и наконец, как будто подвергнув его немому допросу, резко сказал:
– Ты откуда?
Он впился в пришельца пронизывающим взглядом, стараясь разгадать тайну этого непроницаемого лица, уже ставшего тупым и каменным, – обычная повадка отдыхающего крестьянина.
– С родины молодцов, – ответил незнакомец, не выказывая ни малейшего смущения.
– Как тебя зовут?
– Крадись-по-Земле.
– Почему ты носишь шуанскую кличку? Закон это запрещает.
Крадись-по-Земле, как назвал себя бретонец, посмотрел на Юло с неподдельно глупым недоумением, и старый воин подумал, что этот человек не понял его.
– Ты из фужерских новобранцев?
На этот вопрос Крадись-по-Земле ответил: «Не знаю» – с такой интонацией, которая может привести в отчаяние и делает беседу невозможной. Он спокойно присел у дороги, вытащил из-за пазухи несколько кусков тонкой темной лепешки из гречневой муки – национальное лакомство, убогая прелесть которого понятна только бретонцам, – и с тупым, безразличным видом принялся за еду. В эту минуту он казался существом, вовсе лишенным разума, и офицеры сравнивали его то с одним из тех животных, что щипали траву на тучных пастбищах долины, то с дикарями Америки, то с каким-нибудь обитателем мыса Доброй Надежды. Даже самого командира обманул его вид, и он перестал было тревожиться, но вдруг, бросив из осторожности последний взгляд на этого человека, в котором он подозревал вестника близкой резни, он увидел у него в волосах, на балахоне и козьих шкурах колючки, обрывки листьев, веточки деревьев и кустов, как будто шуан долго пробирался сквозь лесную чащу. Тогда Юло многозначительно посмотрел на своего адъютанта Жерара, стоявшего рядом с ним, и, крепко сжав его руку, сказал вполголоса:
– Пошли за шерстью, а вернемся стрижеными.
Удивленные офицеры молча переглянулись.
Здесь необходимо сделать отступление для того, чтобы опасения Юло стали понятны иным домоседам, привыкшим сомневаться во всем, ибо они ничего на своем веку не видели, и способным оспаривать самое существование Крадись-по-Земле и крестьян Западной Франции, чье поведение было в ту пору поразительным.
Слово gars, которое произносится как g? (га), является остатком кельтского языка. Из нижнебретонского оно перешло во французский, и в современном нашем языке с этим словом связано особенно много воспоминаний о старине. Gais было главным оружием гаэлов, или галлов, gaisde означало – «вооруженный», gais – «храбрость», a gas – «сила». Эти сопоставления доказывают родство слова gars с выражениями, существовавшими в языке наших предков. Здесь мы находим аналогию с латинским словом vir – «муж», корнем слова virtus – «сила, доблесть». Оправданием такого длинного рассуждения послужит национальное чувство, и, быть может, нам удастся реабилитировать в умах некоторых людей слова: gars, gar?on, gar?onette, garce, garcette, обычно изгоняемые из нашей речи, как слова грубые; происхождение этих слов весьма воинственное, и порою они будут появляться в нашем повествовании. Выражение «молодчина баба» – вот плохо понятая похвала, которую г-жа де Сталь получила в глухом вандейском кантоне, где она провела несколько дней, будучи в изгнании.
Из всех областей Франции в Бретани нравы древних галлов оставили наиболее сильный отпечаток. Та часть Бретани, где еще и поныне дикая жизнь и суеверный дух наших суровых предков, так сказать, сохранили свою свежесть, называется «край молодцов». Если в каком-нибудь кантоне живет значительное число дикарей, подобных герою описываемой нами сцены, местные жители говорят: «молодцы такого-то прихода». И это укоренившееся прозвище как бы служит наградой за их верность старине и традициям гаэльских нравов и гаэльского языка: вся их жизнь хранит глубокие следы верований и суеверных обрядов древних времен. Тут всё еще соблюдают феодальные обычаи. Тут любители старины находят в целости памятники друидов, а дух современной цивилизации страшится проникнуть сквозь дремучие, первобытные леса. Невероятная жестокость, дикое упрямство, но вместе с тем верность клятве; полное пренебрежение нашими законами, нашими нравами, нашей одеждой, нашей новой монетой, нашим языком и вместе с тем патриархальная простота и героическая доблесть – все способствует тому, что жители этих мест беднее мыслями, чем могикане и краснокожие Северной Америки, но столь же сильны духом, столь же хитры и выносливы, как они. Положение Бретани в центре Европы делает ее более любопытной для наблюдателя, нежели Канада. Она окружена светом цивилизации, но благодетельные лучи не достигают ее, и этот край подобен промерзшему куску угля, остающемуся совсем темным посреди сверкающего очага. Все усилия некоторых великих умов привлечь к общественной жизни и процветанию эту прекрасную область Франции, богатую неразведанными сокровищами, и даже все попытки правительства разбиваются о косность населения, преданного мертвящим обычаям седой старины. Эту беду довольно легко объясняет характер местности, изрезанной оврагами, потоками, озерами и болотами; вздыбленная повсюду щетина живых изгородей, своего рода земляные бастионы, превращающие каждое поле в крепость; отсутствие во всей области дорог и каналов, а также дух невежественного населения, его закоренелые и опасные предрассудки, как то покажут некоторые подробности нашей повести, и нежелание усвоить современные способы земледелия. Гористая поверхность края и суеверия его жителей мешали возникновению больших поселений, а следовательно, благодетельному воздействию общения и обмена идей. Здесь нет деревень. Непрочные постройки, именуемые здесь дворами, разбросаны в одиночку. Каждая семья живет в своем дворе, как среди пустыни. Единственные известные здесь сборища – сходки, созываемые в каждом приходе по воскресеньям и другим церковным праздникам. На этих молчаливых собраниях царит «ректор» – властитель этих грубых умов, и длятся они иногда несколько часов. Выслушав грозную речь священника, крестьянин на всю неделю возвращается в свое вредное для здоровья жилище, выходит из него утром на работу и возвращается на ночлег. Если кто и навещает его, то только ректор – душа края. Не удивительно, что по призыву священников тысячи людей ринулись против Республики и за пять лет до того времени, к которому относится наше повествование, эта часть Бретани доставила множество солдат для первого мятежа шуанов. Братья Котро[5 - Братья Котро. – Один из них Жан, прозванный Шуан (то есть Сова, по его характерному свисту-сигналу, отсюда – «шуаны»), был предводителем вандейских контрреволюционных банд. Он поднял мятеж против Республики в конце 1793 г. и был убит в 1794 г. Ко времени действия «Шуанов» в живых остался лишь один из братьев Котро.], смелые контрабандисты, которые дали название этой войне, занимались своим опасным ремеслом на всем пространстве от Лаваля до Фужера. Но в восстании этой провинции не было ничего благородного, и можно с уверенностью сказать, что если Вандея разбой превратила в войну, то Бретань войну превратила в разбой. Изгнание королевского дома и запрещение религии служили шуанам лишь поводом для грабежа, и события этой междоусобной войны отмечены дикой жестокостью, свойственной местным нравам. Когда подлинные защитники монархии явились в Бретань с целью набрать солдат среди ее невежественного и воинственного населения, они тщетно пытались придать при помощи белого знамени какое-то величие гнусным действиям мятежников. Шуаны показали памятный пример, насколько опасно поднимать нецивилизованные массы страны. Набросок первой долины Бретани, открывающейся путешественнику, описание людей, входивших в отряд новобранцев, портрет бретонца, появившегося на вершине Пелерины, дают вкратце верную картину этой провинции и характера ее жителей. Изощренное воображение может по этим деталям нарисовать театр и способы войны шуанов – тут были налицо все ее элементы. В живописных долинах, за цветущими изгородями прятались невидимые враги, готовые к нападению. Каждая нива была тут крепостью, каждое дерево прикрывало западню, каждый дуплистый ствол старой вербы таил какую-нибудь военную хитрость. Поле сражения было повсюду. Шуаны подстерегали синих на поворотах дорог, девушки улыбками завлекали их под огонь ружей, не видя в том предательства. Они ходили с отцами и братьями на богомолье просить деревянную, источенную червями Богоматерь наставить их в новых хитростях и отпустить им грехи. Религия, или, вернее, фетишизм, этих невежественных созданий избавлял убийцу от угрызения совести. И поэтому, едва началась такая война, все в этом краю стало опасным: шум и тишина, милость и террор, домашний очаг и большая дорога. В предательствах тут была убежденность. Эти дикари служили Богу и королю такими же способами, какими ведут войну могикане. Но для того чтобы дать правдивую и совершенно точную картину этой борьбы, историк должен добавить, что, лишь только был подписан мир, предложенный Гошем, весь край вновь стал веселым и дружественным. Семьи, еще накануне готовые растерзать друг друга, на следующий день спокойно ужинали под одной кровлей.
В ту минуту, когда Юло разгадал тайну вероломных замыслов, которую выдали ему козьи шкуры Крадись-по-Земле, он убедился, что благодетельный мир, каким Франция обязана была дарованиям Гоша, нарушен и сохранить этот мир невозможно. Итак, в результате трехлетнего бездействия правительства война возобновлялась, и, несомненно, более ужасная, чем прежде. Революция, смягчившаяся после 9 термидора[6 - «Революция, смягчившаяся после 9 термидора…» – то есть после 27 июля 1794 г., когда были свергнуты якобинцы. В действительности, смягчился террор против врагов Республики, якобинцы же подверглись жесточайшим преследованиям.], теперь, очевидно, должна была вновь прибегнуть к террору, который сделал ее ненавистной для благонамеренных умов. И как всегда, внутренние раздоры во Франции разжигало золото Англии. Республика, покинутая молодым Бонапартом[7 - «Республика, покинутая молодым Бонапартом…» – Бонапарт предпринял поход в Египет, но бросил армию и возвратился в октябре 1799 г. в Париж, когда узнал о создавшихся к концу 1799 г. благоприятных условиях для свержения Директории.], казавшимся ее гением-покровителем, видимо, была не в состоянии сопротивляться стольким врагам, а самый жестокий из них выступил последним. Гражданская война, возвещенная множеством отдельных мелких восстаний, явно принимала новый, небывало серьезный характер, раз шуаны задумали напасть на такой сильный конвой. Вот какие размышления, хотя и гораздо менее краткие, возникли в голове Юло, как только он увидел в появлении Крадись-по-Земле признак искусно подготовленной засады; но сначала лишь он один проник в тайну опасности.
Молчание, наступившее после пророческой фразы Юло, обращенной им к Жерару в конце предыдущей сцены, помогло командиру вновь обрести хладнокровие. Старый солдат едва не растерялся. Он не мог прогнать облако заботы, омрачившее его лоб, когда подумал о том, что его уже подстерегают ужасы войны, зверской жестокости которой устыдились бы и каннибалы. Его друзья, капитан Мерль и майор Жерар, пытались объяснить себе столь новое для них боязливое выражение на лице Юло: они смотрели на Крадись-по-Земле, который жевал лепешку, сидя у дороги, и оба не могли найти ни малейшей связи между этим подобием животного и тревогой их отважного командира. Но вскоре лицо его просветлело. Горюя о бедствиях Республики, Юло радовался случаю послужить ей в сражении и весело дал себе слово не попасть впросак и разгадать дьявольски хитрого лазутчика, которого подослали шуаны, оказав таким выбором честь неприятелю. Прежде чем принять решение, он принялся рассматривать позицию, где враги хотели напасть на него врасплох. Увидев, что дорога, на которой он остановился, проходит через овраг неглубокий, но окаймленный лесом и что к этому оврагу ведет несколько тропинок, он нахмурил густые черные брови и взволнованным голосом тихо сказал двум своим друзьям:
– Мы попали в осиное гнездо.
– Чего же вы боитесь? – спросил Жерар.
– Боюсь? – переспросил Юло. – Да, боюсь. Я всегда боялся, как бы меня, словно собаку, не пристрелили из лесу, даже не крикнув: «Берегись!»
Мерль засмеялся:
– Ну, «берегись» – это уж роскошь!