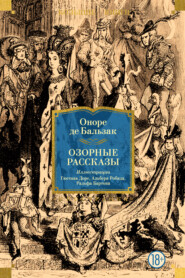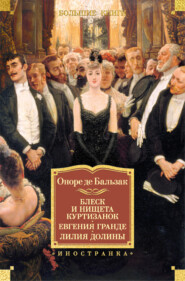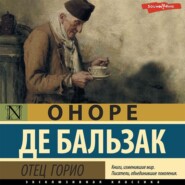По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Евгения Гранде. Тридцатилетняя женщина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, не могу! Нужно посоветоваться с женой; без нее, вы знаете, я ни шагу не делаю.
А жена его, сущая илотка, была доведена им до полнейшей инерции. В сделках, как сейчас заметили мы, она была у него вроде щита. Гранде ни с кем не знакомился, никого не звал к себе, да и сам ни к кому не ходил. Он не любил шума и скупился даже и на движение. Ни у кого ничего не трогал и никого не беспокоил из уважения к собственности. Впрочем, несмотря на свое сладкоречие, двусмысленность и осторожность, бочар всегда выказывался настоящим бочаром в словах и ухватках, особенно дома, где он не любил воздерживаться.
С виду Гранде был футов пяти ростом, плотный и здоровый. Ноги его были двенадцати дюймов в окружности; мускулист и широкоплеч. Лицо круглое и рябоватое. Подбородок его был прямой, губы тонкие и ровные, зубы белые. Взгляд мягкий, ласковый, жадный, взгляд василиска. Лоб, изрезанный морщинами, с замечательными выпуклостями. Волосы его желтели и седели, все в одно время – золото и серебро, по выражению охотников пошутить, вероятно не знавших, что с Гранде не шутят. На толстом носу его висела красная шишка, в которой иные люди склонны были усматривать тайное коварство. В целом выражало тихость сомнительную, холодную честность и эгоизм скупца. Замечали еще в нем одно – привязанность, любовь к своей дочери Евгении, единственной наследнице. Походка, приемы выражали самоуверенность, удачу во всем; и действительно, Гранде, хотя тихий и уклончивый, был твердого, железного характера.
Одежда его была всегда одинакова; в 1820 году он одевался точно так же, как и в 1791 году. Толстые башмаки с медными застежками, нитяные чулки, панталоны короткие, толстого темного сукна, с серебряными пуговками; шерстяной жилет с желтыми и темными полосками, застегнутый сверху донизу, и просторный, каштановою цвета сюртук, белый галстук и широкополая квакерская шляпа. Перчатки у него были толстые, неуклюжие, столь же прочные, что перчатки жандармов, – в два года одна пара; всегда методически раскладывал он их в одном и том же месте, на полях своей шляпы.
Более ничего не знали о нем в Сомюре. Шесть лиц имели право посещать его дом.
Самым значительным лицом из первых трех был племянник нотариуса Крюшо. После своего назначения президентом сомюрского суда первой инстанции Крюшо-племянник к фамилии своей присоединил еще словцо де Бонфон и всеми силами старался называться просто де Бонфон, а потому обыкновенно подписывался К. де Бонфон. Неловкий проситель г-на Крюшо, забывший де Бонфона, поздно уже замечал свою ошибку. Президент особенно покровительствовал тем, кто называл его президентом, но льстил и улыбался тому, кто называл его де Бонфоном. Президенту было тридцать три года. Бонфон было название его поместья (Bonae Fontis), приносившего ему тысяч до семи ливров дохода. Кроме того, он был единственным наследником своего дяди, нотариуса, и другого дяди, аббата Крюшо, избранного в капитул св. Мартена Турского; оба они слыли довольно богатыми. Трое Крюшо, поддерживаемые порядочным числом кузенов, кузин и родней почти двадцати домов сомюрских, составляли свою особую партию, как некогда фамилия Пази во Флоренции, и, подобно Пази, Крюшо имели противников.
Г-жа де Грассен, мать двадцатичетырехлетнего юноши, частенько приходила к г-же Гранде составлять с ней партию в лото, надеясь непременно женить своего возлюбленного Адольфа на девице Евгении Гранде. Г-н де Грассен, банкир, помогал жене беспрерывными услугами старому скупцу и всегда вовремя поспевал на поле битвы. Трое де Грассенов имели тоже верных союзников кузенов, кузин и т. п.
Со стороны же Крюшо работал их аббатик, Талейран в миниатюре; достославно поддерживаемый братом-нотариусом, он с честью выдерживал бой с банкиршей в пользу своего племянника-президента. Битвы де Грассенов с тремя Крюшо и их партией за Евгению возбуждали большое внимание в Сомюре.
Кому-то достанется Евгения: президенту или Адольфу де Грассену?
Задачу разрешили тем, что де не достанется ни тому ни другому, что бочар зазнался и хочет иметь своим зятем не иначе как пэра Франции, который бы решился взять в придачу к двумстам тысячам ливров годового дохода все бочки своего тестюшки.
Другие выставляли на вид дворянство и богатство де Грассенов; говорили, что Адольф ловок, хорош собою и что кого же и выбрать, ежели не его? Разве уж найдется какой-нибудь папский племянник – тогда дело другое, а что и теперь уже много чести Гранде, которого весь Сомюр видел с долотом в руке и когда-то санкюлотом. Наблюдатели заметили, что г-н Крюшо де Бонфон мог ходить к старику во всякое время, а Адольф де Грассен – только по воскресеньям. Говорили, что г-жа де Грассен, более связанная с женщинами семьи Гранде, чем представители дома Крюшо, могла внушить им некоторые мысли, которые рано или поздно должны были привести ее к победе. Им отвечали, что аббат Крюшо – претонкая штука и что если сойдутся где аббат да женщина, так силы всегда одинаковы. «Рукояти их шпаг всегда на равном расстоянии», как выразился один досужий сомюрский остроумец.
Старожилы полагали, что Гранде не захотят выпустить добра из фамилии. По их мнению, Евгения непременно выйдет за своего кузена, сына купца Гильома Гранде, богатейшего виноторговца оптом в Париже. Обе сомюрские партии возражали им тем, что, во-первых, старики уже тридцать лет как не видались друг с другом; во-вторых, что парижанин не так думает устроить судьбу своего сына, что он мэр округа, депутат, полковник Национальной гвардии, судья в коммерческом суде; что он давно уже отступился от сомюрских Гранде и ищет сыну дочь какого-нибудь дешевенького наполеоновского герцога.
И много было еще говорено о богатой наследнице, почти на двадцать миль кругом и даже в омнибусах, ходивших между Блуа и Анжером.
В начале 1818 года победа была совершенно на стороне Крюшо. Имение Фруафонд, славившееся своим великолепным парком, великолепным замком, фермами, прудами, рекой, лесом, поступило в продажу; молодой маркиз де Фруафонд продавал его по необходимости, нуждаясь в деньгах. Крюшо с союзниками упросили маркиза не продавать имение по частям. Нотариус представил ему все невыгоды, все хлопоты продажи по участкам, особенно в получении денег с покупателей, что де лучше продать все разом и вот, например, Гранде готов заплатить хоть сейчас. Тогда владение Фруафонд было куплено стариком, и он, к величайшему удивлению сомюрцев, заплатил, не поморщившись, все три миллиона чистыми деньгами, звонкой монетой. Об этой покупке стали говорить и в Нанте, и в Орлеане.
Гранде сел в тележку, возвращавшуюся по случаю из Сомюра во Фруафонд, и поехал осматривать свои поместья. Он воротился весьма довольный тем, что поместил свои капиталы по пяти на сто, и тут же задумал округлить маркизат Фруафонд, присоединив к нему и свои земли. Но чтобы насыпать снова сундук свой, он решился вырубить свои леса и тополи на лугах аббатства Нойе.
Теперь понятна ли будет вся значительность выражения: дом господина Гранде? Дом этот был наружности мрачной, угрюмой, а выстроен был он в самой высокой части города, возле развалин старинных укреплений. Два столба со сводом, составлявшие вход, были построены из мелового песчаника – белого луарского камня, слабого, мягкого, не выносившего более двухсот лет при постройках.
Множество углублений, дыр и трещин неправильной, разнообразной формы, изрытых временем в столбах и на своде входа, рисовалось на них причудливыми, фантастическими арабесками и придавало им вид выветрившихся глыб готического зодчества. Все в целом походило несколько на крыльцо какой-нибудь городской тюрьмы. Выше свода был барельеф из твердого камня, с почернелыми и попорченными фигурами, изображавшими четыре времени года. Над барельефом тянулся плинт, из-за которого возвышали вершинки свои дикие растения и деревья, случайно зародившиеся в трещинах камня, – желтая стеница, повилика, папушник и молоденький вишенник, впрочем, уже довольно высокий.
Толстая дубовая дверь, черная, потрескавшаяся, слабая с виду, была твердо скреплена толстыми железными болтами, симметрически на ней расположенными. Маленькое квадратное окошечко с толстой заржавевшей решеткой было прорезано в дверях калитки; в эту решетку колотили молотком, привязанным тут же к кольцу. Этот удлиненный молоток, из разряда тех, которые наши предки называли «маятником», походил на жирный восклицательный знак; при тщательном изучении антикварий мог бы различить на нем следы шутовской фигуры, некогда изображенной здесь и совершенно стертой длительным употреблением.
Глядя через решетку, сквозь которую когда-то, в эпоху гражданских войн, высматривали друга и недруга, можно было заметить в конце длинного темного свода несколько полуразбитых ступеней; они вели в сад, живописно разбросанный около древних стен укреплений, позеленевших и обросших мхом и плющом. Далее за стенами, над укреплениями, виднелись дома и зеленели сады соседей.
Самая замечательная комната в нижнем этаже этого дома была зала. Вход в нее был прямо из ворот. Немногие знают, какое значение имеет зала для обитателей маленьких городков в Турени, Анжу и Берри. Зала в одно и то же время могла служить прихожей, гостиной, кабинетом, будуаром, столовой; зала – это театр, сцена для частной семейной жизни. В зале Гранде происходили все обычные семейные собрания; в эту комнату сосед-парикмахер два раза в год приходил стричь волосы старика Гранде; сюда являлись его фермеры, священник, префект и нарочный с мельницы. Два окна этой комнаты с дощатым полом выходили на улицу. Комната сверху донизу была обшита темным деревом со старинной резьбой; потолок с выступающими балками был также расписан в старинном вкусе и под цвет обшивки стен; пространство между балками было густо выбелено, но все было старо и пожелтело от времени.
Комната нагревалась камином, над которым было вделано в стене зеркало, зеленоватого стекла и с резанными наискось боками, которые сияли ярко от преломлений лучей света в гранях окраин зеркала вдоль стильной готической рамы с инкрустациями.
По бокам камина стояли два жирандоля, медные, позолоченные, с двумя рожками. Когда снимали эти рожки со стержня, на котором укреплен был общий конец их, то мраморный пьедестал с медным стержнем, в него вделанным, годился для каждодневного употребления как обыкновенный подсвечник. Кресла и стулья старого фасона были обиты вышитой тканью с рисунками, изображавшими сцены из басен Лафонтена; но трудно было уже разобрать эти рисунки: так они были потерты и изношены от времени и употребления. По четырем углам комнаты стояли этажерки, а в простенке между окнами – ломберный столик наборной работы; верхняя складная доска его сделана была в виде шашечницы. Над столом, в простенке, висел овальный барометр черного дерева, с золочеными каемочками, испачканный и изгаженный кругом мухами. На стене против камина висели два портрета, писанные пастелью, – один с покойного г-на Ла Бертельера, изображенного в мундире гвардии лейтенанта; другой портрет изображал покойную г-жу Жантилье в костюме аркадской пастушки. Перед окнами были красиво драпированы красные занавески из турской материи. Толстые шелковые шнурки с кистями церковного убранства связывали узлы драпировки. Эти роскошные занавески, так неуместные в этом доме, были выговорены господином Гранде в свою пользу при покупке дома, равно как и зеркало, стенные часы, ковровая мебель и угловые этажерки розового дерева.
В амбразуре окна, ближайшего к двери, стоял соломенный стул госпожи Гранде; он возвышался на подставке, чтобы можно было смотреть на улицу. Перед ним стоял простенький рабочий столик из выцветшего черешневого дерева. Маленькие кресла Евгении стояли тут же возле окна.
И целых пятнадцать лет прошли день за днем. Мать и дочь постоянно просиживали целые дни на одном и том же месте за своим рукоделием, с апреля месяца до самого ноября. С первого числа мать и дочь переселялись к камину, потому что только с этого дня в доме начиналась топка, которая потом и оканчивалась 31 марта, несмотря на холодные дни ранней весны и поздней осени. Тогда Длинная Нанета сберегала обыкновенно несколько угольев от кухонной топки и приносила их на жаровне, над которой мать и дочь могли отогревать свои окостеневшие от холода пальцы в наиболее суровые вечера или утра апреля и октября.
Все домашнее белье лежало на руках матери и дочери; весь день уходил у них на эту работу, так что когда Евгении хотелось сделать какой-нибудь подарочек матери из своего рукоделия, то приходилось работать по ночам, обманывая отца ради ночного освещения. Уже с давних времен скряга начал сам выдавать свечи своей служанке и дочери, равно как хлеб, овощи и всю провизию для обеда и завтрака.
Одна только Длинная Нанета могла ужиться в услужении у такого деспота, как старик Гранде. Целый город завидовал старику, видя у него такую верную служанку. Длинная Нанета, получившая свое прозвание по богатырскому росту (пять футов восемь дюймов), служила уже тридцать пять лет у господина Гранде. Она была одной из самых богатых служанок Сомюра, хотя жалованья получала всего шестьдесят ливров. Накопившуюся сумму, около четырех тысяч ливров, Нанета отдала нотариусу Крюшо на проценты. Разумеется, эта сумма была для нее весьма значительна, и всякая служанка в Сомюре, видя у бедной Нанеты мерный кусок хлеба под старость дней ее, завидовала ей, не думая о том, какими кровавыми трудами заработаны эти денежки.
Когда ей было двадцать два года, она была без хлеба и без пристанища; никто не хотел взять ее в услужение по причине ее необыкновенно уродливой фигуры, и, разумеется, все были несправедливы. Конечно, если бы природа создала ее гвардейским гренадером, то всякий бы назвал молодцом такого тренадера; но, как говорится, все должно быть кстати. Нанета, потерявшая по причине пожара место на одной ферме, где ходила за коровами, явилась в Сомюр и, воодушевленная уверенностью и надеждой, начала искать всюду места и не падала духом, готовая принять любую работу.
В это самое время Гранде собирался жениться и стал подумывать о будущем хозяйстве. Нанета явилась кстати, тут как тут. Как истинный бочар, умея ценить физическую силу в своем работнике, Гранде угадал сразу всю выгоду, какую мог извлечь, имея у себя геркулеса – работницу, держащуюся на своих ногах, как шестидесятилетний дуб на своих корнях, с могучими бедрами, с квадратной спиной, с руками возницы и столь же непоколебимой честностью, сколь незапятнанной была ее нравственность. Он с наслаждением смотрел на ее высокий рост, жилистые руки, крепкие члены; ни безобразие солдатского лица Длинной Нанеты, ни его кирпичный оттенок, ни рубище, ее прикрывавшее, не устрашили Гранде нисколько, хотя он еще находился в том возрасте, когда сердце живо откликается на подобные явления. Он принял ее в свой дом, одел, накормил, дал ей работу и жалованье. Крепко привязалось сердце бедного создания к новому господину; Нанета плакала потихоньку от радости. Бочар завалил ее работой. Нанета делала все: стряпала кушанье, приготовляла щелок, мыла белье на Луаре, приносила его на собственных плечах, вставала рано, ложилась поздно, во время сбора винограда готовила обед на всех работников, смотрела за ними, как верная собака, стояла горой за соломинку из добра господского и без ропота исполняла в точности самые странные фантазии чудака Гранде.
После двадцатилетней верной службы Нанеты, в 1811 году, счастливом для виноградников, Гранде решился наконец подарить ей свои старые часы; это был первый и единственный подарок старика Гранде. Правда, он дарил иногда ей ветхие башмаки свои, но нельзя сказать, чтобы могла быть какая-нибудь выгода от старых башмаков господина Гранде: они были всегда донельзя изношены. Сперва нужда, а потом и привычка сделали Нанету скупой, и старик полюбил свою служанку, полюбил ее, как верную старую собаку; Нанета позволила надеть себе колючий ошейник, уже не причинявший ей никакого беспокойства.
Она не жаловалась, если, например, старику Гранде приходилось иногда обвесить ее при выдаче хлеба к остальной провизии. Не жалуясь, сносила иногда и голод, потому что бочар приучал своих домашних к строжайшей диете, хотя в этом доме никто никогда не был болен. Наконец Нанета стала настоящим членом семейства; она привязалась всей силой души своей ко всем членам этой фамилии; она смеялась, когда смеялся старик Гранде, работала, когда он работал, зябла, когда ему было холодно, и отогревалась, когда ему было жарко. Как отрадно было сердцу Нанеты, привязанному святым, бескорыстным чувством благодарности к благодетелю своему, в свычке с ним, в неограниченной к нему преданности! Никогда ни в чем не мог упрекнуть сварливый, скупой Гранде свою верную Нанету; ни одна кисть винограда не была взята ею без позволения; ни одна груша, упавшая с дерева, не съедена потихоньку. Нанета берегла, хранила все, заботилась обо всем.
– Ну, ешь, Нанета, полакомься, – говорил иногда Гранде, обходя свой сад, где ветви ломались от изобилия плодов, которые бросали свиньям, не зная, куда девать излишек.
Отрадно было бедному созданию, когда старик изволил смеяться, забавляться с ней: это было очень, очень много для бедной девушки, призренной Христа ради, вытерпевшей одни лишения да побои. Сердце ее было просто и чисто, и душа свято хранила чувство благодарности. Живо помнила она, как тридцать пять лет назад она явилась на пороге этого дома, бедная, голодная, в рубище и с босыми ногами, и как Гранде встретил ее вопросом:
– Ну, что ж тебе нужно, красавица?
И сердце дрожало в груди ее при одном воспоминании об этом дне. Иногда Гранде приходило в голову, что его бедняжка Нанета целую жизнь не слыхала от мужчины слова приветливого, не знала, не испытала ни одного наслаждения в жизни, самого невинного, данного в удел женщине, – наслаждения нравиться, например, – и сможет когда-нибудь предстать перед Творцом более непорочной, чем сама Дева Мария; и Гранде, в припадке жалости, говорил иногда:
– Ах, бедняжка Нанета!
И когда он говорил это, то встречал потом тихий взор служанки своей, взор, блестевший неизъяснимым чувством благодарности. Одно это слово, произносимое стариком от времени до времени, составляло звено из непрерывной цепи нежной дружбы и бескорыстной преданности служанки к своему господину. И это сострадание, явившееся в черством, окаменевшем сердце старого скряги, было как-то грубо, жестко, носило отпечаток беспощадной жестокости. Старику было любо пожалеть Нанету по-своему, а Нанета, не добираясь до настоящего смысла, блаженствовала, видя любовь к себе своего господина. Кто из нас не повторит возгласа: «Бедняжка Нанета!..» Творец узнает своих ангелов по интонациям их голосов и таинственному звучанию их жалоб.
Много было семейных домов в Сомюре, где слуги содержались лучше, довольнее, но где господа всегда жаловались на слуг своих, а жалуясь, всегда говорили: «Да чем же озолотили эти Гранде свою Нанету, что она за них в воду и огонь пойти готова?»
Кухня Нанеты была всегда чиста, опрятна; все в ней было вымыто, вычищено, блестело; все было заперто, и все мерзло от холода. Кухня Нанеты была кухней настоящего скряги. Когда Нанета кончала мытье посуды и чистку кастрюль, прибирала остатки от обеда и тушила свой огонь, то запирала свою кухню, отделявшуюся от залы одним коридором, являлась в залу с самопрялкой и садилась возле господ своих.
На все семейство выдавалась одна свечка на целый вечер. Ночью Нанета спала в полутемном коридоре. Только железное здоровье Нанеты могло выносить все привлекательности ночлега в холодном коридоре, из которого она могла слышать малейший шорох в доме, нарушавший тишину ночи. Как дворовая собака, она спала вполглаза и слышала во все уши.
Описание других частей дома встретится вместе с повествованием происшествий этой истории; впрочем, очерк залы, парадной комнаты в целом доме, может служить масштабом нашей догадки об убожестве остальных этажей его.
В 1819 году, в одно из средних чисел ноября, когда начало уже смеркаться, Нанета затопила в первый раз печку. Осень была весьма хорошая. Этот день был знаком всем Крюшо и всем де Грассенам: шесть бойцов на жизнь и на смерть готовились явиться в залу Гранде, льстить, кланяться, скучать и уверять, что им весело.
Утром, в час обедни, весь Сомюр мог видеть торжественное шествие госпожи Гранде, Евгении и Нанеты в приходскую церковь, и всякий вспоминал, что этот день – праздничный у старика Гранде, что этот день – день рождения его возлюбленной дочери Евгении. Г-да Крюшо расчислили по часам время, когда старик отобедает, и в известное мгновение, не потеряв ни минуты, побежали к нему, чтобы явиться пораньше де Грассенов. У всех троих Крюшо было в руках по огромному букету цветов. Букет президента Крюшо был искусно обернут белой атласной ленточкой и перевязан золотыми шнурками.
В это утро старик Гранде, по всегдашнему обыкновению, соблюдавшемуся им каждый год в день рождения Евгении, пришел в ее комнату, разбудил ее своим поцелуем и с приличной торжественностью вручил ей подарок свой, редкостную золотую монету; это повторялось уже лет около тринадцати сряду, каждый раз в день рождения Евгении.
Г-жа Гранде дарила ей обыкновенно материи на платье – летнее или зимнее, смотря по обстоятельствам.
Два платья г-жи Гранде (то же было и в именины Евгении) и золотые монеты старика, да еще два наполеондора, получаемые ею в новый год именин отца своего, составляли весь доход Евгении, в год всего около ста экю; скряга прилежно смотрел за благосостоянием кассы своей дочери и радовался, глядя на ее сокровище. Не все ли равно было, что давать, что не такие подарки? Гранде только перекладывал из одной кубышки в другую, тщательно выращивал чувство скупости в своей наследнице и по временам иногда проверял все суммы и все сокровища своей дочери; эти сокровища были прежде гораздо значительнее, когда еще старики Бертельеры были в живых и дарили ей в свою очередь, каждый по-своему, всегда приговаривая: «Это на твою дюжинку, к свадьбе, жизненочек».
Давать дюжину к свадьбе – старое обыкновение, свято сохранившееся в некоторых провинциях Франции, как то в Берри, Анжу и других. Там ни одна девушка не выходит замуж без дюжины. В день свадьбы отец и мать ее дарят ей кошелек, в котором лежат двенадцать червонцев, или двенадцать дюжин червонцев, или двенадцать сотен червонцев, смотря по состоянию. Дочь последнего бедняка не выходит замуж без дюжины, хотя бы бедной монетой. Были примеры подарков в сто сорок четыре португальских червонца. Папа Климент, выдавая племянницу свою Марию Медичи за Генриха II, короля французского, подарил ей двенадцать древних медалей, бесценных по редкости и красоте отделки.
За обедом старик, любуясь на дочь свою, похорошевшую в новеньком платьице, закричал в припадке сильнейшего восторга:
– Ну уж так и быть! Сегодня день рождения Евгении, так затопим-ка печи!
– Ну выйти вам замуж этот год, моя ласточка, – сказала Нанета, убирая со стола остатки жареного гуся, заменяющего фазана в быту бочаров.
– В Сомюре для нее нет приличной партии, – сказала г-жа Гранде, робко взглянув на своего мужа. При ее возрасте взгляд этот возвещал полное супружеское рабство, в котором томилась несчастная женщина.
А жена его, сущая илотка, была доведена им до полнейшей инерции. В сделках, как сейчас заметили мы, она была у него вроде щита. Гранде ни с кем не знакомился, никого не звал к себе, да и сам ни к кому не ходил. Он не любил шума и скупился даже и на движение. Ни у кого ничего не трогал и никого не беспокоил из уважения к собственности. Впрочем, несмотря на свое сладкоречие, двусмысленность и осторожность, бочар всегда выказывался настоящим бочаром в словах и ухватках, особенно дома, где он не любил воздерживаться.
С виду Гранде был футов пяти ростом, плотный и здоровый. Ноги его были двенадцати дюймов в окружности; мускулист и широкоплеч. Лицо круглое и рябоватое. Подбородок его был прямой, губы тонкие и ровные, зубы белые. Взгляд мягкий, ласковый, жадный, взгляд василиска. Лоб, изрезанный морщинами, с замечательными выпуклостями. Волосы его желтели и седели, все в одно время – золото и серебро, по выражению охотников пошутить, вероятно не знавших, что с Гранде не шутят. На толстом носу его висела красная шишка, в которой иные люди склонны были усматривать тайное коварство. В целом выражало тихость сомнительную, холодную честность и эгоизм скупца. Замечали еще в нем одно – привязанность, любовь к своей дочери Евгении, единственной наследнице. Походка, приемы выражали самоуверенность, удачу во всем; и действительно, Гранде, хотя тихий и уклончивый, был твердого, железного характера.
Одежда его была всегда одинакова; в 1820 году он одевался точно так же, как и в 1791 году. Толстые башмаки с медными застежками, нитяные чулки, панталоны короткие, толстого темного сукна, с серебряными пуговками; шерстяной жилет с желтыми и темными полосками, застегнутый сверху донизу, и просторный, каштановою цвета сюртук, белый галстук и широкополая квакерская шляпа. Перчатки у него были толстые, неуклюжие, столь же прочные, что перчатки жандармов, – в два года одна пара; всегда методически раскладывал он их в одном и том же месте, на полях своей шляпы.
Более ничего не знали о нем в Сомюре. Шесть лиц имели право посещать его дом.
Самым значительным лицом из первых трех был племянник нотариуса Крюшо. После своего назначения президентом сомюрского суда первой инстанции Крюшо-племянник к фамилии своей присоединил еще словцо де Бонфон и всеми силами старался называться просто де Бонфон, а потому обыкновенно подписывался К. де Бонфон. Неловкий проситель г-на Крюшо, забывший де Бонфона, поздно уже замечал свою ошибку. Президент особенно покровительствовал тем, кто называл его президентом, но льстил и улыбался тому, кто называл его де Бонфоном. Президенту было тридцать три года. Бонфон было название его поместья (Bonae Fontis), приносившего ему тысяч до семи ливров дохода. Кроме того, он был единственным наследником своего дяди, нотариуса, и другого дяди, аббата Крюшо, избранного в капитул св. Мартена Турского; оба они слыли довольно богатыми. Трое Крюшо, поддерживаемые порядочным числом кузенов, кузин и родней почти двадцати домов сомюрских, составляли свою особую партию, как некогда фамилия Пази во Флоренции, и, подобно Пази, Крюшо имели противников.
Г-жа де Грассен, мать двадцатичетырехлетнего юноши, частенько приходила к г-же Гранде составлять с ней партию в лото, надеясь непременно женить своего возлюбленного Адольфа на девице Евгении Гранде. Г-н де Грассен, банкир, помогал жене беспрерывными услугами старому скупцу и всегда вовремя поспевал на поле битвы. Трое де Грассенов имели тоже верных союзников кузенов, кузин и т. п.
Со стороны же Крюшо работал их аббатик, Талейран в миниатюре; достославно поддерживаемый братом-нотариусом, он с честью выдерживал бой с банкиршей в пользу своего племянника-президента. Битвы де Грассенов с тремя Крюшо и их партией за Евгению возбуждали большое внимание в Сомюре.
Кому-то достанется Евгения: президенту или Адольфу де Грассену?
Задачу разрешили тем, что де не достанется ни тому ни другому, что бочар зазнался и хочет иметь своим зятем не иначе как пэра Франции, который бы решился взять в придачу к двумстам тысячам ливров годового дохода все бочки своего тестюшки.
Другие выставляли на вид дворянство и богатство де Грассенов; говорили, что Адольф ловок, хорош собою и что кого же и выбрать, ежели не его? Разве уж найдется какой-нибудь папский племянник – тогда дело другое, а что и теперь уже много чести Гранде, которого весь Сомюр видел с долотом в руке и когда-то санкюлотом. Наблюдатели заметили, что г-н Крюшо де Бонфон мог ходить к старику во всякое время, а Адольф де Грассен – только по воскресеньям. Говорили, что г-жа де Грассен, более связанная с женщинами семьи Гранде, чем представители дома Крюшо, могла внушить им некоторые мысли, которые рано или поздно должны были привести ее к победе. Им отвечали, что аббат Крюшо – претонкая штука и что если сойдутся где аббат да женщина, так силы всегда одинаковы. «Рукояти их шпаг всегда на равном расстоянии», как выразился один досужий сомюрский остроумец.
Старожилы полагали, что Гранде не захотят выпустить добра из фамилии. По их мнению, Евгения непременно выйдет за своего кузена, сына купца Гильома Гранде, богатейшего виноторговца оптом в Париже. Обе сомюрские партии возражали им тем, что, во-первых, старики уже тридцать лет как не видались друг с другом; во-вторых, что парижанин не так думает устроить судьбу своего сына, что он мэр округа, депутат, полковник Национальной гвардии, судья в коммерческом суде; что он давно уже отступился от сомюрских Гранде и ищет сыну дочь какого-нибудь дешевенького наполеоновского герцога.
И много было еще говорено о богатой наследнице, почти на двадцать миль кругом и даже в омнибусах, ходивших между Блуа и Анжером.
В начале 1818 года победа была совершенно на стороне Крюшо. Имение Фруафонд, славившееся своим великолепным парком, великолепным замком, фермами, прудами, рекой, лесом, поступило в продажу; молодой маркиз де Фруафонд продавал его по необходимости, нуждаясь в деньгах. Крюшо с союзниками упросили маркиза не продавать имение по частям. Нотариус представил ему все невыгоды, все хлопоты продажи по участкам, особенно в получении денег с покупателей, что де лучше продать все разом и вот, например, Гранде готов заплатить хоть сейчас. Тогда владение Фруафонд было куплено стариком, и он, к величайшему удивлению сомюрцев, заплатил, не поморщившись, все три миллиона чистыми деньгами, звонкой монетой. Об этой покупке стали говорить и в Нанте, и в Орлеане.
Гранде сел в тележку, возвращавшуюся по случаю из Сомюра во Фруафонд, и поехал осматривать свои поместья. Он воротился весьма довольный тем, что поместил свои капиталы по пяти на сто, и тут же задумал округлить маркизат Фруафонд, присоединив к нему и свои земли. Но чтобы насыпать снова сундук свой, он решился вырубить свои леса и тополи на лугах аббатства Нойе.
Теперь понятна ли будет вся значительность выражения: дом господина Гранде? Дом этот был наружности мрачной, угрюмой, а выстроен был он в самой высокой части города, возле развалин старинных укреплений. Два столба со сводом, составлявшие вход, были построены из мелового песчаника – белого луарского камня, слабого, мягкого, не выносившего более двухсот лет при постройках.
Множество углублений, дыр и трещин неправильной, разнообразной формы, изрытых временем в столбах и на своде входа, рисовалось на них причудливыми, фантастическими арабесками и придавало им вид выветрившихся глыб готического зодчества. Все в целом походило несколько на крыльцо какой-нибудь городской тюрьмы. Выше свода был барельеф из твердого камня, с почернелыми и попорченными фигурами, изображавшими четыре времени года. Над барельефом тянулся плинт, из-за которого возвышали вершинки свои дикие растения и деревья, случайно зародившиеся в трещинах камня, – желтая стеница, повилика, папушник и молоденький вишенник, впрочем, уже довольно высокий.
Толстая дубовая дверь, черная, потрескавшаяся, слабая с виду, была твердо скреплена толстыми железными болтами, симметрически на ней расположенными. Маленькое квадратное окошечко с толстой заржавевшей решеткой было прорезано в дверях калитки; в эту решетку колотили молотком, привязанным тут же к кольцу. Этот удлиненный молоток, из разряда тех, которые наши предки называли «маятником», походил на жирный восклицательный знак; при тщательном изучении антикварий мог бы различить на нем следы шутовской фигуры, некогда изображенной здесь и совершенно стертой длительным употреблением.
Глядя через решетку, сквозь которую когда-то, в эпоху гражданских войн, высматривали друга и недруга, можно было заметить в конце длинного темного свода несколько полуразбитых ступеней; они вели в сад, живописно разбросанный около древних стен укреплений, позеленевших и обросших мхом и плющом. Далее за стенами, над укреплениями, виднелись дома и зеленели сады соседей.
Самая замечательная комната в нижнем этаже этого дома была зала. Вход в нее был прямо из ворот. Немногие знают, какое значение имеет зала для обитателей маленьких городков в Турени, Анжу и Берри. Зала в одно и то же время могла служить прихожей, гостиной, кабинетом, будуаром, столовой; зала – это театр, сцена для частной семейной жизни. В зале Гранде происходили все обычные семейные собрания; в эту комнату сосед-парикмахер два раза в год приходил стричь волосы старика Гранде; сюда являлись его фермеры, священник, префект и нарочный с мельницы. Два окна этой комнаты с дощатым полом выходили на улицу. Комната сверху донизу была обшита темным деревом со старинной резьбой; потолок с выступающими балками был также расписан в старинном вкусе и под цвет обшивки стен; пространство между балками было густо выбелено, но все было старо и пожелтело от времени.
Комната нагревалась камином, над которым было вделано в стене зеркало, зеленоватого стекла и с резанными наискось боками, которые сияли ярко от преломлений лучей света в гранях окраин зеркала вдоль стильной готической рамы с инкрустациями.
По бокам камина стояли два жирандоля, медные, позолоченные, с двумя рожками. Когда снимали эти рожки со стержня, на котором укреплен был общий конец их, то мраморный пьедестал с медным стержнем, в него вделанным, годился для каждодневного употребления как обыкновенный подсвечник. Кресла и стулья старого фасона были обиты вышитой тканью с рисунками, изображавшими сцены из басен Лафонтена; но трудно было уже разобрать эти рисунки: так они были потерты и изношены от времени и употребления. По четырем углам комнаты стояли этажерки, а в простенке между окнами – ломберный столик наборной работы; верхняя складная доска его сделана была в виде шашечницы. Над столом, в простенке, висел овальный барометр черного дерева, с золочеными каемочками, испачканный и изгаженный кругом мухами. На стене против камина висели два портрета, писанные пастелью, – один с покойного г-на Ла Бертельера, изображенного в мундире гвардии лейтенанта; другой портрет изображал покойную г-жу Жантилье в костюме аркадской пастушки. Перед окнами были красиво драпированы красные занавески из турской материи. Толстые шелковые шнурки с кистями церковного убранства связывали узлы драпировки. Эти роскошные занавески, так неуместные в этом доме, были выговорены господином Гранде в свою пользу при покупке дома, равно как и зеркало, стенные часы, ковровая мебель и угловые этажерки розового дерева.
В амбразуре окна, ближайшего к двери, стоял соломенный стул госпожи Гранде; он возвышался на подставке, чтобы можно было смотреть на улицу. Перед ним стоял простенький рабочий столик из выцветшего черешневого дерева. Маленькие кресла Евгении стояли тут же возле окна.
И целых пятнадцать лет прошли день за днем. Мать и дочь постоянно просиживали целые дни на одном и том же месте за своим рукоделием, с апреля месяца до самого ноября. С первого числа мать и дочь переселялись к камину, потому что только с этого дня в доме начиналась топка, которая потом и оканчивалась 31 марта, несмотря на холодные дни ранней весны и поздней осени. Тогда Длинная Нанета сберегала обыкновенно несколько угольев от кухонной топки и приносила их на жаровне, над которой мать и дочь могли отогревать свои окостеневшие от холода пальцы в наиболее суровые вечера или утра апреля и октября.
Все домашнее белье лежало на руках матери и дочери; весь день уходил у них на эту работу, так что когда Евгении хотелось сделать какой-нибудь подарочек матери из своего рукоделия, то приходилось работать по ночам, обманывая отца ради ночного освещения. Уже с давних времен скряга начал сам выдавать свечи своей служанке и дочери, равно как хлеб, овощи и всю провизию для обеда и завтрака.
Одна только Длинная Нанета могла ужиться в услужении у такого деспота, как старик Гранде. Целый город завидовал старику, видя у него такую верную служанку. Длинная Нанета, получившая свое прозвание по богатырскому росту (пять футов восемь дюймов), служила уже тридцать пять лет у господина Гранде. Она была одной из самых богатых служанок Сомюра, хотя жалованья получала всего шестьдесят ливров. Накопившуюся сумму, около четырех тысяч ливров, Нанета отдала нотариусу Крюшо на проценты. Разумеется, эта сумма была для нее весьма значительна, и всякая служанка в Сомюре, видя у бедной Нанеты мерный кусок хлеба под старость дней ее, завидовала ей, не думая о том, какими кровавыми трудами заработаны эти денежки.
Когда ей было двадцать два года, она была без хлеба и без пристанища; никто не хотел взять ее в услужение по причине ее необыкновенно уродливой фигуры, и, разумеется, все были несправедливы. Конечно, если бы природа создала ее гвардейским гренадером, то всякий бы назвал молодцом такого тренадера; но, как говорится, все должно быть кстати. Нанета, потерявшая по причине пожара место на одной ферме, где ходила за коровами, явилась в Сомюр и, воодушевленная уверенностью и надеждой, начала искать всюду места и не падала духом, готовая принять любую работу.
В это самое время Гранде собирался жениться и стал подумывать о будущем хозяйстве. Нанета явилась кстати, тут как тут. Как истинный бочар, умея ценить физическую силу в своем работнике, Гранде угадал сразу всю выгоду, какую мог извлечь, имея у себя геркулеса – работницу, держащуюся на своих ногах, как шестидесятилетний дуб на своих корнях, с могучими бедрами, с квадратной спиной, с руками возницы и столь же непоколебимой честностью, сколь незапятнанной была ее нравственность. Он с наслаждением смотрел на ее высокий рост, жилистые руки, крепкие члены; ни безобразие солдатского лица Длинной Нанеты, ни его кирпичный оттенок, ни рубище, ее прикрывавшее, не устрашили Гранде нисколько, хотя он еще находился в том возрасте, когда сердце живо откликается на подобные явления. Он принял ее в свой дом, одел, накормил, дал ей работу и жалованье. Крепко привязалось сердце бедного создания к новому господину; Нанета плакала потихоньку от радости. Бочар завалил ее работой. Нанета делала все: стряпала кушанье, приготовляла щелок, мыла белье на Луаре, приносила его на собственных плечах, вставала рано, ложилась поздно, во время сбора винограда готовила обед на всех работников, смотрела за ними, как верная собака, стояла горой за соломинку из добра господского и без ропота исполняла в точности самые странные фантазии чудака Гранде.
После двадцатилетней верной службы Нанеты, в 1811 году, счастливом для виноградников, Гранде решился наконец подарить ей свои старые часы; это был первый и единственный подарок старика Гранде. Правда, он дарил иногда ей ветхие башмаки свои, но нельзя сказать, чтобы могла быть какая-нибудь выгода от старых башмаков господина Гранде: они были всегда донельзя изношены. Сперва нужда, а потом и привычка сделали Нанету скупой, и старик полюбил свою служанку, полюбил ее, как верную старую собаку; Нанета позволила надеть себе колючий ошейник, уже не причинявший ей никакого беспокойства.
Она не жаловалась, если, например, старику Гранде приходилось иногда обвесить ее при выдаче хлеба к остальной провизии. Не жалуясь, сносила иногда и голод, потому что бочар приучал своих домашних к строжайшей диете, хотя в этом доме никто никогда не был болен. Наконец Нанета стала настоящим членом семейства; она привязалась всей силой души своей ко всем членам этой фамилии; она смеялась, когда смеялся старик Гранде, работала, когда он работал, зябла, когда ему было холодно, и отогревалась, когда ему было жарко. Как отрадно было сердцу Нанеты, привязанному святым, бескорыстным чувством благодарности к благодетелю своему, в свычке с ним, в неограниченной к нему преданности! Никогда ни в чем не мог упрекнуть сварливый, скупой Гранде свою верную Нанету; ни одна кисть винограда не была взята ею без позволения; ни одна груша, упавшая с дерева, не съедена потихоньку. Нанета берегла, хранила все, заботилась обо всем.
– Ну, ешь, Нанета, полакомься, – говорил иногда Гранде, обходя свой сад, где ветви ломались от изобилия плодов, которые бросали свиньям, не зная, куда девать излишек.
Отрадно было бедному созданию, когда старик изволил смеяться, забавляться с ней: это было очень, очень много для бедной девушки, призренной Христа ради, вытерпевшей одни лишения да побои. Сердце ее было просто и чисто, и душа свято хранила чувство благодарности. Живо помнила она, как тридцать пять лет назад она явилась на пороге этого дома, бедная, голодная, в рубище и с босыми ногами, и как Гранде встретил ее вопросом:
– Ну, что ж тебе нужно, красавица?
И сердце дрожало в груди ее при одном воспоминании об этом дне. Иногда Гранде приходило в голову, что его бедняжка Нанета целую жизнь не слыхала от мужчины слова приветливого, не знала, не испытала ни одного наслаждения в жизни, самого невинного, данного в удел женщине, – наслаждения нравиться, например, – и сможет когда-нибудь предстать перед Творцом более непорочной, чем сама Дева Мария; и Гранде, в припадке жалости, говорил иногда:
– Ах, бедняжка Нанета!
И когда он говорил это, то встречал потом тихий взор служанки своей, взор, блестевший неизъяснимым чувством благодарности. Одно это слово, произносимое стариком от времени до времени, составляло звено из непрерывной цепи нежной дружбы и бескорыстной преданности служанки к своему господину. И это сострадание, явившееся в черством, окаменевшем сердце старого скряги, было как-то грубо, жестко, носило отпечаток беспощадной жестокости. Старику было любо пожалеть Нанету по-своему, а Нанета, не добираясь до настоящего смысла, блаженствовала, видя любовь к себе своего господина. Кто из нас не повторит возгласа: «Бедняжка Нанета!..» Творец узнает своих ангелов по интонациям их голосов и таинственному звучанию их жалоб.
Много было семейных домов в Сомюре, где слуги содержались лучше, довольнее, но где господа всегда жаловались на слуг своих, а жалуясь, всегда говорили: «Да чем же озолотили эти Гранде свою Нанету, что она за них в воду и огонь пойти готова?»
Кухня Нанеты была всегда чиста, опрятна; все в ней было вымыто, вычищено, блестело; все было заперто, и все мерзло от холода. Кухня Нанеты была кухней настоящего скряги. Когда Нанета кончала мытье посуды и чистку кастрюль, прибирала остатки от обеда и тушила свой огонь, то запирала свою кухню, отделявшуюся от залы одним коридором, являлась в залу с самопрялкой и садилась возле господ своих.
На все семейство выдавалась одна свечка на целый вечер. Ночью Нанета спала в полутемном коридоре. Только железное здоровье Нанеты могло выносить все привлекательности ночлега в холодном коридоре, из которого она могла слышать малейший шорох в доме, нарушавший тишину ночи. Как дворовая собака, она спала вполглаза и слышала во все уши.
Описание других частей дома встретится вместе с повествованием происшествий этой истории; впрочем, очерк залы, парадной комнаты в целом доме, может служить масштабом нашей догадки об убожестве остальных этажей его.
В 1819 году, в одно из средних чисел ноября, когда начало уже смеркаться, Нанета затопила в первый раз печку. Осень была весьма хорошая. Этот день был знаком всем Крюшо и всем де Грассенам: шесть бойцов на жизнь и на смерть готовились явиться в залу Гранде, льстить, кланяться, скучать и уверять, что им весело.
Утром, в час обедни, весь Сомюр мог видеть торжественное шествие госпожи Гранде, Евгении и Нанеты в приходскую церковь, и всякий вспоминал, что этот день – праздничный у старика Гранде, что этот день – день рождения его возлюбленной дочери Евгении. Г-да Крюшо расчислили по часам время, когда старик отобедает, и в известное мгновение, не потеряв ни минуты, побежали к нему, чтобы явиться пораньше де Грассенов. У всех троих Крюшо было в руках по огромному букету цветов. Букет президента Крюшо был искусно обернут белой атласной ленточкой и перевязан золотыми шнурками.
В это утро старик Гранде, по всегдашнему обыкновению, соблюдавшемуся им каждый год в день рождения Евгении, пришел в ее комнату, разбудил ее своим поцелуем и с приличной торжественностью вручил ей подарок свой, редкостную золотую монету; это повторялось уже лет около тринадцати сряду, каждый раз в день рождения Евгении.
Г-жа Гранде дарила ей обыкновенно материи на платье – летнее или зимнее, смотря по обстоятельствам.
Два платья г-жи Гранде (то же было и в именины Евгении) и золотые монеты старика, да еще два наполеондора, получаемые ею в новый год именин отца своего, составляли весь доход Евгении, в год всего около ста экю; скряга прилежно смотрел за благосостоянием кассы своей дочери и радовался, глядя на ее сокровище. Не все ли равно было, что давать, что не такие подарки? Гранде только перекладывал из одной кубышки в другую, тщательно выращивал чувство скупости в своей наследнице и по временам иногда проверял все суммы и все сокровища своей дочери; эти сокровища были прежде гораздо значительнее, когда еще старики Бертельеры были в живых и дарили ей в свою очередь, каждый по-своему, всегда приговаривая: «Это на твою дюжинку, к свадьбе, жизненочек».
Давать дюжину к свадьбе – старое обыкновение, свято сохранившееся в некоторых провинциях Франции, как то в Берри, Анжу и других. Там ни одна девушка не выходит замуж без дюжины. В день свадьбы отец и мать ее дарят ей кошелек, в котором лежат двенадцать червонцев, или двенадцать дюжин червонцев, или двенадцать сотен червонцев, смотря по состоянию. Дочь последнего бедняка не выходит замуж без дюжины, хотя бы бедной монетой. Были примеры подарков в сто сорок четыре португальских червонца. Папа Климент, выдавая племянницу свою Марию Медичи за Генриха II, короля французского, подарил ей двенадцать древних медалей, бесценных по редкости и красоте отделки.
За обедом старик, любуясь на дочь свою, похорошевшую в новеньком платьице, закричал в припадке сильнейшего восторга:
– Ну уж так и быть! Сегодня день рождения Евгении, так затопим-ка печи!
– Ну выйти вам замуж этот год, моя ласточка, – сказала Нанета, убирая со стола остатки жареного гуся, заменяющего фазана в быту бочаров.
– В Сомюре для нее нет приличной партии, – сказала г-жа Гранде, робко взглянув на своего мужа. При ее возрасте взгляд этот возвещал полное супружеское рабство, в котором томилась несчастная женщина.