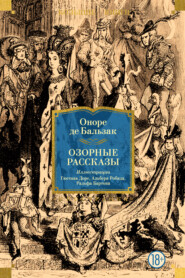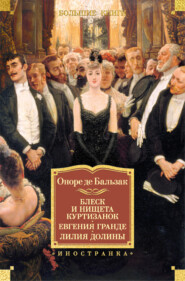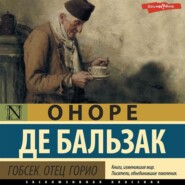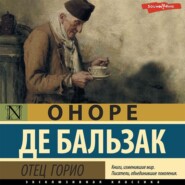По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Евгения Гранде. Тридцатилетняя женщина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Евгения Гранде. Тридцатилетняя женщина
Оноре де Бальзак
100 великих романов
Этот роман Оноре де Бальзака (1799–1850) из цикла «Сцены провинциальной жизни» по праву считается вершиной творчества знаменитого французского писателя. Имя героини Евгении Гранде давно стало нарицательным, олицетворяя бальзаковский образ женщины, готовой «жизнь отдать за сон любви».
Издание печатается в переводе Федора Михайловича Достоевского – это была первая опубликованная литературная работа молодого писателя.
В книгу включен также роман «Тридцатилетняя женщина».
Оноре де Бальзак
Евгения Гранде. Тридцатилетняя женщина
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
Евгения Гранде
Глава I. Провинциальные типы
Иногда в провинции встречаешь жилища, с виду мрачные и унылые, как древние монастыри, как дикие грустные развалины, как сухие, бесплодные, обнаженные степи; заглянув под крыши этих жилищ, и в самом деле часто найдешь жизнь вялую, скучную, напоминающую своим однообразием и тишину монастырскую, и скуку обнаженных, диких степей, и прах развалин. Право, проходя возле дверей такого дома, невольно сочтешь его необитаемым; но скоро, однако ж, разуверишься; подождав немного, непременно увидишь сухую, мрачную фигуру хозяина, привлеченного к окну шумом шагов на улице.
Такой мрачный вид уныния, казалось, был отличительным признаком одного дома в городе Сомюре. Дом стоял на конце улицы, неровной, кривой, ведущей к старинному замку; улица эта, почти всегда пустая и молчаливая, замечательна звонкостью неровной булыжной мостовой, всегда сухой и чистой, теснотой и угрюмым видом домов, прилежащих к старому городу, над которым возвышаются древние, полуразвалившиеся укрепления.
Дома крепки и прочны, хотя большей частью выстроены из дерева, и некоторые существуют уже около трех веков. Странная архитектура придает городу вид древности и оригинальности и обращает на себя внимание художника и антиквария. Например, невольно бросаются в глаза огромные толстые доски, прорезанные хитрой, причудливой резьбой и заменяющие карнизы над нижними этажами домов. Потом – концы брусьев поперечных стен, покрытые аспидным камнем; они рисуются синими полосами на фасаде строения с высокой, острой кровлей, полусгнившей от действия солнца и дождя и погнувшейся под тяжестью годов. Далее – подоконники, старые, ветхие, почерневшие от времени и со сгладившейся резьбой; вот так и смотришь, что они тотчас рухнут под тяжестью какого-нибудь цветочного горшка, выставленного на окне бедной, трудолюбивой мастерицы. Непременно остановят внимание ваше эти массивные двери, обитые тяжелыми гвоздями, испещренные иероглифами и надписями. Смысл надписей различен: здесь она дышит протестантским фанатизмом, там читаешь проклятье лигера Генриху IV; какой-нибудь горожанин вырезал отличия своего колокольного дворянства, славу своего позабытого городского старшинства; словом, найдете все – историю, летописи, предания. Возле бедного оштукатуренного домика, отделанного стругом и топором незатейливого плотника, возвышаются палаты дворянина; на дверях еще заметны остатки гербов и девизов, разбитых и изломанных в революцию, взволновавшую край в 1789 году.
Нижние этажи домов купеческих не похожи ни на лавки, ни на магазины; любители Средних веков полюбуются лишь старинными мастерскими наших предков, древностью простой и наивной. Эти низкие помещения мрачны, глубоки, без украшений ни снаружи, ни внутри, без окон, без стекол. Дверь половинчатая, толстая, обита железом; одна половинка неподвижна, другая, с прикрепленным к ней колокольчиком, целый день скрипит, звонит, в движении. Свет и воздух проходят в сырой подвал или сверху, или через отверстие, начинающееся от самого свода или потолка. В нем утверждаются по ночам ставни, которые закрепляются толстыми железными полосами; днем ставни снимаются, и вместо них раскладываются товары. Товары налицо, обмана нет. Выставленные образчики состоят из двух или трех кадок с соленой треской, из нескольких кусков парусины, веревок, листов латуни, подвешенных к потолочным балкам, обручей, расставленных вдоль стены, и половинок сукна на полках. Войдете – девушка, опрятно одетая, хорошенькая, молоденькая, в белой косыночке, с пухленькими красными ручками, оставляет свое рукоделие, встает, зовет отца или мать. Кто-нибудь из них входит и отмеривает вам товару или на два су, или на двадцать тысяч франков; купец-флегматик услужлив или горд, смотря по своему обыкновению.
Вы встречаете купца, промышляющего тесом, у дверей его дома. Ему, кажется, нечего делать, и вот он уже целый час болтает с соседом. Заглянете в его лавку: в ней валяется несколько обручей и куча бочарных досок; но на пристани магазина его станет на всех бочаров анжуйских. По урожаю винограда он рассчитывает барыш и товар до последней доски. Солнце светит – он богач, дождь – он разорен. Часто в одно утро цена на бочки возвышается вдруг до одиннадцати франков или спадает до шести ливров за штуку. Здесь, как и в Турени, погода – все в торговле. Виноградчики, помещики, продавцы леса, бочары, трактирщики – у всех одна тоска, одна забота: погода. Ложась спать, боятся ночного мороза. Проклинают дождь, ветер, засуху или молят о дожде, о засухе; вечная борьба природы с расчетами человеческими. Барометр сводит с ума или веселит весь город и разглаживает морщины на самых угрюмых лицах.
– Золотое время, – говорит сосед соседу на старой сомюрской улице, – ни облачка!
– Червонцами задождит, – отвечает сосед, рассчитывая барыш по лучу солнечному.
Летом в субботу, часов в десять вечера, ни в какой лавке вам не продадут ни на су товару. У каждого купца есть какой-нибудь клочок землицы, виноградник или хоть какой-нибудь огород, и хозяин едет дня на два погостить за городом. Обделав дела свои в городе, покупки, продажу, сладив барыш, купец покоен и выгадывает из двенадцати почти десять часов на удовольствия, на пересуды, на толки и на подсматривание за соседом. Хозяйка купит куропатку, кумушки осведомляются у хозяина, хорошо ли ее приготовили. Беда девушке, некстати взглянувшей в окошко: ее оговорят, засмеют, пересудят, осудят. Все налицо, каждый дом к услугам соседей, и уж как ни огораживайся и ни запирайся, а из дому успеют вовремя вынести сор.
Здесь живут не под кровлей, а на чистом воздухе: каждое семейство располагается у дверей своего дома, завтракает, обедает, спорит, ссорится. Всякий прохожий замечен. Еще со старых времен умели в провинциальных городках осмеять и оговорить иностранца, но об этом долго рассказывать. Скажу только, что от этого-то и окрестили в болтливых жителей Анжера, особенно отличавшихся сплетнями и пересудами.
Палаты дворян, отели, некогда ими обитаемые, расположены в старом городе. Дом, мрачный и угрюмый, куда сейчас перенесем мы читателей, был из числа этих древних зданий, остаток старых дел, памятник старого времени, времени простого и незатейливого, от которого давно уже мы отреклись и отступились.
Пройдя с вами по дороге, так богатой воспоминаниями, навевающими и грусть, и думу о прошедшем, я укажу вам на это мрачное углубление, посреди которого притаились ворота дома господина Гранде.
Но мы не поймем всего значения, всего смысла фразы: дом господина Гранде. Нужно познакомиться сначала с самим господином Гранде.
Кто не живал в провинции, тому трудно будет объяснить себе мнение и мысли сомюрских жителей насчет г-на Гранде. Этот господин (есть еще в Сомюре люди, которые запросто говорят о нем: «старик Гранде, папа Гранде», но они давно уже заметно начали переводиться), так этот-то г-н Гранде в 1789 году был не более чем простой бочар; дела его шли не худо, он умел писать, читать и считать.
Когда Французская Республика объявила о продаже монастырских имений, Гранде, которому было тогда уже лет под сорок, женился на дочери богатого купца, торговавшего лесом. Соединив свой капитал с приданым жены своей и достав, сверх того, две тысячи луидоров, он положил свои деньги в карман и явился в казначейство округа. Там, сунув суровому санкюлоту, наблюдавшему за продажей народного имущества, золотую взятку в двести луидоров, занятых у тестя, законно и справедливо вступил он во владение лучшими плантациями округа, старым аббатством и сколькими-то фермами и арендами.
Сомюрские жители любили тишину и не любили революции. Между тем Гранде прослыл смелым, отважным республиканцем, патриотом, человеком, понимавшим новое время и новые идеи, тогда как он только и мыслил о торговле да о виноградниках. Его сделали членом Управления Сомюрского округа, и Гранде удалось оставить впечатление миротворца и в управлении, и в торговле.
В первом отношении он покровительствовал блаженной памяти дворянам и всеми силами старался замедлить и даже уничтожить продажу земель эмигрантов. Что касается до торговли, то ему удалось сделать превыгодный оборот поставкой в армию до двух тысяч бочек белого вина. В уплату он выговорил себе прекрасные луга, принадлежавшие женскому монастырю, хотя правительство берегло эти луга и определило продавать их последними.
Наступила эпоха Консульства. Почтенный, уважаемый Гранде был сделан мэром; судил хорошо, торговал еще лучше. Во времена Империи Гранде стали называть господином Гранде. Наполеон не любил республиканцев, а так как Гранде считался во время оно санкюлотом, то он сменил его, назначив на его место богатого помещика, человека с надеждами, будущего барона Империи. Г-н Гранде без сожаления сложил с себя атрибуты власти гражданской. В правление свое, ради казенной выгоды, наделал он прекрасных дорог из города в свои поместья, дом и земли его были весьма выгодно кадастрированы, платить налоги приходилось ему самые умеренные. Его огороды и виноградники благодаря неусыпным попечениям стали в первом разряде по достоинству и служили образцами для других хозяев. Чего же более? Оставалось разве попросить орден Почетного легиона.
Все это было в 1806 году; Гранде было тогда пятьдесят семь лет, жене его – около тридцати шести. Их единственная дочь, плод законного супружества, была лет десяти.
В этом году судьба, вероятно хотевшая утешить его в неудачах политических, доставила ему одно за другим три наследства. Сперва после матери г-жи Гранде, урожденной Бертельер, потом от старика, дедушки г-жи Гранде, и, наконец, от г-жи Жантилье, его бабушки по матери. Никто не знал цены этим трем наследствам. Покойные, все трое, были так скупы, что держали в сундуках мертвые капиталы и втайне наслаждались своими сокровищами. Старик Бертельер не хотел ни за что пустить в оборот свои деньги, называл все обороты мотовством, расточительностью и находил более выгоды в созерцании сокровищ своих, нежели отдавая их на проценты.
В Сомюре рассчитывали наследство по солнцу, то есть по ежегодному доходу с виноградников.
Теперь Гранде, вопреки всевозможным идеям о равенстве, озолотив себя, стал выше всех и сделался важным лицом в своем городе. У него было сто десятин земли под виноградниками; в хорошие годы получал он с них от семисот до восьмисот бочек вина; тринадцать ферм, старое аббатство и более ста двадцати семи десятин земли под лугами, на которых росли три тысячи тополей, посаженных в 1793 году; наконец, дом, в котором он жил, был его собственный. Это было на виду. Что же касается до капиталов, то в целом Сомюре было всего два человека, которые могли что-нибудь знать об этом; то были г-н Крюшо, нотариус, ходок по денежным делам и оборотам г-на Гранде, а другой – г-н де Грассен, богатейший банкир в Сомюре; с ним потихоньку старик обрабатывал кое-какие сделки. Но хотя Крюшо и де Грассен вели дела скрытно и в глубокой тайне, в обществе они выказывали Гранде такое глубочайшее уважение, что наблюдатели, взяв это уважение за общую меру, могли по пальцам добраться до итогов имущества бывшего мэра.
Словом, в Сомюре не было никого, кто бы не был твердо уверен, что у Гранде спрятан где-нибудь клад, сундучок с червонцами, и что старик по ночам предается невыразимым наслаждениям, доставляемым созерцанием огромной груды золота. Скупые особенно готовы были присягнуть в этом, изучив взгляд старика, взгляд, горевший каким-то отблеском заветного металла. Взор человека, привыкшего смотреть на золото, наслаждаться им, блестит каким-то неопределенным тайным выражением, схватывает неизвестные оттенки, усваивает необъяснимые привычки, как взгляд развратника, игрока или придворного; взор этот быстр и робок, жаден, таинствен; обычно его знают, научились ему: это – условный знак, франкмасонство страсти.
Итак, Гранде пользовался всеобщим почтением и уважением как человек, который никогда никому не был должен, как человек ловкий, опытный во всяком деле и во всякой сделке. Например, старый бочар умел с необыкновенной точностью определить, нужно ли ему тысячу бочек или пятьсот при настоящем сборе. Наконец, как человек, которому удались все спекуляции и у которого всегда было несколько бочонков в продаже в то время, как дешевели деньги; который умел при случае спрятать товар свой в подвалы и выждать время, когда бочонок вина будет стоить двести франков, тогда как другие продавали свое вино по пяти луидоров за бочку. Так, в 1811 году богатый сбор винограда был умно припрятан, медленно продан, и Гранде заработал двести сорок тысяч ливров одной осторожностью. В коммерции он был ловок, жаден, силен как тигр, как боа. Он умел при случае спрятать свои когти, свернуться в клубок, выждать минуту и, наконец, броситься на жертву. Потом он растягивал ужасную пасть кошеля своего, сыпал в него червонцы, завязывал, прятал кошель – и все это самодовольно, холодно, методически, как змея, спокойно переваривающая проглоченную добычу. Никто при встрече с ним не мог освободиться от особенного чувства тайного уважения, удивления и страха. Кто в Сомюре не попробовал вежливого удара его холодных, острых когтей? Тому Крюшо сумел достать денег для покупки земли, да по одиннадцати на сто; тому де Грассен разменял вексель, да с огромным учетом. Не было дня, чтобы имя Гранде не упоминалось или в конторах купцов, или в вечерних собраниях и разговорах горожан. Были люди, которые гордились богатством старика, хвастаясь им, как национальной славой. Часто слышали, как купец какой-нибудь или трактирщик с тайным удовольствием говорил заезжим:
– Да, сударь, водятся и у нас богачи, миллионеры, два-три дома. Что же касается господина Гранде, так уж вряд ли и сам-то он перечтет свое состояние.
В 1816 году опытные люди рассчитывали недвижимое богатство старика почти в четыре миллиона. Но так как с 1793 по 1817 год одних доходов с земель было ежегодно сто тысяч франков, то можно было заключить, что и наличных было у него на такую же сумму. И когда, бывало, по окончании партии в бостон или беседы о виноградниках солидные люди разговорятся о том о сем, наконец сведут на старика Гранде и скажут, например: «У старика Гранде теперь есть верных шесть миллионов», то Крюшо и де Грассен, если слышали слова эти, всегда прибавляли с какой-то таинственностью:
– Дальновиднее же вы нас! Нам так никогда почти не удавалось свести верных счетов.
Заезжий парижанин скажет, бывало, слово-другое о Ротшильде или о Лафите, сомюрцы тотчас спросят: «Так же ли богаты они, как, например, Гранде?» И ежели им отвечали насмешливой улыбкой, то они покачивали головами в знак недоверчивости.
Подобное состояние облачало золотой мантией все деяния этого человека. И если в частной жизни его и встречалось что-нибудь смешное, странное, то решительно никто не находил этого ни смешным, ни странным. Гранде был для всех образцом в Сомюре, авторитетом. Его слова, одежда, ухватки, мигание взгляда считались законами, решениями. Из каждого поступка, движения его выводили следствия, и всегда почти верные и безошибочные.
– Зима будет холодная: Гранде надел уже теплые перчатки. Не худо позаботиться о продаже вина.
Или:
– Гранде закупает много досок. Славное вино будет в этом году!
Никогда Гранде не покупал ни хлеба, ни мяса. Каждую неделю фермеры приносили ему сколько было нужно овощей, каплунов, кур, яиц, масла и зернового хлеба. У него была своя мельница, и мельник, не в счет договора, должен был в известное время являться к нему за зерном, смолоть и представить его мукой. Длинная Нанета, единственная служанка в целом доме, довольно пожилая, сама пекла по субботам хлеб на все семейство. Плодов Гранде собирал так много, что продавал их на рынке. Дрова рубились в его заказниках, или употреблялись вместо них старые, полусгнившие изгороди, обходившие кругом поля его. Фермеры же рубили и дрова и из учтивости сами складывали их в сараи, за что он обыкновенно был им благодарен. Единственные издержки его были: туалет жены и дочери, плата за их два места в церкви и за просфоры, свечи, жалованье Длинной Нанеты; лужение ее кастрюль, издержки судебные на купчие, квитанции и залоги; наконец – на поправку его строений. У него было триста арпанов лесу (недавно купленного); надзирали за ним сторожа соседей, за что обещал он им дать жалованье. Только после покупки лесу на столе у него стала появляться дичь.
Говорил он мало. Все приемы его были весьма просты и обыкновенны. Изъяснялся он коротко, дельно, голосом тихим. С самой революции, когда впервые он обратил на себя внимание, чудак начал заикаться, особенно с ним это случалось в каком-нибудь споре или когда приходилось долго говорить. Но заикание, так же как и многословие, несвязность речи и недостаток в ней логического порядка, было чистым притворством, а не недостатком образования, как полагали некоторые. Мы объясним эту историю впоследствии. Впрочем, он не затруднялся разговором, и с него довольно было четырех фраз, словно четырех алгебраических формул, для всевозможных счетов, расчетов и рассуждений в его частной и домашней жизни; вот они:
– Я не знаю.
– Не могу!
– Не хочу!
– А… а… а… посмотрим.
Ни да, ни нет – этих слов он особенно не терпел. Весьма не любил также писать. Когда с ним разговаривали, он хладнокровно и внимательно слушал, придерживая одной рукой подбородок, тогда как другая рука придерживала локоть первой. На все у него было свое мнение, раз принятое и неуступчивое. В ничтожнейших сделках он обыкновенно долго не решался, раздумывал, соображал, и, когда противник, считая, наконец, дело за собою, чуть-чуть проговорится, Гранде отвечает:
Оноре де Бальзак
100 великих романов
Этот роман Оноре де Бальзака (1799–1850) из цикла «Сцены провинциальной жизни» по праву считается вершиной творчества знаменитого французского писателя. Имя героини Евгении Гранде давно стало нарицательным, олицетворяя бальзаковский образ женщины, готовой «жизнь отдать за сон любви».
Издание печатается в переводе Федора Михайловича Достоевского – это была первая опубликованная литературная работа молодого писателя.
В книгу включен также роман «Тридцатилетняя женщина».
Оноре де Бальзак
Евгения Гранде. Тридцатилетняя женщина
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
Евгения Гранде
Глава I. Провинциальные типы
Иногда в провинции встречаешь жилища, с виду мрачные и унылые, как древние монастыри, как дикие грустные развалины, как сухие, бесплодные, обнаженные степи; заглянув под крыши этих жилищ, и в самом деле часто найдешь жизнь вялую, скучную, напоминающую своим однообразием и тишину монастырскую, и скуку обнаженных, диких степей, и прах развалин. Право, проходя возле дверей такого дома, невольно сочтешь его необитаемым; но скоро, однако ж, разуверишься; подождав немного, непременно увидишь сухую, мрачную фигуру хозяина, привлеченного к окну шумом шагов на улице.
Такой мрачный вид уныния, казалось, был отличительным признаком одного дома в городе Сомюре. Дом стоял на конце улицы, неровной, кривой, ведущей к старинному замку; улица эта, почти всегда пустая и молчаливая, замечательна звонкостью неровной булыжной мостовой, всегда сухой и чистой, теснотой и угрюмым видом домов, прилежащих к старому городу, над которым возвышаются древние, полуразвалившиеся укрепления.
Дома крепки и прочны, хотя большей частью выстроены из дерева, и некоторые существуют уже около трех веков. Странная архитектура придает городу вид древности и оригинальности и обращает на себя внимание художника и антиквария. Например, невольно бросаются в глаза огромные толстые доски, прорезанные хитрой, причудливой резьбой и заменяющие карнизы над нижними этажами домов. Потом – концы брусьев поперечных стен, покрытые аспидным камнем; они рисуются синими полосами на фасаде строения с высокой, острой кровлей, полусгнившей от действия солнца и дождя и погнувшейся под тяжестью годов. Далее – подоконники, старые, ветхие, почерневшие от времени и со сгладившейся резьбой; вот так и смотришь, что они тотчас рухнут под тяжестью какого-нибудь цветочного горшка, выставленного на окне бедной, трудолюбивой мастерицы. Непременно остановят внимание ваше эти массивные двери, обитые тяжелыми гвоздями, испещренные иероглифами и надписями. Смысл надписей различен: здесь она дышит протестантским фанатизмом, там читаешь проклятье лигера Генриху IV; какой-нибудь горожанин вырезал отличия своего колокольного дворянства, славу своего позабытого городского старшинства; словом, найдете все – историю, летописи, предания. Возле бедного оштукатуренного домика, отделанного стругом и топором незатейливого плотника, возвышаются палаты дворянина; на дверях еще заметны остатки гербов и девизов, разбитых и изломанных в революцию, взволновавшую край в 1789 году.
Нижние этажи домов купеческих не похожи ни на лавки, ни на магазины; любители Средних веков полюбуются лишь старинными мастерскими наших предков, древностью простой и наивной. Эти низкие помещения мрачны, глубоки, без украшений ни снаружи, ни внутри, без окон, без стекол. Дверь половинчатая, толстая, обита железом; одна половинка неподвижна, другая, с прикрепленным к ней колокольчиком, целый день скрипит, звонит, в движении. Свет и воздух проходят в сырой подвал или сверху, или через отверстие, начинающееся от самого свода или потолка. В нем утверждаются по ночам ставни, которые закрепляются толстыми железными полосами; днем ставни снимаются, и вместо них раскладываются товары. Товары налицо, обмана нет. Выставленные образчики состоят из двух или трех кадок с соленой треской, из нескольких кусков парусины, веревок, листов латуни, подвешенных к потолочным балкам, обручей, расставленных вдоль стены, и половинок сукна на полках. Войдете – девушка, опрятно одетая, хорошенькая, молоденькая, в белой косыночке, с пухленькими красными ручками, оставляет свое рукоделие, встает, зовет отца или мать. Кто-нибудь из них входит и отмеривает вам товару или на два су, или на двадцать тысяч франков; купец-флегматик услужлив или горд, смотря по своему обыкновению.
Вы встречаете купца, промышляющего тесом, у дверей его дома. Ему, кажется, нечего делать, и вот он уже целый час болтает с соседом. Заглянете в его лавку: в ней валяется несколько обручей и куча бочарных досок; но на пристани магазина его станет на всех бочаров анжуйских. По урожаю винограда он рассчитывает барыш и товар до последней доски. Солнце светит – он богач, дождь – он разорен. Часто в одно утро цена на бочки возвышается вдруг до одиннадцати франков или спадает до шести ливров за штуку. Здесь, как и в Турени, погода – все в торговле. Виноградчики, помещики, продавцы леса, бочары, трактирщики – у всех одна тоска, одна забота: погода. Ложась спать, боятся ночного мороза. Проклинают дождь, ветер, засуху или молят о дожде, о засухе; вечная борьба природы с расчетами человеческими. Барометр сводит с ума или веселит весь город и разглаживает морщины на самых угрюмых лицах.
– Золотое время, – говорит сосед соседу на старой сомюрской улице, – ни облачка!
– Червонцами задождит, – отвечает сосед, рассчитывая барыш по лучу солнечному.
Летом в субботу, часов в десять вечера, ни в какой лавке вам не продадут ни на су товару. У каждого купца есть какой-нибудь клочок землицы, виноградник или хоть какой-нибудь огород, и хозяин едет дня на два погостить за городом. Обделав дела свои в городе, покупки, продажу, сладив барыш, купец покоен и выгадывает из двенадцати почти десять часов на удовольствия, на пересуды, на толки и на подсматривание за соседом. Хозяйка купит куропатку, кумушки осведомляются у хозяина, хорошо ли ее приготовили. Беда девушке, некстати взглянувшей в окошко: ее оговорят, засмеют, пересудят, осудят. Все налицо, каждый дом к услугам соседей, и уж как ни огораживайся и ни запирайся, а из дому успеют вовремя вынести сор.
Здесь живут не под кровлей, а на чистом воздухе: каждое семейство располагается у дверей своего дома, завтракает, обедает, спорит, ссорится. Всякий прохожий замечен. Еще со старых времен умели в провинциальных городках осмеять и оговорить иностранца, но об этом долго рассказывать. Скажу только, что от этого-то и окрестили в болтливых жителей Анжера, особенно отличавшихся сплетнями и пересудами.
Палаты дворян, отели, некогда ими обитаемые, расположены в старом городе. Дом, мрачный и угрюмый, куда сейчас перенесем мы читателей, был из числа этих древних зданий, остаток старых дел, памятник старого времени, времени простого и незатейливого, от которого давно уже мы отреклись и отступились.
Пройдя с вами по дороге, так богатой воспоминаниями, навевающими и грусть, и думу о прошедшем, я укажу вам на это мрачное углубление, посреди которого притаились ворота дома господина Гранде.
Но мы не поймем всего значения, всего смысла фразы: дом господина Гранде. Нужно познакомиться сначала с самим господином Гранде.
Кто не живал в провинции, тому трудно будет объяснить себе мнение и мысли сомюрских жителей насчет г-на Гранде. Этот господин (есть еще в Сомюре люди, которые запросто говорят о нем: «старик Гранде, папа Гранде», но они давно уже заметно начали переводиться), так этот-то г-н Гранде в 1789 году был не более чем простой бочар; дела его шли не худо, он умел писать, читать и считать.
Когда Французская Республика объявила о продаже монастырских имений, Гранде, которому было тогда уже лет под сорок, женился на дочери богатого купца, торговавшего лесом. Соединив свой капитал с приданым жены своей и достав, сверх того, две тысячи луидоров, он положил свои деньги в карман и явился в казначейство округа. Там, сунув суровому санкюлоту, наблюдавшему за продажей народного имущества, золотую взятку в двести луидоров, занятых у тестя, законно и справедливо вступил он во владение лучшими плантациями округа, старым аббатством и сколькими-то фермами и арендами.
Сомюрские жители любили тишину и не любили революции. Между тем Гранде прослыл смелым, отважным республиканцем, патриотом, человеком, понимавшим новое время и новые идеи, тогда как он только и мыслил о торговле да о виноградниках. Его сделали членом Управления Сомюрского округа, и Гранде удалось оставить впечатление миротворца и в управлении, и в торговле.
В первом отношении он покровительствовал блаженной памяти дворянам и всеми силами старался замедлить и даже уничтожить продажу земель эмигрантов. Что касается до торговли, то ему удалось сделать превыгодный оборот поставкой в армию до двух тысяч бочек белого вина. В уплату он выговорил себе прекрасные луга, принадлежавшие женскому монастырю, хотя правительство берегло эти луга и определило продавать их последними.
Наступила эпоха Консульства. Почтенный, уважаемый Гранде был сделан мэром; судил хорошо, торговал еще лучше. Во времена Империи Гранде стали называть господином Гранде. Наполеон не любил республиканцев, а так как Гранде считался во время оно санкюлотом, то он сменил его, назначив на его место богатого помещика, человека с надеждами, будущего барона Империи. Г-н Гранде без сожаления сложил с себя атрибуты власти гражданской. В правление свое, ради казенной выгоды, наделал он прекрасных дорог из города в свои поместья, дом и земли его были весьма выгодно кадастрированы, платить налоги приходилось ему самые умеренные. Его огороды и виноградники благодаря неусыпным попечениям стали в первом разряде по достоинству и служили образцами для других хозяев. Чего же более? Оставалось разве попросить орден Почетного легиона.
Все это было в 1806 году; Гранде было тогда пятьдесят семь лет, жене его – около тридцати шести. Их единственная дочь, плод законного супружества, была лет десяти.
В этом году судьба, вероятно хотевшая утешить его в неудачах политических, доставила ему одно за другим три наследства. Сперва после матери г-жи Гранде, урожденной Бертельер, потом от старика, дедушки г-жи Гранде, и, наконец, от г-жи Жантилье, его бабушки по матери. Никто не знал цены этим трем наследствам. Покойные, все трое, были так скупы, что держали в сундуках мертвые капиталы и втайне наслаждались своими сокровищами. Старик Бертельер не хотел ни за что пустить в оборот свои деньги, называл все обороты мотовством, расточительностью и находил более выгоды в созерцании сокровищ своих, нежели отдавая их на проценты.
В Сомюре рассчитывали наследство по солнцу, то есть по ежегодному доходу с виноградников.
Теперь Гранде, вопреки всевозможным идеям о равенстве, озолотив себя, стал выше всех и сделался важным лицом в своем городе. У него было сто десятин земли под виноградниками; в хорошие годы получал он с них от семисот до восьмисот бочек вина; тринадцать ферм, старое аббатство и более ста двадцати семи десятин земли под лугами, на которых росли три тысячи тополей, посаженных в 1793 году; наконец, дом, в котором он жил, был его собственный. Это было на виду. Что же касается до капиталов, то в целом Сомюре было всего два человека, которые могли что-нибудь знать об этом; то были г-н Крюшо, нотариус, ходок по денежным делам и оборотам г-на Гранде, а другой – г-н де Грассен, богатейший банкир в Сомюре; с ним потихоньку старик обрабатывал кое-какие сделки. Но хотя Крюшо и де Грассен вели дела скрытно и в глубокой тайне, в обществе они выказывали Гранде такое глубочайшее уважение, что наблюдатели, взяв это уважение за общую меру, могли по пальцам добраться до итогов имущества бывшего мэра.
Словом, в Сомюре не было никого, кто бы не был твердо уверен, что у Гранде спрятан где-нибудь клад, сундучок с червонцами, и что старик по ночам предается невыразимым наслаждениям, доставляемым созерцанием огромной груды золота. Скупые особенно готовы были присягнуть в этом, изучив взгляд старика, взгляд, горевший каким-то отблеском заветного металла. Взор человека, привыкшего смотреть на золото, наслаждаться им, блестит каким-то неопределенным тайным выражением, схватывает неизвестные оттенки, усваивает необъяснимые привычки, как взгляд развратника, игрока или придворного; взор этот быстр и робок, жаден, таинствен; обычно его знают, научились ему: это – условный знак, франкмасонство страсти.
Итак, Гранде пользовался всеобщим почтением и уважением как человек, который никогда никому не был должен, как человек ловкий, опытный во всяком деле и во всякой сделке. Например, старый бочар умел с необыкновенной точностью определить, нужно ли ему тысячу бочек или пятьсот при настоящем сборе. Наконец, как человек, которому удались все спекуляции и у которого всегда было несколько бочонков в продаже в то время, как дешевели деньги; который умел при случае спрятать товар свой в подвалы и выждать время, когда бочонок вина будет стоить двести франков, тогда как другие продавали свое вино по пяти луидоров за бочку. Так, в 1811 году богатый сбор винограда был умно припрятан, медленно продан, и Гранде заработал двести сорок тысяч ливров одной осторожностью. В коммерции он был ловок, жаден, силен как тигр, как боа. Он умел при случае спрятать свои когти, свернуться в клубок, выждать минуту и, наконец, броситься на жертву. Потом он растягивал ужасную пасть кошеля своего, сыпал в него червонцы, завязывал, прятал кошель – и все это самодовольно, холодно, методически, как змея, спокойно переваривающая проглоченную добычу. Никто при встрече с ним не мог освободиться от особенного чувства тайного уважения, удивления и страха. Кто в Сомюре не попробовал вежливого удара его холодных, острых когтей? Тому Крюшо сумел достать денег для покупки земли, да по одиннадцати на сто; тому де Грассен разменял вексель, да с огромным учетом. Не было дня, чтобы имя Гранде не упоминалось или в конторах купцов, или в вечерних собраниях и разговорах горожан. Были люди, которые гордились богатством старика, хвастаясь им, как национальной славой. Часто слышали, как купец какой-нибудь или трактирщик с тайным удовольствием говорил заезжим:
– Да, сударь, водятся и у нас богачи, миллионеры, два-три дома. Что же касается господина Гранде, так уж вряд ли и сам-то он перечтет свое состояние.
В 1816 году опытные люди рассчитывали недвижимое богатство старика почти в четыре миллиона. Но так как с 1793 по 1817 год одних доходов с земель было ежегодно сто тысяч франков, то можно было заключить, что и наличных было у него на такую же сумму. И когда, бывало, по окончании партии в бостон или беседы о виноградниках солидные люди разговорятся о том о сем, наконец сведут на старика Гранде и скажут, например: «У старика Гранде теперь есть верных шесть миллионов», то Крюшо и де Грассен, если слышали слова эти, всегда прибавляли с какой-то таинственностью:
– Дальновиднее же вы нас! Нам так никогда почти не удавалось свести верных счетов.
Заезжий парижанин скажет, бывало, слово-другое о Ротшильде или о Лафите, сомюрцы тотчас спросят: «Так же ли богаты они, как, например, Гранде?» И ежели им отвечали насмешливой улыбкой, то они покачивали головами в знак недоверчивости.
Подобное состояние облачало золотой мантией все деяния этого человека. И если в частной жизни его и встречалось что-нибудь смешное, странное, то решительно никто не находил этого ни смешным, ни странным. Гранде был для всех образцом в Сомюре, авторитетом. Его слова, одежда, ухватки, мигание взгляда считались законами, решениями. Из каждого поступка, движения его выводили следствия, и всегда почти верные и безошибочные.
– Зима будет холодная: Гранде надел уже теплые перчатки. Не худо позаботиться о продаже вина.
Или:
– Гранде закупает много досок. Славное вино будет в этом году!
Никогда Гранде не покупал ни хлеба, ни мяса. Каждую неделю фермеры приносили ему сколько было нужно овощей, каплунов, кур, яиц, масла и зернового хлеба. У него была своя мельница, и мельник, не в счет договора, должен был в известное время являться к нему за зерном, смолоть и представить его мукой. Длинная Нанета, единственная служанка в целом доме, довольно пожилая, сама пекла по субботам хлеб на все семейство. Плодов Гранде собирал так много, что продавал их на рынке. Дрова рубились в его заказниках, или употреблялись вместо них старые, полусгнившие изгороди, обходившие кругом поля его. Фермеры же рубили и дрова и из учтивости сами складывали их в сараи, за что он обыкновенно был им благодарен. Единственные издержки его были: туалет жены и дочери, плата за их два места в церкви и за просфоры, свечи, жалованье Длинной Нанеты; лужение ее кастрюль, издержки судебные на купчие, квитанции и залоги; наконец – на поправку его строений. У него было триста арпанов лесу (недавно купленного); надзирали за ним сторожа соседей, за что обещал он им дать жалованье. Только после покупки лесу на столе у него стала появляться дичь.
Говорил он мало. Все приемы его были весьма просты и обыкновенны. Изъяснялся он коротко, дельно, голосом тихим. С самой революции, когда впервые он обратил на себя внимание, чудак начал заикаться, особенно с ним это случалось в каком-нибудь споре или когда приходилось долго говорить. Но заикание, так же как и многословие, несвязность речи и недостаток в ней логического порядка, было чистым притворством, а не недостатком образования, как полагали некоторые. Мы объясним эту историю впоследствии. Впрочем, он не затруднялся разговором, и с него довольно было четырех фраз, словно четырех алгебраических формул, для всевозможных счетов, расчетов и рассуждений в его частной и домашней жизни; вот они:
– Я не знаю.
– Не могу!
– Не хочу!
– А… а… а… посмотрим.
Ни да, ни нет – этих слов он особенно не терпел. Весьма не любил также писать. Когда с ним разговаривали, он хладнокровно и внимательно слушал, придерживая одной рукой подбородок, тогда как другая рука придерживала локоть первой. На все у него было свое мнение, раз принятое и неуступчивое. В ничтожнейших сделках он обыкновенно долго не решался, раздумывал, соображал, и, когда противник, считая, наконец, дело за собою, чуть-чуть проговорится, Гранде отвечает: