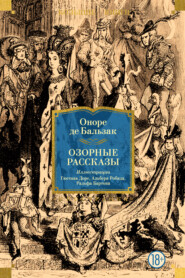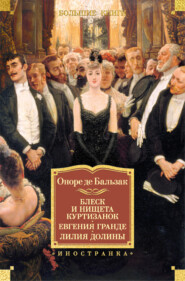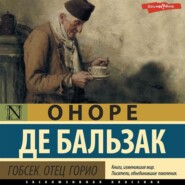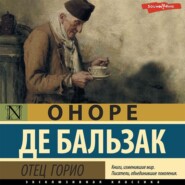По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– На шею хорошенькой женщине, хотите вы сказать, – резко оборвала его мадмуазель Мишоно. – Уходите-ка отсюда. Это наше женское дело ухаживать за вами, мужчинами, когда вы больны. Лучше пойдите прогуляйтесь, на это вы годитесь, – добавила она. – А мы с госпожой Воке отлично выходим нашего дорогого господина Вотрена.
Пуаре вышел тихо и послушно, как собака, получившая пинок от своего хозяина.
Растиньяк ушел из дома, чтобы походить и подышать свежим воздухом, – он задыхался. Ведь накануне он хотел помешать этому убийству, а оно свершилось точно в назначенное время. Что же произошло? Как ему быть? Сознание, что он сообщник преступника, бросало его в дрожь. Хладнокровие Вотрена продолжало страшить его.
– А если бы Вотрен умер, ничего не сказав? – спрашивал себя Растиньяк.
Он бегал по аллеям Люксембургского сада, словно его гнала стая гончих и ему чудился их лай.
– Ну, что, – крикнул ему Бьяншон, – читал «Кормчего»?
«Кормчий» была радикальная газета под редакцией Тиссо; после выхода утренних газет она давала сводку всех новостей дня, приходившую в провинцию на сутки раньше остальных газет.
– Там есть замечательное происшествие, – говорил практикант при больнице имени Кошена. – Сын Тайфера дрался на дуэли с графом Франкессини, офицером старой гвардии, и граф всадил ему шпагу на два дюйма в лоб. Теперь Викторина одна из самых богатых невест в Париже. Эх, кабы знать! Смерть – та же азартная игра! Правда, что Викторина поглядывала на тебя благосклонно?
– Молчи, Бьяншон, я не женюсь на ней никогда. Я люблю прелестную женщину, любим ею, я…
– Ты все это говоришь так, точно изо всех сил стараешься не изменить ей. Покажи-ка мне такую женщину, ради которой стоило бы отказаться от состояния досточтимого Тайфера.
– Неужели меня преследуют все демоны? – воскликнул Растиньяк.
– Где ты их видишь? Что ты, с ума сошел? Дай руку, я пощупаю пульс, сказал Бьяншон. – У тебя лихорадка.
– Ступай к мамаше Воке, – ответил Растиньяк, – там этот разбойник Вотрен упал замертво.
– А-а! Ты подтверждаешь мои подозрения; пойду проверю, – сказал Бьяншон, оставляя Растиньяка в одиночестве.
Долгая прогулка студента-юриста носила торжественный характер. Можно сказать, что он обследовал свою совесть со всех сторон. Правда, он долго размышлял, взвешивал, колебался, но все же его честность вышла из этого жестокого и страшного испытания прочной, как железная балка, способная выдержать любую пробу. Он вспомнил вчерашние признания папаши Горио, вызвал в своей памяти квартиру на улице д'Артуа, подысканную для него Дельфиной, вынул ее письмо, перечел и поцеловал.
«Такая любовь – мой якорь спасения, – подумал он. – Бедный старик много выстрадал душой. Он ничего не говорит о своих горестях, но кто не догадается о них! Хорошо, я буду заботиться о нем, как об отце, постараюсь доставить ему побольше радостей. Раз Дельфина меня любит, она будет часто приходить ко мне и проводить с ним день. А важная графиня де Ресто – дрянь, она способна сделать отца своим швейцаром. Милая Дельфина! Она гораздо лучше относится к старику и достойна любви. Сегодня вечером я буду, наконец, счастлив».
Он вынул часы и залюбовался ими.
«Все так удачно сложилось для меня! Когда полюбишь сильно, навсегда, то допустимо и помогать друг другу, следовательно я могу принять этот подарок. Кроме того, я добьюсь успеха и верну ей все сторицей. В нашей связи нет ничего преступного, ничего такого, от чего может насупиться даже самая строгая добродетель. Сколько порядочных людей заключает подобные союзы! Мы никого не обманываем, а унижает человека именно ложь. Лгать – значит отрекаться от себя! Она уже давно живет раздельно с мужем. Да я и сам потребую от эльзасца уступить мне эту женщину, раз он не может дать ей счастье».
В душе Эжена шла долгая борьба. Победа осталась за лучшими влечениями юности, но все же, подстрекаемый непреодолимым любопытством, он в половине пятого, когда уже смеркалось, явился в «Дом Воке», дав, впрочем, себе клятву уехать оттуда навсегда. Эжен хотел узнать, умер Вотрен или жив. Бьяншону пришла в голову мысль дать Вотрену рвотного, после чего он велел отнести рвотные извержения к себе в больницу, чтобы сделать химический анализ. Подозрение его окрепло, когда он увидел, с какой настойчивостью мадмуазель Мишоно стремилась выбросить их в помойку. Ко всему прочему Вотрен оправился уж очень быстро, и Бьяншон заподозрил какой-то заговор против веселого затейщика их пансиона. К приходу Растиньяка Вотрен был уже в столовой и стоял у печки. Известие о дуэли сына Тайфера, желание узнать подробности этого события и его последствия для Викторины привлекли нахлебников раньше обычного времени: собрались все, кроме папаши Горио, и теперь обсуждали происшествие. Когда Эжен вошел, глаза его встретились со взглядом невозмутимого Вотрена, и этот взгляд проник Эжену в душу так глубоко, с такою силой рванул в ней струны низких чувств, что Растиньяк вздрогнул.
– Итак, мой милый мальчик, – обратился к нему беглый каторжник, Курносой еще долго не справиться со мной. Как уверяют наши дамы, я победоносно выдержал такой удар, который прикончил бы даже вола.
– О! Вы можете вполне сказать – быка! – воскликнула вдова Воке.
– Может быть, вас огорчает, что я остался жив? – сказал Вотрен на ухо Эжену, точно проникнув в его мысли. – Это было бы достойно чертовски сильного человека!
– Ах, да, – вмешался Бьяншон, – третьего дня мадмуазель Мишоно говорила о некоем господине по прозвищу Обмани-смерть; такая кличка очень подошла бы к вам.
Это сообщение подействовало на Вотрена, как удар молнии. Он побледнел и зашатался, его магнетический взгляд, подобно солнечному лучу упав на мадмуазель Мишоно, как бы потоком излученной воли сбил ее с ног. Старая дева рухнула на стул. Пуаре поторопился стать между нею и Вотреном, сообразив, что ей грозит опасность, – такой свирепостью дышало лицо каторжника, когда он сбросил маску добродушия, скрывавшую его подлинную сущность. Нахлебники остолбенели, еще не понимая, в чем заключалась драма. В это мгновение на улице послышались шаги нескольких человек и звякнули о мостовую ружья, опущенные солдатами к ноге. Пока Коллен непроизвольно искал выхода, посматривая на окна и на стены, четыре человека появились в дверях гостиной. Первым стоял начальник сыскной полиции, за ним три полицейских.
– Именем закона и короля… – произнес один из полицейских, но конец его речи был заглушен рокотом изумления.
Потом настала тишина, и нахлебники расступились, давая дорогу: вошло трое полицейских; каждый из них, опустив руку в карман, держал в ней пистолет со взведенным курком. Два жандарма, войдя следом за представителями полиции, стали у порога, два других показались у двери со стороны лестницы. Шаги солдат и звяканье ружей послышались на мощеной дорожке, шедшей вдоль фасада. О бегстве не могло быть и речи, – и взоры всех невольно приковались к Обмани-смерть. Начальник полиции, подойдя к Вотрену, ударил его по голове так сильно, что парик слетел, и голова Коллена явилась во всем своем отталкивающем воде. Кирпично-красные коротко подстриженные волосы придавали его голове, его лицу, прекрасно сочетавшимся с его могучей грудью, жуткий характер какой-то коварной силы, выразительно освещая их как бы отсветом адского пламени. Все поняли Вотрена, его прошлое, настоящее и будущее, его жестокие воззрения, культ своего произвола, его господство над другими благодаря цинизму его мыслей и поступков, благодаря силе организма, приспособленного ко всему. Кровь бросилась в лицо Коллену, глаза его горели, как у дикой кошки. Он подпрыгнул на месте в таком свирепом и мощном порыве, так зарычал, что нахлебники вскрикнули от ужаса. При этом львином движении полицейские воспользовались переполохом и выхватили из карманов пистолеты. Заметив блеск взведенных курков, Коллен понял опасность и в один миг показал, как может быть огромна у человека сила воли. Страшное и величественное зрелище! Лицо его отобразило поразительное явление, сравнимое только с тем, что происходит в паровом котле, когда сжатый пар, способный поднять горы, от одной капли холодной воды мгновенно оседает. Каплей холодной воды, охладившей ярость каторжника, послужила одна мысль, быстрая, как молния. Он усмехнулся и поглядел на свой парик.
– Прошли те времена, когда ты бывал вежлив, – сказал он начальнику тайной полиции. И, кивком головы подозвав жандармов, вытянул вперед руки. Милостивые государи, господа жандармы, наденьте мне наручники. Беру в свидетели присутствующих, что я не оказал сопротивления.
Быстрота, с какой огонь и лава вырвались из этого человеческого вулкана и снова ушли внутрь, изумила всех, и шопот восхищения пронесся по столовой.
– Карта бита, господин громила, – продолжал Коллен, глядя на знаменитого начальника сыскной полиции.
– Ну, раздеться! – презрительно прикрикнул на него человек из переулка Сент-Анн.
– Зачем? – возразил Коллен. – Здесь дамы. Я не запираюсь и сдаюсь.
Он сделал паузу и оглядел собравшихся, как делают ораторы, намереваясь сообщить поразительные вещи.
– Пишите, папаша Ляшапель, – обратился он к седому старичку, который пристроился на конце стола и вытащил из портфеля протокол ареста. – Признаю: я – Жак Коллен, по прозвищу Обмани-смерть, присужденный к двадцати годам заключения в оковах, и только что я доказал, что это прозвище ношу недаром. – Затем, обращаясь к нахлебникам, пояснил: – Пошевели я лишь пальцем, и вот эти три шпика выпустили бы из меня клюквенный сок на домушный проспект маменьки Воке. Чудаки! Туда же, берутся подстраивать ловушки!
Услыхав такие страсти, г-жа Воке почувствовала себя дурно.
– Господи! От этого можно заболеть! Я же с ним была вчера в театре Гетэ, – пожаловалась она Сильвии.
– Немножко философии, мамаша, – продолжал Коллен. – Что за беда, если вчера в Гетэ вы были в моей ложе? – воскликнул он. – Разве вы лучше нас? То, что заклеймило нам плечо, не так позорно, как то, что заклеймило душу вам, дряблым членам пораженного гангреной общества; лучший из вас не устоял против меня.
Коллен перевел глаза на Растиньяка, ласково улыбнувшись ему, что странно противоречило суровому выражению его лица.
– Наш уговор, мой ангел, остается в силе, – разумеется, в случае согласия! Чьего? Понятно. – И он пропел:
Мила моя Фаншета
Сердечной простотой…
– Не беспокойтесь, – продолжал он, – что мне причитается, я сумею получить. Меня слишком боятся и не обчистят!
Каторга с ее нравами и языком, с ее резкими переходами от шутовского к ужасному, ее страшное величие, ее бесцеремонность, ее низость – все проявилось в этих словах и в этом человеке, представлявшем теперь собою уже не личность, а тип, образец выродившейся породы, некоего дикого и умного, хищного и ловкого племени. В одно мгновенье Коллен стал воплощением какой-то адской поэзии, где живописно выразились все человеческие чувства, кроме одного: раскаяния. Взор его был взором падшего ангела, неукротимого в своей борьбе. Растиньяк опустил глаза, принимая его позорящую дружбу как искупление своих дурных помыслов.
– Кто меня предал? – спросил Коллен, обводя присутствующих грозным взглядом, и, остановив его на мадмуазель Мишоно, сказал: – Это ты, старая вобла? Ты мне устроила искусственный удар, шпионка? Стоит мне сказать два слова, и через неделю тебе перепилят глотку. Прощаю тебе, я христианин. Да и не ты предала меня. Но кто?.. Эй! Эй! что вы шарите там наверху! – крикнул он, услыхав, что полицейские взламывают у него в комнате шкапы и забирают его вещи. – Птенчики вылетели из гнезда еще вчера. И ничего вам не узнать. Мои торговые книги здесь, – сказал он, хлопнув себя по лбу. – Теперь я знаю, кто меня предал. Не иначе как этот мерзавец Шелковинка. Верно, папаша взломщик? – спросил Коллен начальника полиции. – Все это уж очень совпадает с тем, что наши кредитки прятались там наверху. Теперь, голубчики шпики, там нет ничего. Что до Шелковинки, то приставьте к нему хоть всех жандармов для охраны, а не пройдет и двух недель, как его пришьют. Сколько вы дали Мишонетке? – спросил Коллен у полицейских. – Несколько тысяч? Я стою больше. Эх ты, гнилая Нинон, Венера Кладбищенская, Помпадур в отрепьях.[73 - Нинон де Ланкло (1620–1705) – французская куртизанка. Маркиза де Помпадур (1721–1764) – фаворитка Людовика XV.] Кабы ты меня предупредила, у тебя было бы шесть тысяч. А-а! Старая торговка человечьим мясом, ты этого не смекнула, а то сторговалась бы со мной. Я бы дал их, чтобы избежать путешествия, которое мне совсем некстати и причинит большой убыток, – говорил он, пока ему надевали наручники. – Теперь эти молодчики себя потешат и будут без конца таскать меня, чтобы измаять. Отправь они меня на каторгу сейчас же, я скоро бы вернулся к своим занятиям, несмотря на соглядатаев с Ювелирной набережной.[74 - «…несмотря на соглядатаев с Ювелирной набережной». – Имеются в виду сыщики: к Ювелирной набережной примыкает префектура полиции.] На каторге все вылезут из кожи вон, только б устроить побег своему генералу, своему милому Обмани-смерть! У кого из вас найдется, как у меня, больше десяти тысяч собратьев, готовых для вас на все? – спросил он гордо. – Тут есть кое-что хорошее, – добавил он, ударив себя в грудь, – я не предавал никого и никогда! Эй ты, вобла, – обратился он к старой деве, – посмотри на них. На меня они глядят со страхом, а при взгляде на тебя их всех тошнит от омерзения. Получай то, что заслужила.
Он замолчал, посматривая на нахлебников.
– Какой у вас дурацкий вид! Никогда не видели каторжника? Каторжник такой закалки, как Коллен, тот самый, что перед вами, – это человек, менее трусливый, чем остальные люди, он протестует против коренных нарушений общественного договора, о котором говорил Жан-Жак, а я горжусь честью быть его учеником. Я один против правительства со всеми его жандармами, бюджетами, судами и вожу их за нос.
– Черт побери! Он так и просится на картину, – заметил художник.
– Ты, дядька его высочества палача, гофмейстер Вдовы (такое прозвище, овеянное поэзией ужаса, дали каторжники гильотине), – сказал Коллен, оборачиваясь к начальнику сыскной полиции, – будь добр, подтверди, если меня предал Шелковинка! Я не хочу, чтобы он расплачивался за другого, это было бы несправедливо.
В это время полицейские, все перерыв у него в комнате и составив опись, вернулись и стали шопотом докладывать начальнику. Допрос закончился.
– Господа, – обратился Коллен к нахлебникам, – сейчас меня уведут. Пока я жил здесь, вы были все со мной любезны, я сохраню признательность за это. Примите мой прощальный привет. Разрешите прислать вам из Прованса винных ягод.[75 - «Разрешите прислать вам из Прованса винных ягод». – Вотрен иронизирует по поводу предстоящей ему отправки на каторгу, на юг Франции.]
Он сделал несколько шагов, но обернулся взглянуть на Растиньяка.