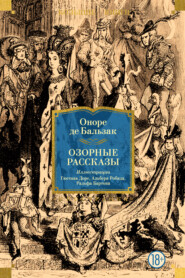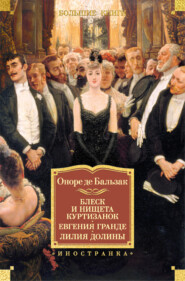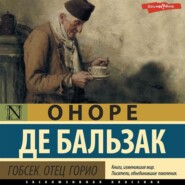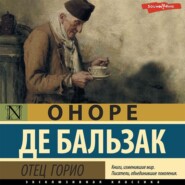По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как в Сирию собрался
Красавец Дюнуа…
– Ну же, ведь вам до смерти хочется, – trahit sua quemque voluptas,[76 - Каждого влечет его страсть (лат.).] сказал Бьяншон.
– Каждый бежит за своей подружкой – таков вольный перевод этих слов Вергилия, – добавил репетитор.
Мадмуазель Мишоно посмотрела на Пуаре и показала жестом, будто берет кого-то под руку; Пуаре не устоял против этого призыва, подошел к ней и предложил ей руку.
Раздался взрыв хохота и гром аплодисментов.
– Браво, Пуаре!
– Ай да старик Пуаре!
– Аполлон Пуаре!
– Марс Пуаре!
– Молодчина Пуаре!
В эту минуту вошел посыльный и передал г-же Воке письмо; прочтя его, она бессильно опустилась на стул.
– Остается только сжечь мой дом, на него рушатся все громы небесные. В три часа умер сын Тайфера. Я наказана за то, что желала добра госпоже Кутюр и Викторине ценой несчастья бедного молодого человека. Теперь эти дамы просят отдать их вещи и остаются жить у Тайфера-отца. Он разрешил дочери поселить у себя вдову Кутюр в качестве компаньонки. Четыре помещения свободны, пяти жильцов как не бывало! Уж вот беда так беда! – чуть не плача, воскликнула г-жа Воке.
Шум экипажа, послышавшийся на улице, вдруг смолк у дома.
– Еще какая-нибудь напасть, – сказала Сильвия.
Неожиданно появился Горио; его лицо светилось счастьем, стало цветущим, старик точно переродился.
– Горио – в фиакре! – удивились нахлебники. – Да это светопреставление!
Старик прямо направился в тот угол, где задумчиво стоял Эжен, взял его за руку и весело сказал:
– Идемте.
– Так вы не знаете, что здесь произошло? – ответил Растиньяк. – Вотрен оказался каторжником, его сейчас арестовали, а сын Тайфера умер.
– А нам-то что до этого! – возразил папаша Горио. – Я с дочерью обедаю у вас, вы это понимаете? Она вас ждет, идемте!
Он с такой силой тащил Эжена за руку, понуждая его итти, как будто похищал любовницу.
– Давайте обедать! – крикнул художник.
Все взяли стулья и уселись за стол.
– Вот тебе раз, – сказала толстуха Сильвия, – сегодня одно горе, да и только, – вот и у меня баранина с репой подгорела. Ну, будете кушать горелое, ничего не сделаешь!
Вдова Воке была не в силах выговорить ни слова, видя за столом вместо восемнадцати нахлебников лишь десять, но все старались ее утешить и развеселить. Сначала заговорили о Вотрене и событиях дня, но вскоре, следуя извилистому ходу беседы, перешли на вопросы о дуэлях, каторге, судах, о несовершенстве законов и о тюрьмах. В конце концов собеседники на тысячу лье отдалились от Жака Коллена, Викторины, ее брата, и, хотя их было только десять, они кричали громче двадцати: казалось, что собралось народу больше, чем обыкновенно; в этом и заключалась вся разница между нынешним обедом и вчерашним. У этого эгоистического люда, который завтра же найдет для себя новую поживу среди парижских каждодневных происшествий, его обычная беспечность взяла верх; даже сама г-жа Воке поддалась надежде, звучавшей в голосе толстухи Сильвии, и успокоилась.
Весь этот день, с утра до вечера, представлялся Растиньяку какой-то фантасмагорией; несмотря на силу своего характера и крепкую голову, он, даже сидя в фиакре рядом с папашей Горио, все еще не был в состоянии привести в порядок свои мысли, и после стольких треволнений все рассуждения старика, проникнутые необычайной радостью, долетали до ушей Эжена как разговоры, которые слышишь сквозь сон.
– Все закончено еще утром. Мы будем обедать втроем, вместе! Понимаете? Вот уже четыре года, как я не обедал с Дельфиной, с моей Фифиной, теперь она будет со мной весь вечер. Мы с самого утра у вас. Сняв сюртук, я работал, как поденщик. Я помогал носить мебель. О, вы не знаете, какой милой Фифина бывает за столом, как она будет внимательна ко мне: «Папа, покушайте вот этого, это вкусно!» А когда она такая – я не в силах есть. Да, давно мне не было с ней так хорошо, спокойно, как теперь!
– Значит, сегодня весь мир перевернулся? – сказал ему Эжен.
– Перевернулся? – удивился папаша Горио. – Да никогда не было так хорошо на свете! На улицах я вижу лишь радостные лица, только людей, которые жмут друг другу руки и целуются, таких счастливых, точно все они идут к своим дочкам лакомиться обедом, таким же вкусным, как и тот, что заказала при мне Фифина главному повару «Английского кафе». Да при ней и редька покажется слаще меда.
– Я, кажется, прихожу в себя, – сказал Эжен.
– Извозчик, ну же, двигайтесь! – крикнул папаша Горио, подняв переднее стекло. – Прибавьте ходу, я дам вам сто су на водку, если доставите меня через десять минут, куда вам сказано.
Услыхав такое обещание, извозчик помчался во всю прыть.
– Он же не двигается с места, – говорил папаша Горио.
– А куда вы меня везете? – спросил Растиньяк.
– К вам, – ответил папаша Горио.
Карета остановилась на улице д'Артуа. Старик сошел первым и бросил кучеру десять франков с расточительностью какого-нибудь вдовца, которому в угаре наслажденья – все нипочем!
– Ну, идемте, – сказал он Растиньяку и, обогнув через двор новый красивый дом, с заднего фасада привел Эжена к дверям квартиры на четвертом этаже. Папаше Горио не пришлось звонить. Горничная г-жи де Нусинген, Тереза, открыла дверь. Эжен очутился в прелестной квартирке, состоявшей из передней, маленькой гостиной, спальни и кабинета с видом на какой-то сад. Маленькая гостиная по своему уюту и по изяществу всей обстановки выдержала бы любое сравнение, и там при свете восковых свечей Эжен увидел Дельфину, сидевшую перед камином на козетке; она встала, положила ручной экран на доску камина и тоном глубокой нежности сказала Растиньяку:
– Оказывается, за вами надо посылать, господин недогада!
Тереза вышла. Студент обнял Дельфину, прижал к себе и от радости заплакал. После стольких тягостных волнений, за один день истомивших ум и сердце, резкий переход от зрелища в «Доме Воке» к этой картине вызвал у Растиньяка приступ нервической чувствительности.
– Я отлично знал, что он тебя любит, – шопотом говорил дочери папаша Горио, пока Эжен, совершенно разбитый, лежа на козетке, был еще не в силах ни говорить, ни дать себе отчет, откуда появилось это волшебство.
– Да идите же посмотрите, – сказала ему г-жа де Нусинген и, взяв его за руку, привела в комнату, которая мебелью, коврами и даже мелочами убранства напоминала комнату самой Дельфины, но была поменьше.
– Недостают только кровати, – заметил Растиньяк.
– Да, – ответила она ему, краснея и пожимая руку.
Эжен взглянул на нее: он был еще юн и понял, сколько истинной стыдливости заключено в душе любящей женщины.
– Вы принадлежите к женщинам, достойным поклонения, – сказал Эжен ей на ухо. – Мы так хорошо понимаем друг друга, что я решаюсь вам сказать: чем сильнее, чем искреннее любовь, тем больше необходимы ей таинственность и скрытность. Не выдадим нашей тайны никому.
– Я-то не никто, – проворчал Папаша Горио.
– Вы отлично знаете, что вы – это мы…
– Вот чего мне и хотелось: ведь вы не станете обращать на меня внимания? Я буду уходить и приходить, как добрый дух, – его не видят, но знают, что он здесь. Видишь, Фифиночка, Нини, Диди! Разве не прав был я, когда говорил: «На улице д'Артуа сдается хорошенькая квартирка, давай ее обставим для него»? А ты все не хотела. Я твой родитель, я стал и устроителем твоего счастья! Отцы всегда должны дарить, чтобы наслаждаться отцовской радостью. Всегда дари! Вот твое дело, раз ты отец.
– Как так? – сказал Эжен.
– Да, да, она не хотела: боялась глупых сплетен, как будто мнение света стоит счастья! А все женщины мечтают о том, что сделала она…
Красавец Дюнуа…
– Ну же, ведь вам до смерти хочется, – trahit sua quemque voluptas,[76 - Каждого влечет его страсть (лат.).] сказал Бьяншон.
– Каждый бежит за своей подружкой – таков вольный перевод этих слов Вергилия, – добавил репетитор.
Мадмуазель Мишоно посмотрела на Пуаре и показала жестом, будто берет кого-то под руку; Пуаре не устоял против этого призыва, подошел к ней и предложил ей руку.
Раздался взрыв хохота и гром аплодисментов.
– Браво, Пуаре!
– Ай да старик Пуаре!
– Аполлон Пуаре!
– Марс Пуаре!
– Молодчина Пуаре!
В эту минуту вошел посыльный и передал г-же Воке письмо; прочтя его, она бессильно опустилась на стул.
– Остается только сжечь мой дом, на него рушатся все громы небесные. В три часа умер сын Тайфера. Я наказана за то, что желала добра госпоже Кутюр и Викторине ценой несчастья бедного молодого человека. Теперь эти дамы просят отдать их вещи и остаются жить у Тайфера-отца. Он разрешил дочери поселить у себя вдову Кутюр в качестве компаньонки. Четыре помещения свободны, пяти жильцов как не бывало! Уж вот беда так беда! – чуть не плача, воскликнула г-жа Воке.
Шум экипажа, послышавшийся на улице, вдруг смолк у дома.
– Еще какая-нибудь напасть, – сказала Сильвия.
Неожиданно появился Горио; его лицо светилось счастьем, стало цветущим, старик точно переродился.
– Горио – в фиакре! – удивились нахлебники. – Да это светопреставление!
Старик прямо направился в тот угол, где задумчиво стоял Эжен, взял его за руку и весело сказал:
– Идемте.
– Так вы не знаете, что здесь произошло? – ответил Растиньяк. – Вотрен оказался каторжником, его сейчас арестовали, а сын Тайфера умер.
– А нам-то что до этого! – возразил папаша Горио. – Я с дочерью обедаю у вас, вы это понимаете? Она вас ждет, идемте!
Он с такой силой тащил Эжена за руку, понуждая его итти, как будто похищал любовницу.
– Давайте обедать! – крикнул художник.
Все взяли стулья и уселись за стол.
– Вот тебе раз, – сказала толстуха Сильвия, – сегодня одно горе, да и только, – вот и у меня баранина с репой подгорела. Ну, будете кушать горелое, ничего не сделаешь!
Вдова Воке была не в силах выговорить ни слова, видя за столом вместо восемнадцати нахлебников лишь десять, но все старались ее утешить и развеселить. Сначала заговорили о Вотрене и событиях дня, но вскоре, следуя извилистому ходу беседы, перешли на вопросы о дуэлях, каторге, судах, о несовершенстве законов и о тюрьмах. В конце концов собеседники на тысячу лье отдалились от Жака Коллена, Викторины, ее брата, и, хотя их было только десять, они кричали громче двадцати: казалось, что собралось народу больше, чем обыкновенно; в этом и заключалась вся разница между нынешним обедом и вчерашним. У этого эгоистического люда, который завтра же найдет для себя новую поживу среди парижских каждодневных происшествий, его обычная беспечность взяла верх; даже сама г-жа Воке поддалась надежде, звучавшей в голосе толстухи Сильвии, и успокоилась.
Весь этот день, с утра до вечера, представлялся Растиньяку какой-то фантасмагорией; несмотря на силу своего характера и крепкую голову, он, даже сидя в фиакре рядом с папашей Горио, все еще не был в состоянии привести в порядок свои мысли, и после стольких треволнений все рассуждения старика, проникнутые необычайной радостью, долетали до ушей Эжена как разговоры, которые слышишь сквозь сон.
– Все закончено еще утром. Мы будем обедать втроем, вместе! Понимаете? Вот уже четыре года, как я не обедал с Дельфиной, с моей Фифиной, теперь она будет со мной весь вечер. Мы с самого утра у вас. Сняв сюртук, я работал, как поденщик. Я помогал носить мебель. О, вы не знаете, какой милой Фифина бывает за столом, как она будет внимательна ко мне: «Папа, покушайте вот этого, это вкусно!» А когда она такая – я не в силах есть. Да, давно мне не было с ней так хорошо, спокойно, как теперь!
– Значит, сегодня весь мир перевернулся? – сказал ему Эжен.
– Перевернулся? – удивился папаша Горио. – Да никогда не было так хорошо на свете! На улицах я вижу лишь радостные лица, только людей, которые жмут друг другу руки и целуются, таких счастливых, точно все они идут к своим дочкам лакомиться обедом, таким же вкусным, как и тот, что заказала при мне Фифина главному повару «Английского кафе». Да при ней и редька покажется слаще меда.
– Я, кажется, прихожу в себя, – сказал Эжен.
– Извозчик, ну же, двигайтесь! – крикнул папаша Горио, подняв переднее стекло. – Прибавьте ходу, я дам вам сто су на водку, если доставите меня через десять минут, куда вам сказано.
Услыхав такое обещание, извозчик помчался во всю прыть.
– Он же не двигается с места, – говорил папаша Горио.
– А куда вы меня везете? – спросил Растиньяк.
– К вам, – ответил папаша Горио.
Карета остановилась на улице д'Артуа. Старик сошел первым и бросил кучеру десять франков с расточительностью какого-нибудь вдовца, которому в угаре наслажденья – все нипочем!
– Ну, идемте, – сказал он Растиньяку и, обогнув через двор новый красивый дом, с заднего фасада привел Эжена к дверям квартиры на четвертом этаже. Папаше Горио не пришлось звонить. Горничная г-жи де Нусинген, Тереза, открыла дверь. Эжен очутился в прелестной квартирке, состоявшей из передней, маленькой гостиной, спальни и кабинета с видом на какой-то сад. Маленькая гостиная по своему уюту и по изяществу всей обстановки выдержала бы любое сравнение, и там при свете восковых свечей Эжен увидел Дельфину, сидевшую перед камином на козетке; она встала, положила ручной экран на доску камина и тоном глубокой нежности сказала Растиньяку:
– Оказывается, за вами надо посылать, господин недогада!
Тереза вышла. Студент обнял Дельфину, прижал к себе и от радости заплакал. После стольких тягостных волнений, за один день истомивших ум и сердце, резкий переход от зрелища в «Доме Воке» к этой картине вызвал у Растиньяка приступ нервической чувствительности.
– Я отлично знал, что он тебя любит, – шопотом говорил дочери папаша Горио, пока Эжен, совершенно разбитый, лежа на козетке, был еще не в силах ни говорить, ни дать себе отчет, откуда появилось это волшебство.
– Да идите же посмотрите, – сказала ему г-жа де Нусинген и, взяв его за руку, привела в комнату, которая мебелью, коврами и даже мелочами убранства напоминала комнату самой Дельфины, но была поменьше.
– Недостают только кровати, – заметил Растиньяк.
– Да, – ответила она ему, краснея и пожимая руку.
Эжен взглянул на нее: он был еще юн и понял, сколько истинной стыдливости заключено в душе любящей женщины.
– Вы принадлежите к женщинам, достойным поклонения, – сказал Эжен ей на ухо. – Мы так хорошо понимаем друг друга, что я решаюсь вам сказать: чем сильнее, чем искреннее любовь, тем больше необходимы ей таинственность и скрытность. Не выдадим нашей тайны никому.
– Я-то не никто, – проворчал Папаша Горио.
– Вы отлично знаете, что вы – это мы…
– Вот чего мне и хотелось: ведь вы не станете обращать на меня внимания? Я буду уходить и приходить, как добрый дух, – его не видят, но знают, что он здесь. Видишь, Фифиночка, Нини, Диди! Разве не прав был я, когда говорил: «На улице д'Артуа сдается хорошенькая квартирка, давай ее обставим для него»? А ты все не хотела. Я твой родитель, я стал и устроителем твоего счастья! Отцы всегда должны дарить, чтобы наслаждаться отцовской радостью. Всегда дари! Вот твое дело, раз ты отец.
– Как так? – сказал Эжен.
– Да, да, она не хотела: боялась глупых сплетен, как будто мнение света стоит счастья! А все женщины мечтают о том, что сделала она…