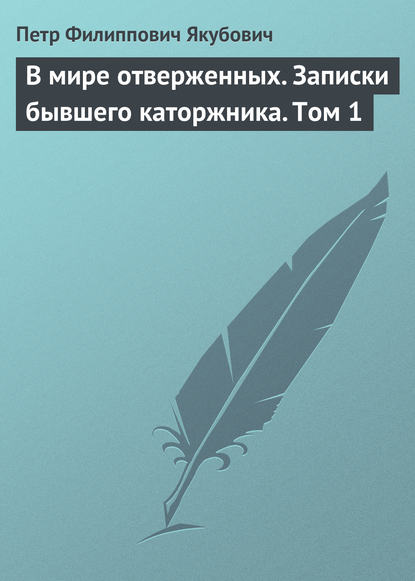По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Смотри, Николяичик, смотри: сидой… И тут сидой, и тут… Весь волос – старик!
– А сколько тебе лет, Маразгали?
– Бог знайт. Судилься Маргелан – шестнадцать лет… Судилься Верный – два год прошло… Дорога один год… Алгачи сидел – еще год… Здесь – еще полтора год.
– Значит, тебе двадцать два года.
– Да, двадцать два. Кто знайт? Мат знайт…
И при последнем слове он горько задумался.
Я давно уже чувствовал некоторый упадок собственных сил и решил, пользуясь этим предлогом, самому записаться в больницу, предвидя близость роковой развязки и желая находиться последние дни при своем любимце. Лампада угасала быстро, масло было на исходе.
В последние дни умирающий говорил со мной о боге, спрашивал, куда попадет он в бегиш – рай, или джагенем – ад? Увидит ли отца и брата? Увидит ли мать? За последнее он особенно боялся, так как в Коране, по его словам, ничего не упоминалось о будущих судьбах женщин.
Утром последнего дня он еще раз оживился, привстал на койке и начал яркими красками описывать Маргелан, восхищаясь его сладким урюком, рисом и пр., причем несколько раз прищелкнул даже языком.
– Наша сторона, Николяичик, тоджи трава есть: всякая болезнь лечит, всякая болезнь!.. Ах, здесь нет такой трава… А эти лекарства… Черт знайт, ничего не помогайт, ничего!
И он опять прищелкнул языком, чтобы лучше выразить свои горестные чувства по этому поводу. Не зная, что ответить, я нашел почему-то нужным сообщить одну слышанную мною новость, будто на Кавказе устраивается каторжная тюрьма для южных инородцев, которые не в силах выносить холодного сибирского климата. Услыхав это, он как будто обрадовался.
– Это хорошо, – сказал он серьезно. – Кавказ хорошо.
И, улегшись снова, завернулся с головой в одеяло. Я вышел. В два часа дня пришел ко мне больничный служитель Дорожкин, улыбаясь:
– Вот чудак этот Усанка! Сейчас зовет меня: "Давай, говорит, есть! Теперь много есть буду… Больше, больше всего тащи!" Я натащил ему яиц, хлеба… и он целых три яйца съел и большущий ломоть черного хлеба. Теперь спать лег.
Я рассердился на Дорожкина:
– С ума вы сошли! Что вы наделали? Ведь черный хлеб может повредить…
Дорожкин засмеялся.
– Ему-то повредить?! Да вы что? Сами-то. в себе ль вы? Все равно ведь не сегодня-завтра помрет. Пущай на дальнюю дорогу провиантом запасается.
Я замолчал. Через час Дорожкин снова вошел.
– Теперь скоро конец!
Я встревожился.
– Почему вы так думаете?..
– Потому одеяло зачал дергать и руками в воздухе что-то ловит. Уж это верный знак, будьте надежны…
С сильно бьющимся сердцем пошел я к Маразгали не заходя в комнату, стал следить в открытую дверь, Лежа на койке лицом к стене и, казалось, с раскрытыми глазами, по временам он действительно хватал что-то в воздухе левой рукой… Я тихо окликнул его – он не отозвался. На вечерней поверке он был еще жив и, внезапно поднявшись, заговорил что-то на своем языке.
– Чего ты, Маразгали? – спросил надзиратель.
– Ничего, лядно, – отвечал он и опять лег. Это были последние его слова.
Заглядывая робко в дверь, мы долго еще видели, что дышит. Устав от томительно долгого ожидания, я дремал на своей койке. Около полуночи Дорожкин разбудил меня.
– Кончился!..
– Не может быть? – вырвался у меня совершенно непроизвольный крик, которого Дорожкин не удостоил даже ответом, и я поспешил за ним в комнату Маразгали. Несколько больных арестантов уже толпились около тола, тщетно стараясь закрыть широко раскрытые, точно удивленно глядевшие глаза. Я возмутился этой поспешностью и, отогнав прочь непрошеных опекунов, взял исхудалую, как спичка, бледную, свесившуюся с койки руку, она показалась мне еще теплой. Я посмотрел и глаза, но они не глядели уже осмысленно и казались стеклянными. Усанбай Маразгали окончил земное странствие!
Дорожкин начал суетиться вокруг мертвеца.
Одна черта поразила меня в этом старом бродяге, мс признававшем ничего святого и ничего в мире не чтившем: довольно грубый и часто невыносимо придирчивый в обращении с больными, теперь по отношению к мертвому он обнаруживал какую-то странную, почти материнскую нежность и заботливость.
– Ну вот, гол-у-бчик! – приговаривал он, надевая на тело чистую рубаху, – увидишь теперь и Маргелан свой и мать… Никто тебя больше не обидит, в тюрьму не посадит!
Между тем загремел замок и в больницу с шумом вошли фельдшер и несколько надзирателей, которым было уже дано знать о смерти арестанта…
Маразгали похоронен на тюремном кладбище, недалеко от дороги, по которой каторжная кобылка ходит в рудник. Над его могилой нет креста, и зимой она вся бывает занесена снегом, а летом густо покрыта цветами багульника и томительно душистого шиповника. Какие сны грезятся тебе, мой дорогой, бедный мальчик? Нашел ли ты хоть здесь, в этой темной могиле, успокоение от своей неисцелимой тоски по далекой родине? И если да, то не лучше ли, что ты умер в то время, когда жизнь не успела еще ожесточить тебя и загрязнить твой чистый, прекрасный образ?..[35 - П. Ф. Якубович очень был привязан к Усанбаю. В журнальном тексте и в издании 1896 года читаем о Маразгали (в последующих изданиях выпущено): "Описывая Маразгали, мне именно хотелось для самого себя сохранить и запечатлеть каждую мелочь, еще жившую в моих воспоминаниях, о любимом человеке…" Об его действительной дальнейшей судьбе мы узнаем из письма Якубовича к С. Ф. Франку (брату жены): "О Маразгали могу сообщить тебе (но только тебе – по секрету), что на самом деле он остался жив и ушел куда-то на поселение, и только "в художественных целях" мне показалось лучше, чтобы он умер…",(ИРЛИ).]
Одиночество
I. В новой камере. невинные и жестокие
Рассказ мой забежал, однако, далеко вперед, и теперь я должен вернуться к тому моменту, когда при новом размещении арестантов по камерам попал в № 1. Репрессии, вызванные инцидентом с Шах-Ламасом, продолжались не дольше месяца; затем снова начались мало-помалу послабления. Возвратили котлы, отсутствие которых так смущало Никифора; небрежнее стали опять замыкать камеры; появились неизвестно откуда карты; староста Юхорев с другими иванами стал умудряться раздобывать по временам даже и водку… Единственным напоминанием о погибшей человеческой жизни остались кандалы на ногах арестантов да отобранные у меня книги, которых я не решался снова просить у Лучезарова. Впрочем, с горных рабочих и кандалы вскоре опять были сняты: ввиду неоднократно случавшихся в рудниках несчастий с арестантами, закованными в цепи, администрация горного ведомства, в общем чрезвычайно гуманно относящаяся к каторжным и часто берущая их сторону в столкновениях с тюремным начальством, ставила непременным условием, чтобы каторжные ходили и гору раскованными.[53 - В отношении кандалов тюремное начальство вообще не обнаруживало большой последовательности и руководилось больше своим настроением. Вот почему и в моих записках (как в первом, так и во втором томе) арестанты фигурируют то в кандалах, то без кандалов; одно время вечные носили даже наручни… (Прим. автора.)]
Между тем отсутствие чтения вслух было очень чувствительно в долгие зимние вечера: не занятое ничем воображение арестантов, естественно, направлялось к воспоминаниям о жизни на свободе, и мне волей-неволей приходилось быть слушателем самых ужасных, кровавых и циничных историй. Из-за тяжелого ли внутреннего состояния, покрывавшего для меня траурным флером весь мир и заставлявшего яснее видеть в людях именно их дурные стороны, или из-за чего другого, но только от этого времени сохранились у меня наиболее мрачные воспоминания о своих невольных сожителях; самые страшные рассказы врезались в память именно в этот период. Особенно одно обстоятельство пугало меня в этих рассказах: замечавшееся у большинства довольство своим прошлым и своим преступлением, чрезвычайно легкое отношение к пролитой человеческой крови, к: разбитой чужой жизни и сожаление об одном только, что не хватило ума получше скрыть следы преступления, не "пофартило" ускользнуть от рук правосудия… Даже в наименее испорченных я постоянно замечал стремление во что бы то ни стало оправдать себя, выставить невинно пострадавшим. Часто я склонялся даже к заключению, что раскаяние в том высшем смысле, в каком понимается оно образованным миром, чувство, совершенно незнакомое простолюдинам-арестантам. Всякий зародыш его уничтожается в их душе сознанием, что они терпят наказание, что их мучат и терзают за совершенный грех. В начале знакомства почти каждый каторжный, даже из самых закоренелых, старался для чего-то уверить меня, что он осужден без вины, по злобе оскорбленного им следователя или кого-нибудь из свидетелей (чаще всего свидетельниц). Я настолько привык к этим уверениям, что стал потом скептически относиться к рассказам и тех, которые, быть может, действительно попали в каторгу за чужой грех. Мне гораздо больше нравилось, когда арестанты прямо, не стесняясь, признавали себя "разбойниками, подлецами и мошенниками". Впрочем, и таких можно было разделить на несколько своеобразных категорий. Одни, самые закоренелые, как бы кичились и хвастались подобными "качествами"; это были – или действительно озлобленные до последней степени, незаурядные в своем роде люди, или же, наоборот, самые дешевые натуришки, крикуны и хвастуны, наглецы и врали, не уважаемые своими же, на жизнь человека смотревшие, как на жизнь мухи, готовые за грош или рюмку водки совершить зверское убийство и всякую другую гнусность. В довершение всего – страшные трусы. Стараясь подражать большим злодеям и приобрести славу таких же "громил", они заходили бесконечно дальше их в радикализме взглядов на вещи: не только отрицали все святое на свете, но и. походя богохульствовали и кощунствовали; не просто убивали, а выпивали еще при этом стакан живой человеческой крови; им нравилось на каждом шагу щегольнуть своей беспардонной и бесповоротной отпетостью и развращенностью. Этот разряд арестантов, живые образцы которых я в свое время представлю читателю, самый антипатичный и вредный. Мелкие душонки и убогие умишки, они неспособны ни к каким высшим движениям души, которые так часто бывают знакомы преступникам типа Семенова или даже Гончарова. Само собой разумеется, что и этот основной характер, в свою очередь, имеет несколько подразделений, начиная с самого беззастенчиво-откровенного нахальства и цинизма к кончая отвратительной двуличностью и подлипальством. Что же касается тех, которые упорно объявляют себя без вины осужденными, то повторяю: всегда следует относиться к подобным заверениям 'cum grano sails.[54 - Буквально: со щепоткой соли (лат.). Здесь в смысле: принять На веру с оговоркой, с осторожностью]
Не подлежит никакому сомнению, что сорок лет назад, во времена Достоевского, когда Россия была "глубоко несчастной страной, подавленной, рабски-бессудной", когда, кроме крепостного права, существовала еще двадцатипятилетняя солдатчина и, по выражению поэта, "ужас народа при слове набор подобен был ужасу казни", – несомненно, что в те времена в каторгу должен был попадать огромный процент совершенно невинных людей и еще больше – осужденных не в меру строго. Самые ужасные преступления могли совершаться в то время людьми вполне нормальными, нравственно не испорченными, выведенными лишь из границ терпения несправедливым и анормальным строем самой жизни. Поэтому Достоевский имел, думается мне, некоторое право идеализировать обитателей своего Мертвого Дома, состоявших почти наполовину из военных (чуть не поголовно грамотных), по душевному строю стоявших очень близко к народу; но такого права не было бы у современного наблюдателя, который задался бы целью нарисовать картину современной русской каторги. Ведь нельзя же, в самом деле, сомневаться в том, что за сорокалетний период русское законодательство и русский суд, так же как и самая жизнь и нравы, сделали огромные шаги вперед по пути гуманизма и справедливости. A priori можно поэтому думать, что в современную каторгу попадают несравненно более по заслугам, чем в былые времена, и что население нынешней каторги в главных своих частях представляет подонки народного моря, а отнюдь не самый народ русский… И действительно, несмотря на то, что добрая половина виденных мною арестантов утверждала, что пришла в каторгу за чужой грех, и почти все без исключения жаловались на суровость осудившего их "шемякинского" суда, – при ближайшем ознакомлении с их характером, с их прошлым и тяготевшими над ними обвинениями мне редко приходилось отыскивать совершенно без вины осужденного человека. В большинстве случаев, если и можно было допустить ошибку или пристрастие судей в данном случае, то сам же арестант сознавался, подобно Гончарову, что, невинный на этот раз, раньше того он совершил множество преступлений, достойных каторги, но оставшихся неизобличенными. И, сознаваясь в этом, он тем не менее жаловался на судьбу, клял все суды и законы на свете и утверждал, что его несправедливо послали в каторгу… Однако значит ли все это, что я проповедую жестокое отношение к нынешним каторжным, что, называя их "подонками народного моря", я тем самым выражаю к ним полное презрение, как к "отбросам", которые и заслуживают того только, чтобы их бросили и предали по возможности уничтожению?. Позволю себе надеяться, что все, написанное мной о мире несчастных отверженцев, удержит читателя от столь несправедливого и превратного понимания моих слов. Разве на дне моря нет перлов? Если говорится, что сверху сосуда вода отличается лучшим качеством, то разве значит это, что на дне она совершенно уже не годна для питья? И разве, главная задача моих очерков не заключается именно в том, чтобы показать, как обитатели и этого ужасного мира, эти искалеченные, темные, порой безумные люди, подобно всем нам, способны не только ненавидеть, но и страстно, глубоко любить, падать, но и подниматься, жаждать света и правды и не меньше нас страдать от всего, что стоит преградой на пути к человеческому счастью?[55 - Резюме моих взглядов на этот предмет читатели могут найти в послесловии к настоящей книге (см. т. II наст, издания) – "От автора" (post scriptum) (Прим. автора.)]
Но вернемся к нашему анализу. Существуют ли все-таки в каторге невинные, жертвы несчастных недоразумений или судебных ошибок? Теоретически говоря, несомненно существуют, хотя мне лично и не удавалось встречать таких, в невинности которых я с уверенностью мог бы поручиться. Что, например, могу я сказать об отцеубийце Дашкине, неуклюжем детине огромного роста, с неприятно-животным выражением красного лица и бессмысленно-сонными глазами, – о человеке, мыслительные способности которого имели самый первобытный характер? Он должен был отбыть в каторге, не снимая кандалов и не выходя в вольную команду, ровно семнадцать лет, а по окончании этого срока, как все отцеубийцы, отправиться в Верхнеудинский централ на вечное одиночное заключение… Всякий арестант на его месте, не имея впереди никакой надежды, только и думал бы о том, как бы "сорваться", бежать или по крайней мере перебраться в другую тюрьму, где существование несколько вольготнее; наконец, оставаясь даже и в Шелайской тюрьме, был бы для начальства бельмом на глазу, вел бы себя дерзко, лодырничал и ничего не боялся. Между тем Дашкин работал как вол, был тих и покорен как ягненок. Свежему, совсем не знавшему его человеку могло бы прийти, пожалуй, в голову, что его грызет червяк раскаяния, что он хочет заглушить муки совести тяжестью взятого на себя креста. Ничуть не бывало! Он категорически утверждал, что не убивал отца или что по крайней мере не помнит этого, так как. момент убийства был бесчувственно пьян.
– Ничего не могу сказать, сам не знаю, – говорил он растерянно, – убил али не убил, ничего не помню. Только вернее, что не я убил, а зять, потому не за что мне было убивать отца!
По словам Дашкина, он и на следствии сначала не сознавался; но потом будто бы зять, которого самого он не подозревал в то время в убийстве, убедил его сознаться, говоря, что суд отнесется к нему в таком случае мягче. Дураковатый Дашкин поверил этому и попал в тюрьму на всю жизнь. Возможно, конечно, что осуждение Дашкина и в самом деле было ужасной, истинно трагической ошибкой; но возможно, и то, что Дашкин врал, хорошо зная, как враждебно относится арестантская масса к отцеубийцам.
Гораздо чаще встречались случаи, когда человек осужден был только с формальной точки зрения законно и справедливо, но зато бесчеловечно жестоко по существу. Наиболее ярким примером такого рода было дело Маразгали, о котором я выше рассказывал. Наше уложение о наказаниях вообще чересчур сурово относится к побегам, и только в последнее время сама администрация начала обращать внимание на тот ужасный факт, что в каторге до сих пор находятся люди, осужденные совершенно "безвинно с современной точки зрения, еще во времена крепостного права, и на малые сроки, но потом благодаря частым побегам без совершения при этом каких-либо преступлений заслужившие себе вечную и даже более чем вечную каторгу!..[56 - "Вечная" каторга фактически длится двадцать лет, но сложные сроки арестантов, судившихся за побеги и другие преступления, совершенные уже в каторге, бывают несравненно длиннее (двадцать пять, тридцать и даже пятьдесят лет). (Прим. автора.)]
Но что было делать закону с таким, например, человеком, как некий Шемелин, осужденный на двадцать лет за убийство родного брата, действительно им совершенное? Закон и даже народные нравы особенно сурово относятся к подобным преступлениям. Худшие из арестантов нередко кричали на него и в шутку и серьезно:
– Ты хуже любого из нас! Ты родного брата убил! Каин! Ты вешалицу заслужил!
И старик, видимо недовольный такими окриками и в душе считавший себя бесконечно выше и лучше развращенной до мозга костей шпанки, терпеливо выслушивал их и молчал. Между тем, разбирая дело по существу, нельзя было строго винить Шемелина. Русский мужик из самой глухой и забытой богом местности, выросший, как пень в лесу, среди таких же, как сам, темных и первобытно-простых умов, набожный, трудолюбивый, запутанный, богатый терпением и выносливостью, наконец, по-своему глубоко честный, он был обижен старшим братом, который оттягал у него клочок земли и ни за что не хотел вернуть. Спор из-за межи шлея целых семь лет, то затихая, то вновь вспыхивая, как потухающий костер, в который упадет новая щепка, постоянно поддерживая в братьях вражду. Старший был, по-видимому, смелее и нахальнее. Фактически завладев землей, он еще дозволял себе при всем народе издеваться, "галиться" над младшим. Шемелин сам говорил, что несколько раз приходило ему в голову убить брата, но бог каждый раз отводил от греха его руку. Но наконец и его терпение лопнуло; и когда в один из воскресных дней брат, нарядившись в праздничную одежду, шел мимо его дома в церковь, он выстрелил в него из ружья и убил наповал. Шемелин никогда не защищал своего поступка, никогда не говорил, что так и в другой раз поступил бы, но он не сознавал, с другой стороны, и всей моральной тяжести этого преступления глядел на него не как на грех, который нужно искупить муками каторги, а лишь как на несчастье, которое нужно как ни есть избыть. Молчаливый и уклонявшийся большей частью от всяких споров и пререканий с товарищами-арестантами, в душе он все-таки считал себя хорошим человеком, имел своего рода гордость честности. Любил он, например, рассказывать, как в дороге на одном из этапов вернул торговке лишний двугривенный, который та дала ему сдачи, и как вся кобылка подняла его за это на смех. Этот первобытный ум ярче всего обрисовался мне в одной беседе, происходившей в камере по поводу прямых и косвенных налогов. Среди каторжных были доки, для которых теория и практика государственных финансов были сущими пустяками. Один из них, ругая на чем свет стоит правительство, сыпал фактами и цифрами. Остальные внимательно слушали его и поддакивали. Наконец молчаливый Шемелин не выдержал и певуче протянул:
– Ну, это ты вре-ошь.
– Что вру?..
– Да что эстолько берут с нас. У меня, к примеру, и в жисть столько денег не было, сколько ты в один год начел.
– Как? А ситец на рубаху себе или на сарафан бабе ты покупал?