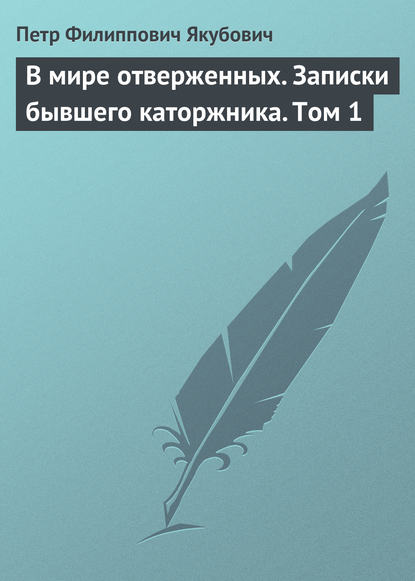По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А бог его знает. Стало быть, горный хозяин.
– А вы сами видывали его, хозяина-то?
– Я-то не видал, а люди видали… Почему же и до сих пор вот, где большие выработки есть, строго-настрого запрещается рабочим петь и свистать в горе.
– Это почему же?
– Ну, стало быть, потому. Стала, он не любит! Со стариком, который показался мне. вначале несимпатичным и плутоватым и которого арестанты называли "горным духом", с течением времени я сблизился и нашел в нем жалкое, забитое, покинутое всеми создание, невольно внушавшее к себе сожаление. Умственный мир его был очень неширок и незамысловат: в прошедшем – Разгильдеев, а в настоящем и будущем – постоянная тревога за те несчастные десять рублей в месяц, которые платил ему уставщик Монахов за исполнение обязанностей сторожа. К счастью, закаленный в огне разгильдеевщины, семидесятилетний старик был еще здоров и крепок, несмотря даже на то, что питался одним черным хлебом и кирпичным чаем. Мы подолгу болтали с ним в те дни, когда у меня рано оканчивалась работа. Страшные вещи рассказывал старик о временах разгильдеевщины, о том, как тяжела и непосильна была работа на Каре, как колодники болели и мерли, точно мухи осенью, и как во время холеры их живыми еще таскали сотнями на кладбище… Несправедливости и обиды чинились каторге возмутительные. Во время работы даже отдыхать, курить и есть запрещалось; приходилось украдкой, вынимая из-за пазухи, кусать ломоть хлеба. Забитое и запуганное было времечко…
– Неужели же Разгильдеев никогда добрым не бывал? – спросил я однажды, и старик оживился. Морщинистое лицо покрылось приятной улыбкой, и потухшие, поблекшие глазки засверкали.
– Как не бывать! И на зверя, бывает, пора находит дачная. "Вот раз… Как сейчас помню… Дождливый-дождливый был день. Мы с товарищем вдвоем по колено весь день в воде простояли на шурфах; промокли, прозябли, насилу-насилу урок к вечеру сробили. Вот идем, и говорит товарищ: "Давай-ка, брат, песню с горя затянем". Взяли и затянули:
За тихим бродом речки-переправою
Не ковыль-то трава во поле шатается:
Зашатался я, удал добрый молодец…
Загнала-то меня служба царская,
Служба царская, государская.
Тяжела-то мне служба царская,
Та ли служба с утра день до вечера,
С вечера до самой до полуночи!
Со полуночи с неба звезды сыплются…
Рассыпалася наша сила-армия,
Сила-армия, разгильдеева партия.
И по падям-то, падям широкима,
И по шурфам-то, шурфам глубокима!
Долгая она песня, не помню дале. Вот поем это мы, вдруг…слышим:
– Кто там поет? Сюда!"
Смотрим, на крыльце дома человек стоит. Подходим, шапки сымаем и видим – сам полковник. "Пьяные, што ли?" – спрашивает. "Никак нет, отвечаем, наше высокородие, с работы в казарму идем". – "С какой же радости вы поете?" – "Как с какой, говорим, радости? Вот промокли мы, иззябли до костей, проголодались, а теперь урок кончили. Придем в казарму, обогреемся, обсушимся". – "Ступайте, говорит, за мной!" – и ведет нас обоих к себе на квартиру. Ну, думаем, беда! Приводит нас в большую горницу, показывает на стол: "Садитесь, говорит, гостями будете". Зовет потом повара и велит нам ужинать дать, тащить все, что только в доме… А сам выносит нам по большому бокалу вина. "Пейте! – говорит. Ослушаться нельзя. Выпили мы. С перепугу не знаем, что и делаем. А он, глядим, еще по одному же бокалу подает: "Пейте еще". – "Нет, говорим, довольно, ваше высокородие, не то захмелеем, завтра на разрез не сможем выйти". – "Ничего, говорит, я в ответе. Помните, как Разгильдеев свою силу-армию угощал". Потом берет бумагу, пишет какую-то записку и кладет мне за пазуху: "Покажи, говорит, утром дежурному". Как мы домой добрели, я уж и не знаю. Пьянехоньки оба, потому много ль надо ослабевшему человеку? Поутру раным-рано на работу будят. Меня тоже толкают, а я ничего и понять не могу. Язык не ворочается, за пазуху только руку сую: "Тут", – говорю. Посмотрел дежурный на записку и рот разинул: "Да ты, говорит, самим Разгильдеевым освобожден на сегодня от работ". Около этого же времени познакомился я и с уставщиком Монаховым. Толстопузый, с красным опухшим лицом и благодушным смехом, выходившим скорее из упитанной утробы, чем из горла, внешним видом он мало напоминал то слово, от которого происходила его фамилия. Казалось, никакие житейские заботы и никакие умственные интересы не занимали его и из всех чувств, способных волновать человеческую душу, ему было доступно одно – чувство всеодуряющей скуки, от которой днем он искал спасения в светлячке, в болтовне с арестантами и казаками, а по вечерам и ночам в картах и выпивке. В последнем отношении он славился по всему Шелайскому округу: решительно никто, не исключая и бравого штабс-капитана, мало уступавшего ему в дородстве, не мог его перепить. Если когда-нибудь и существовали у Монахова высшие интересы и стремления, то он давно уже позабыл о них; прочитывал случайно подвернувшийся обрывок газеты, журнала, статейку, в которой, по слухам, был намек на известные ему местные дела и отношения, и дальше этого не шел. Политические взгляды его во всякий данный момент определялись взглядами ближайшего горного начальства, к которому он ездил время от времени представляться и делать доклады о ходе работ в Шелайском руднике. Монахову, конечно, прекрасно было известно, что никаких результатов и плодов от этих работ горное ведомство не ожидает, и потому он не сильно о ник заботился, предоставив все ведать и за все отвечать нарядчику; сам же следил только за успешностью и продуктивностью работ столяра, бондаря, слесаря и кузнеца, которые снабжали его мебелью, шкафами, столами, самоварами, оковывали казенным железом его сундуки, телеги и пр. За исключением тех случаев, когда накануне бывало бесшабашное пьянство, Монахов не пропускал ни одного дня, чтобы с раннего утра не забраться в светличку и не болтать там с конвоем и арестантами обо всем, что взбредет в голову, рассказывать анекдоты, подшучивать, острить, одним словом, употребляя арестантское выражение, тереть волынку. Он вскоре узнал, конечно, кто я такой, был со мной утонченно вежлив и даже пытался вести разговоры иного рода, но я чувствовал, что разговоры эти тяготят его, что этому ожиревшему мозгу трудно подниматься на давно забытые вершины, и торопился уйти в штольню, хотя бы там у меня и не было никакого дела. Кончала кобылка свои уроки, выходила из светлички выстраиваться – выходил вслед за нею и толстопузый Монахов. И долго-долго стоял на одном месте и смотрел вслед за нами, словно раздумывая о том, идти ли ему домой обедать или закатиться куда-либо в гости. Но круг шелайского бомонда был невелик, и, подумав и поколебавшись, Монахов начинал карабкаться в гору, в свое холостое и неприветливое гнездо. Но вот по дороге к тюрьме нам попадалась навстречу гремевшая бубенцами тройка, в которой летел к нему какой-нибудь гость из завода, горный или другой чиновник.
– Ну, теперь пропал наш Монахов, – говорила промеж себя кобыл, – с неделю глаз не будет казать.
Неловко чувствовал я себя в те дни, когда в штольне происходила обивка. Тут я видел полнейшую свою беспомощность и бесполезность, видел, что сижу па плечах у другого. Самое большое, что я мог делать, это держать свечку или наставлять кирку; балдой же работал Семенов. или кто другой из силачей. Никто из них, правда, не роптал на меня; но мне самому бывало жалко и противно мое бессилие, мое дворянское худосочие. Слушая, как стонет гора под могучими ударами Семенова и как сам он при каждом взмахе молота рычит, подобно голодному тигру, видя, как трясутся и падают под его балдой увесистые глыбы гранита, казавшиеся мне несокрушимыми твердынями, я, сидя где-нибудь в сторонке на корточках со свечкой в руках, съеживался, скорчивался, душевно и физически превращаясь в настоящего ребенка, которого пугала эта стихийная, всесокрушающая сила… Мне казалось, что сила эта может при желании раздавить меня, как червяка, и что всякое сопротивление с моей стороны будет и смешно и бесполезно. И думалось мне в минуты отчаяния: вот правдивый образ народа и интеллигенции! Как он могуч и как вместе темен и слеп, этот несчастный труженик народ, и как жалка ты, зрячая интеллигенция, пылающая горячей любовью к нему, мечтающая о вселенском братстве и счастье, но имеющая такие слабые руки, такую ничтожную волю для осуществления высокого идеала! Кричи, плачь, взывай – твои вопли бесплодно замрут в глухом лабиринте действительности и не будут услышаны титаном, оглушаемым дикой музыкой своей повседневной работы, этими звуками, от которых вздрагивает мать-земля и с нею наше бессильное, пугливое, сердце. Титан ничего не слышит, весь обливаемый собственным потом и кровью. Он только рычит, как лев, при каждом взмахе своей исполинской руки, и горе, горе тебе, если ты сумеешь оторвать его от этой работы и первый будешь замечен им! Лев растерзает тебя – и что же останется от твоих светлых мечтаний, от твоего горячего, любящего порыва?.. Одни паразиты останутся, чтоб продолжать свое гнусное дело…
– Будем продолжать наше дело, Иван Николаевич! – кричит во все горло Ракитин, появления которого, занятые работой, мы с Семеновым и не заметили. Он кончил свой урок в шахте и теперь прибежал посмотреть, что я делаю.
– Давай-ка, Петруша, мне балду. Вот как развернусь я да ударю, тряхну своей старинушкой дорогой, так ажио искры посыплются…
– Из глаз, – говорит Семенов, подавая ему балду. Ракитин действительно ударяет раз пять-шесть, но скоро ему надоедает это занятие, и, усевшись, он принимается болтать о чем попало.
Не без удовольствия вспоминаются мне те дни, когда я работал в штольне вдвоем с "осиновым боталом". Работа подвигалась тогда медленнее, но зато было веселее. Даже когда Ракитин находился в меланхолическом настроении и склонен бывал к философским и лирическим излияниям, и тогда одно какое-нибудь слово его, одна выходка разгоняли во мне сразу всякую меланхолию. Однажды он был в истинно трагическом положении. Выбурив уже вершков семь, он сделал вдруг самое плачевное открытие:
– Иван Николаевич! А Иван Николаевич, – жалобно позвал он меня, – ведь у меня беда.
– Какая беда?
– Камень-то, смотрите-ка, шатается!.. Того и гляди совсем отпадет.
– Ну так что ж? Тем лучше. У Петра Петровича патрон сохранится. В другом месте забуритесь.
– В дру-гом?! А эти чтоб семь верхов так и пропали? Все труды, то-ись, мои? Что вы, Иван Николаевич! Да они разве поймут? Разве они способны? Они мне же еще строжайший выговор сделают, что забурился неладно; еще с запиской, чего доброго, в тюрьму пошлют.
– Ну, этого до сих пор не случалось. Петр Петрович, кажется, не такой человек.
– Все они до поры до время хороши! А по-моему, Иван Николаевич, что белая овца, что черная – дух один. Не заплакал бы я, кабы и все они сегодня к вечеру подохли, а завтра к утрию пропали! Нет-с, почтеннейший господин мой, на этих людей завсегда удобнее с опаской поглядывать. Беречь себя надо, чтобы все, значит, в исправности было.
– Но ведь этот камень все равно отвалится? Сморите, какую уж трещину дал.
– Тс! не шевельте-с. Эхма! Да посмеет ли он у нас отвалиться, Иван Николаевич? У Егора-то Ракитина? Чтоб у Егора Алексеевича Ракитина отвалился? Чтоб семь верхов моих пропало, трудовых кровных семь! Да никакого этого… Ой-ой-ой! Валится, Иван Николаевич, ей богу, валится… сейчас вот упадет… Придется коленком поддерживать. Мне бы до восьми только и достучать-то, еще вершочек один. Тут и не надо больше, восьми вполне будет достаточно.
И с уморительно серьезным и печальным видом он принялся потихоньку бурить, все время поддерживая двухпудовый камень коленом. Я хохотал до упаду, глядя на эту картину, а Ракитин не переставал бурить и в же время болтать, то жалуясь на свою судьбу и проклиная злополучный день, когда он на свет зародился, то переходя внезапно к бодрому и разудало-веселому настроению, для которого все на свете – трын-трава!
Наконец ему удалось-таки добурить до восьми вершков, и камень не отвалился. Ракитин радовался этому как ребенок, плясал, визжал, даже через голову перекувырнулся. Потом сел, подперся, пригорюнившись, рукой в щеку и запел свое любимое:
На серебряных волнах,
На желтом песочке
Долго, долго я страдал
И стерег следочки.
Однако беда еще не вся была поправлена: трещина в камне была настолько велика, что нарядчик, придя палить, непременно должен был заметить ее. Потому Ракитин отправился в светличку, конспиративно приготовил там глины и, вернувшись в штольню, тщательно замазал все щели около своего шпура. Петр Петрович был проведен.
– А нам больше что же и надо? – говорил, лукаво посмеиваясь, Ракитин. – Чтоб желоб был замочен, чтоб дырка готова была: а какая она, это уж дело божие и нарядчиково.
Ракитин находился в числе сорока человек, представленных в вольную команду, и с нетерпением ожидал выхода на свободу. Но странное дело: ни малейшей вражды к Шах-Ламасу, поступок которого отдалил его освобождение, я никогда в нем не замечал. "Не пофартило, значит" – вот единственное объяснение, которое давал он своему несчастию, и предпочитал не о прошедшем тужить, а о будущем мечтать. Он то и дело возвращался к разговору о вольной команде.
– Вот хорошо-то было б, Иван Николаевич! Ведь я уж три года, почесть, света белого не вижу; жену и сыночка в этаком виде нечеловечецком принимать должен на свидании: на ногах бруслеты, и краса с головушки бритой снесена! А как выду я на волю, Иван Николаевич, да в вольную одежду наряжусь, так вы, повстречав меня, так и ахнете: где, скажете, красота такая на свет зарождается? У меня, знаете, у жены в сундучке шапочка такая пуховая сохраняется, ровно котелок быдто…
– Жаль только, жены-то вы не любите… Она, говорите, старая?
– Эх, Иван Николаевич, мало ли что наш брат говорит! Язык-то тоже ведь скучать не любит. Как можно жены родной не любить? Это правда, конечно, что она лет на десять меня старе и теперь как есть вовсе старушоночка. Ну, а все же закон я соблюдать должен… особливо по трезвому виду. Пьяный – ну, тогда другое дело. Искра эта дьяволова ежели попадет нам в горло, тогда на человеке нет ответа…
– Чем же вы хлеб станете добывать в вольной команде?
– Примудримся, Иван Николаевич, примудримся! Первое дело – у меня к торговле большое склонение есть. Второе дело – жена у меня на все руки мастерица большая: и шить, и стряпать, и торговать тоже. А главное, Иван Николаевич, тут секретец один нужно знать, чем торговать.
– Чем же?
– Да этой самой водицей дьяволовой.
– То есть водкой?
– Ну да-с, в точку самую попали – ею-с.
– Но ведь если попадетесь, опять в тюрьму засядете?